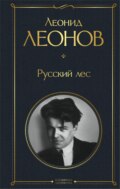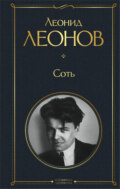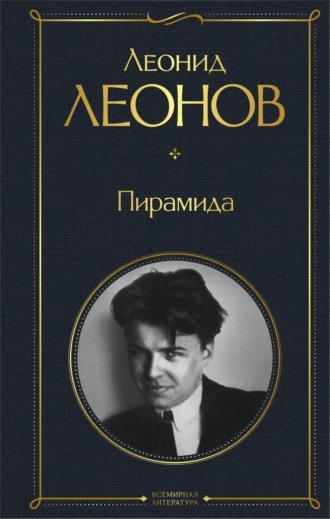
Леонид Леонов
Пирамида
Прикосновенье к огню немыслимо без ожога, и толчком к цивилизации послужило страданье. Подобно тому, как драгоценные камни вызревают в бешеном вскипанье вещества, точно так же из сгустков боли выточены наиболее долговечные трагедии, реквиемы, этапные формулы и прочие лакомства ума. Нет у нас лучшей утехи, чем под вечерок, склонясь лицом, созерцать копошенье человеческого планктона, как они там в мириады усиков, жгутиков, окровавленных рук осваивают плотную мглу… и как потом, уже бездыханные и простреленные, книжными призраками бегут сквозь века с призывом к неродившимся на штурм мироздания, чтоб разбиться о манящее зарево впереди… что почти предугадал ваш Матвей Петрович, ради которого и пригласил я вас сегодня.
Все это было до щекотки странно слушать Никанору. Как и многое другое, сказанное здесь походило на попытку Шатаницкого подправить через студента в глазах мировой общественности сложившуюся репутацию адского владыки как матерого ненавистника людей ввиду близкого, по обывательской молве, воцарения на троне антихриста.
– У меня имеются сведения, – доверительно продолжал Шатаницкий, – что теми же раздумьями о грядущем мучается и оригинальный мыслитель нашего времени, вышеупомянутый Лоскутов, почти разгадавший тайну появления людей. Его открытие в корне опровергает как теорию древних – будто органика завелась в настое гнилых опилок, так и более позднюю, столь же глубокую – о симпатическом влечении атомов и молекул объединяться в микроскопические организмы с перспективным выходом на трилобит, рыбу, обезьяну, Адама… вплоть до великого вождя, который взялся возглавить скоростной, через голову поколений, переброс человечества, и уже без интеллектуальных излишеств, следовательно, без биологического износа, то есть в жизнь бесконечную, чем достигается земное и, как показывают вкрапления всяких букашек в кусках миллионолетнего янтаря, гарантированное бессмертие уже не отдельной особи, а всего вида в его стандартном насекомом существованье.
Сложившаяся у вашего Матвея Петровича нынешняя надкосмическая ситуация настолько совпадает с моими опасеньями, что возникает необходимость заблаговременно совместно обсудить очевидные отсюда роковые последствия для человечества. Вот я и пригласил вас спросить – не возьмете ли на себя… – начал он и оборвал на полуфразе.
Вдруг из-за портьерки позади у них послышались неприличные звуки: как бывает у некоторых тучных особ спросонья – сопенье, чавканье и наконец сопровождаемый стеклянным дребезгом грохот упавшего железного предмета. Это заставило хозяина привстать с вопросительным ожиданьем еще чего-то. Когда же последовало глухое чертыханье на неизвестном диалекте, корифей яростно рванулся в соседнее помещенье на шум, жестом наказав студенту оставаться на месте…
За портьерой в стекле книжных шкафов отражалась внутренность комнаты с нарочито-показным реквизитом классического астролога – внушительный бронзовый глобус ночного неба с нарисованными на нем символами созвездий, непонятной конструкции и неизвестно куда нацеленное телескопическое устройство и в золоченой раме, как оказалось, лишь магам известная, иероглифическая монада средневекового монаха Джона Ди и разная мудреная мелочь для мистической достоверности фальшака, и наконец, на диване в углу громоздилось в лиловато-лоснящемся балахоне до пят вовсе фантастическое существо, кто-то из ближайших сотрудников корифея, приглашенный сюда на расправу. На него-то и устремился хозяин. Однако причиной его раздражения был не валявшийся на полу разбившийся торшерный светильник, который страшилище, потянувшись в полудремоте, задело копытом, а упомянутый мельком дьякон Аблаев, что позволило студенту разгадать подоплеку происшествия. Мощными пассами вжимая провинившееся исчадие ада в глубь дивана, он вдруг, не прикасаясь и без повреждения мебели, проткнул его сквозь стенку наружу, и Никанор правильно расценил устроенный для него балаган, хотя бы потому, что падение с тысячеэтажной высоты и в зимнюю стужу не сулило Минотавру простуды и увечья.
– Ложная тревога… кошка лампу уронила… – как ни в чем не бывало пояснил вернувшийся к гостю хозяин, искоса следя за выражением его лица – знает ли. – Так на чем мы остановились? Да, речь шла о вашем Матвее Петровиче, которому, намекну по секрету, история готовит поистине всемирно-историческую роль. Так вот по единству наших тревожных с ним предчувствий грозного и совсем близкого теперь кризиса мироздания в целом, я и пригласил вас спросить tete-â-tete – не возьметесь ли вы ради общевселенского блага устроить наше обоюдо-желательное знакомство, поскольку и сам священник весьма интересовался моей персоной?
– Вас не смущает, что нынче по уходе из сана он лишь скромный мастеровой сапожного дела без особой философской подоплеки, – озадаченный таким напором, в чем-то усомнился Никанор.
– О, сегодня подоплека эта у каждого таится на уме. У нас найдется, чем ее к жизни пробудить… Однако обывательская молва навечно омрачила имя мое каверзным ореолом… так что, ввиду вполне возможных протокольных препятствий к нашему общению, выбор места и времени встречи предоставляется на его усмотренье. Передайте ему, что он нашел бы во мне корректного, почтительного собеседника. И разумеется, никакого сабантуя: пища мудрых не та, что в уста, а что исходит из уст оных. Как вы понимаете, при моей служебной загрузке и чтобы не торопиться, меня устроил бы выходной день, лучше всего первомайский праздник… – сказал хозяин и напрасно ждал ответа на свои бессвязные откровения, которые Никанор воспринимал как словесную пасту для заполнения пауз в разговорной речи, особенно когда беседа ведется ни о чем.
Естественно, корифей правильно истолковал ироническую усмешку своего биографа:
– Теперь по старой дружбе, коллега, раскройте смысл загадочной улыбки во всю ширь лица, придающий дополнительный шарм вашему облику, – сквозь зубы прибавил профессор, уставясь в его лоб под нависшей сверху шевелюрой.
В ответ Никанор поблагодарил его кротко за недвусмысленный комплимент. По счастью, аудиенция подошла к концу. К тому часу благоговение неофита сменилось дерзким сомнением в достоверности поначалу пленившей его музейной старины с ее невероятной сохранностью, словно вся изготовлена была накануне. И объяснялось это не столько обычной эфемерностью чудес, образуемых на куда меньшем количестве координат, чем любая реальность, с той небрежной поспешностью, с какой бессмертные создают их муляжи для профанов, неспособных подметить отсутствие такого наглядного в данном случае сертификата древности как паутина времени.
Между прочим, студент без гарантии успеха обещал наставнику при ближайшей оказии разведать у Матвея Петровича о его согласии побеседовать на главную тему текущей действительности, правда, предприятие одинаково щекотливо для обеих сторон – как для верующего, пусть бывшего священника, так и для выдающегося, партийным доверием облеченного декана в смысле его политической репутации, причем напомнил общеизвестный альянс покойного наркома Луначарского и тогдашнего живоцерковного митрополита Введенского, которые, как утверждает столичная молва, сразу после своих публичных богословских диспутов в Политехнической аудитории чуть не в обнимку и на извозчике устремлялись в ресторацию для продолжения беседы уже в уютной обстановке с умеренным винопитием. Разговор закончился на лестничной площадке, и не успел Никанор уже из лифта произнести для солидности нечто остроумственное напоследок, как дверцы сомкнулись, и кабина бешено помчалась вниз со срамным гулом воды, извергаемой из туалетного бака. На сей раз, видимо, для удобства пассажира выплеснули прямо на улицу, безлюдную теперь: тем временем к сумеркам ясную погоду сменил густой, с ветерком снегопад.
Скоростной полминутный спуск обошелся без дурных последствий, если не считать гадкой тошноты и легкой одури, которая, как всегда у Никанора, уступила место принципиальным раздумьям о случившемся. В частности, зачем понадобилось Шатаницкому приглашать его в поднебесный к себе апартамент, полный всяких трюков и бутафорских диковин с апокалиптическим быком во главе, – вряд ли с целью угостить безобидного парня экзотическим Еноховым мифом о предвечной ссоре небесного начальства возле покамест глиняного первочеловека или еще более несуразным библейским анекдотом о его же, чуть позже и в райском саду, грехопаденье при содействии супруги… И тут по совокупности изложенных обстоятельств пришел к наиболее правдоподобному выводу, что, возможно, из амбициозных соображений стремясь подправить положенный ему потусторонний, по мере привыкания заметно гаснувший ореол в глазах будущего биографа, корифей решился не только блеснуть, но и малость припугнуть беднягу своим величием в пределах его воображения. Вдруг поддавшись смутному ощущению, будто кто-то из поднебесья, с тысячного этажа, смотрит ему вдогонку, он, суеверно обернувшись, вскинул голову тому навстречу, но как ни всматривался в пестрящую метельную мглу над собою, машинально смахивая талую влагу с лица, так и не усмотрел ничего: ни огня в окне, ни самого зданья, словно сгинуло вчистую, как и следовало ожидать от обычного гипнотического наваждения.
Удобная оказия исполнить порученье выпала уже на следующий вечер после ужина под свежим впечатлением разговора, и почти в том же словесном оформлении, как было выполнено накануне.
– На днях декан нашего факультета, шеф мой, вами очень интересовался, – как бы ненароком, с недомолвкой обронил Никанор. – Ищет случая познакомиться с вами.
– Да ты очумел, видать! – вскинулся на него батюшка. – Ай не слыхал, кто он на самом деле есть?
– Что касается меня, то я, находясь при нем второй год, никаких наличных рогов или хвоста не замечал. Это все слухи обывательские, Матвей Петрович, суеверье одно.
– Так это бесовские регалии у мелкой нечисти бывают, а бывалошные министры при себе не имели полицейскую шашку, которая низшим чинам полагалась для постоянного ношения и в народе селедкой именовалась.
– Неужели вы в мыслях допускаете, чтобы советская власть доверила воспитание молодежи выходцу из преисподни?..
– Так почему не опровергает клевету такую?
– Ему лестно и, видимо, на этой основе рвется к высшему академическому званию. Да чем ее, такую репутацию, опровергнуть? Нынче категория нечистый дух – такая же редкость, как гений – понятие социально-оскорбительное для большинства. Вроде объявишь публично: извините, товарищи, я не гений. А тебе посмеются в глаза – отколь ты возомнил такое. Мы и не думали на тебя, голубчик, что ты гений. Вот и получается двойной конфуз, Матвей Петрович! Кстати, очень высоко он о вас отзывается, как о мыслителе нашего времени…
– Да зачем же я ему вдруг понадобился? – испугавшись подобного сходства, смущенно пожался поп.
– А чтоб совместно обсудить одну сверхидейку, которая в самом зародыше пока.
– Эго какую еще там сверхидейку, он не приоткрыл? – глубже увязая в западне, уже вполсилы сопротивлялся батюшка.
– А ту самую, что у вас на уме и которую во избежанье огласки он подтвердит вам наедине. Намекнул только, что ввиду секретности и не откладывая в долгий ящик, учинит ваше с ним свиданье Первого мая, когда все сыскное вниманье наблюдателей будет отвлечено в праздничную сторону. Кстати, крупнейшие праведники древности не гнушались вступать в философские поединки с бесами для посрамления оных в их гадком существе. Ну и каково будет ваше решение?
– Вот уж не знаю, не знаю, щекотно как-то… – оглаживая себе колени, растерянно бормотал Матвей, и уже соглашаясь принять у себя на дому исконного, по апостолу, врага рода человеческого, то есть совершить даже и для бывшего иерея чудовищный акт, тем не менее обязательный, если толковать его в духе высшего пастырского служения. В зловещем нарастанье общественных потрясений под прикрытием пресловутой исторической необходимости явно ощущалась чья-то тайная могущественная воля.
Глава XII
Итак, Никанору Шамину еще и раньше знакомы были эти фантастические, мнимоученые при безупречно-энциклопедической точности импровизации пресловутого корифея, вероятно, тем в особенности и пленительные для мыслящей аудитории, что большинство сообщаемых там сведений относилось к разряду бесполезных, то есть необязательных ныне, а то и вовсе запрещенных знаний. Но если поначалу слушатель чуть ли не каждую фразу лектора встречал вздохом благодарного восхищения за блистательные порою фокусы ума, то уже через полчаса – россыпи пестрых фактов и словесных побрякушек, всегда с оттенком базарного фиглярства и сардоническим подергиваньем губ и глаз – это чередованье обманных ходов и логических зияний начинало действовать, как и всякая качка, погружавшая в гипнотическое оцепененье с некоторыми физиологическими позывами, обычными и при отравлении ложью. Но Шатаницкий обладал опасным даром фанатиков черпать свои доводы из наиболее вразумительных возражений противника, и лучше было молчать с ним, тем более что только непротивлением ненависти можно довести до саморазоблаченья всякую размахавшуюся шарлатанщину. Однако что-то бесконечно древнее, полузабытое людьми, хотя и таилось в основе всех вещей, все сильнее слышалось тогда Никанору в этих своеобразных мистериях, пока из адского, в меловой маске, альбиноса не проступал высокий согбенный и в самой ужасности своей чем-то благообразный старец, ищущий утехи от незаживляемых, потому что непрошенных скорбей в уродливой и беспощадной шутке. Отсюда и рождалось у студента полусочувственное любопытство к его неведомой провинности, покаранной тем самым, что во всех космогониях должно было бы выражать торжество победителей и горе побежденным: бессмертием и мудростью. А там уж не более шажка оставалось до полного оправдания Зла, чего собственно и добивался Шатаницкий… И так как всякий раз потом требовалось по-собачьи сделать содроганье кожи, чтобы отряхнуться от его нечистого очарованья, Никанор заранее изготовился к сопротивлению.
– Как видно, застигшее вас врасплох явление ангела вынуждает меня вкратце, с глазу на глаз, посвятить вас в некоторые предосудительные знания, – сказал Шатаницкий.
– Речь пойдет, милейший Шамин, о стоименном древнем океане, омывающем крохотный островок человеческого сознания с самого его выхода на солнечный свет из пучины. Умственная навигация, хотя постоянно и расширявшая свои лоции, тем не менее всегда зависела от не склонных к шутке, на охрану веры приставленных персон, чьи фантазия и одаренность не простирались дальше уставного догмата и здравого смысла, этого излюбленного компаса посредственности, тогда как конечные истины бытия, не для огласки открою вам, милейший Никанор, начертаны на языке безумия… Наше сожаление прежде всего относится к данной стране, где любая идея в еще большей степени, нежели ее сезонно-укороченное земледелие, в условиях беспощадной континентальности вынуждена бывала вести проповедь с расстегнутой кобурой для сокращения сроков. А то, пока убедишь иного упрямца, глядь и снежок во дворе, а там и до ледника недалеко: все возможно в бескрайних просторах России. Еще неизвестно – басурманской ли трехсотлетней неволей или климатической невозможностью в одно поколение достичь гор златых питается пресловутая, со столь жесткой изнанкой, национальная русская грустинка! Сверх того всем великим доктринам, как и мощным владыкам, свойственно посередь пира с ужасом читать огненные письмена на стене и помышлять о неизбежном дряхленье впереди, и тогда под видом отеческой заботы о потомках, как бы во имя сбережения их от заблуждений, они стремятся предписать им свой уклад жизни и тем продлить себя в веках посредством заблаговременного истребления всех потенциальных очагов инакомыслия. Так и здешний материализм руководится предпосылкой, что после успешной разгадки некоторых школьных тайн природы ему наперед известен ход вещей и принципиальный механизм прочих стихийных частностей, по нерадивости ученых затаившихся кое-где по щелям от разоблаченья. Человеку на всех стадиях его развития, хотя и в обрез, хватало наличных знаний для объяснения всего на свете… Икающий над только что обглоданной костью косматый предок тоже полагал, что достаточно глубоко освоил окружающую действительность. Но, согласитесь, было бы до крайности противно, если бы все тайны сущего отпирались одним ключом, хранящимся в заднем кармане брюк у текущего, так сказать, мыслителя… не так ли?
Не странно ли, что мы соглашаемся допустить нечто мыслящее инакосущее лишь при условии абсолютного, вплоть до химического, подобия себе… Хотя вместо предписания неведомым мирам своих законов, было бы логичнее выводить последние из взаимодействия их собственных составляющих элементов. Признавая юридически душу во многих гадких, вполне бесполезных человеческих тварях, утверждающий свое бытие ежесекундной гибелью младших и слабейших, род людской, по вполне понятным мотивам морального удобства, отказывает в ней могучим и гордым деревьям или прекрасным, но съедобным животным, хотя бы в пределах разумной траты без истребления. Но почему же, почему, квартируя на такой до банальности ничтожной пылинке, люди не считают пылающие вселенские объекты достойными для местопребывания иной, сознательной жизни? Если обособленная капля остылого и усталого земного вещества, шлак многократных перегонок по тиглям и фильтрам, на полпути к температурному покою смогла наделить своих питомцев способностью самостоятельного движенья, чувства и обмена со средой, то легко представить возможности молодой и в бешенстве своем необузданной звезды… Тут-то и вступает в действие главная, животворящая химия свободной диссоциированной материи. Достопочтенный сэр Вильям Гершель, путешественник по ночному небу и родоначальник звездной астрономии, открыватель Урана и строитель галактической модели, проложивший штурманскую лоцию солнечной системы к созвездию Геркулеса, и прочая и прочая… видимо, по несовместной с титулами склонности к музыке даже подозревал существование жителей на солнце. И, может быть, кому-то там термоядерный зной всего лишь расчудесная погода, и в этот самый, тысячелетье длящийся миг где-то там, внутри, на раскаленных отмелях нежатся рыже-пламенные, а то и вовсе иррациональные черные левиафаны, потому недоступные для телескопического наблюденья, что во избежанье простуды не высовываются наружу… В самом деле, что вам известно, студент Шамин, о состоянии материи перед началом и в конце ее далеко неравномерного пробега? Вы все, как дети, тешитесь вашей мнимой властью над материей, которая, притворись послушной, правит нами по собственному произволу. Что всего обиднее, мы для нее как бы пустое место, потому что ровным счетом ничего не прибавляется при нашем появлении на свет, ничего не убавляется по уходе. Возможно, она даже не испытывает законной гордости, что в одной из ее случайнейших проекций образовался великий кормчий, который не покладая рук ведет нас от победы к победе. Нет, нет, я не совращаю вас в какой-либо возмутительный уклон или, еще хуже, в либеральную философскую секту, насчет чего неустанно предостерегает нас выдающийся соратник великого вождя по эпохе, чей юбилей собираются дружно отметить труженики мира…
– Товарищ Скудное… – как бы вырвалось из груди Никанора Шамина.
Наставник физически ощутимо поласкал его глазами с головы до пят, также в обратном направлении:
– Рад за вас, что вы предугадали имя, которое я с благоговением хотел произнести… Еще меньше грозит вам сеанс популярной фантастики на тему о кремнево-силикатных переселенцах с иных галактик, мне хотелось бы заронить в вас искорку сомнения, с которого начинается критическая зрелость ума. Словом, мы с вами займемся рассмотрением одного из допустимых вариантов бессмертной концепции о бесконечности миров… было бы банально видеть здесь указание всего лишь на обилие планет. Вероятней всего, предполагаются вселенные ядерных недр, полноправные реальности, нанизанные на сквозную и замкнутую… впрочем, не совсем замкнутую магистраль, так как единственно мыслимая бесконечность есть неограниченных размеров кольцо. И кто знает: нырнув в середку атома, не вынырнем ли мы где-нибудь в окрестностях Андромеды? Если представить себе чертеж сущего в простейшем инженерном начертанье, то весьма возможно – все они, атом и туманности, окажутся равными по величине. А обманчивое впечатленье их разновеликости не есть ли явление чисто перспективное, причем с довольно крутым углом сбегания, не так ли? Попробуйте года полтора по часу в день смотреть в обратную сторону бинокля, потом расскажите мне, что получится. Если средневековые схоласты вели такого рода рассуждения об ангелах, сегодня тот же вопрос ставится о вселенных: сколько их умещается на острие иглы? Сместите запятую туда-сюда на полтора десятка знаков в привычных вам размерностях, и вы заблудитесь в лабиринте математической мистики. Вдруг окажется, к примеру, что в наблюдаемом объеме напихана уйма независимых, ни в чем меж собой не схожих, но как бы встроенных друг в дружку сфер обитания: целый сверхкоммунальный дом с бесчисленными жильцами, одновременно выполняющими одно и то же, в сущности, единое в смысле материального механизма, тем не менее абсолютно разное, каждое само по себе многоликое деянье. Большое благо для нас с вами, что из-за надежной изоляции мы избавлены от жуткого зрелища, как они там в данную минуту дружно скребут, пилят, точат что-то, творят себе подобных или осуществляют головокружительные подвиги… Хотя, согласитесь, до зуда завлекательно было бы заглянуть через щелку, как и чем обозначается с той стороны, с изнанки, совершающийся здесь физический акт любви или смерти?.. Кстати, не меньшей конструктивной удачей надо считать и непроницаемость междуэтажных перекрытий для нынешних фанатических реформаторов, в конечном счете и с такой убийственной решимостью стремящихся в наиболее опасной социальной энтропии через благоустроение всего живого по обязательному образцу не свыше их собственного уровня. – Но здесь, как бы устранись сказанного, особенно на фоне происходивших тогда казней, Шатаницкий кинул на ученика оценивающий взор сомнения – можно ли, стоит ли вводить его в черту последнего и главного впереди, магического круга. – Сейчас вам предстоит услышать странные вещи, Шамин. Признаться, я с самого начала был далек от надежды, что ваш пытливый ум удовлетворится хоть одним из моих домыслов, к сожалению, питаемых скорее интуицией поиска, чем уверенностью находки. Протяните руку, мой волосатый несравненный Дант!.. На наших глазах строка за строкой, все более краткой и емкой, вычерчивается некая треугольная схема, и, собственно, занятия величайших мудрецов сводились к поиску путей на вершину созерцаемой нами иерархической пирамиды для достижения сущности существующего над сущим существа, без чего нельзя ни истолковать, ни примирить терзающие нас противоречия. Беглый обзор философии со множеством взаимно опровергающих заключений объясняется, по-видимому, разнообразием применяемых ею средств в диапазоне от кофейной гущи до сосания пальца. Отсюда не благоразумнее ли, милый Шамин, для выяснения истины воспользоваться открывшейся вам лазейкой непосредственно в один из верхних рядов помянутой пирамиды с его своеобразным населением, известным нам под названием ангелы. Здесь-то и начинается несколько предосудительное для нас с вами знание, почти чепуховина, тем не менее имеющая свою историю, некогда составлявшую чуть ли не отдельную дисциплину богословских факультетов и лишь на соответственном этапе умственного развития, где-то между велосипедом и электрическим звонком, надежно похороненную в свалочной яме вместе со всякими флогистонами… Я сам кинул туда же не одну полновесную горсть при погребенье. С тех пор дело как будто быльем поросло, но именно такие заброшенные курганы, рудные или шлаковые отвалы нередко оказывались хранилищем кладов или ценнейших элементов, не известных древним. Все это вовсе не означает защиту отжившего старья, напротив, в нынешнюю пору напряженной политехнизации единственным способом обеспечить хотя бы временно благополучие человеческого множества будет чистка гуманитарно отвлеченных наук с их белыми, нерабочими руками. Юридически расплывчатые моральные заповеди, еще не сменившие жреческих тог и риз на современную партикулярную одежду, успешно вытесняются жесткими параграфами коммунального общежития с реалистической профилактикой преступления без расчета на суд потусторонний. Современному обществу при его нынешних катастрофических скоростях просто некогда ждать, пока сработает охранительное реле чьей-то совести или даже небесного промысла… Конечно, мы отрицаем ангелов в церковном смысле. Однако по условиям нынешней диспозиции идей у нас нет права пренебрегать той помощью, какую они в надвигающейся схватке могли бы оказать нам хотя бы способностью проникать в любую из соприкасающихся с нами сфер. В вашей молчаливости, сопровождаемой характерным хрустом челюстей, мне слышится благородная борьба противоречивых чувств… Но, подумайте, милейший Шамин, можно ли держать нынешнее философское хозяйство на уровне самодеятельного колхозного атеизма с поношением попов за толстые животы, с ковырянием мощей? Так можно и проиграть: именно наиболее осмеянные заблуждения любят взрываться под ногами у самонадеянных хвастунов. Неминуемое, уже завтрашнее не должно застать нас врасплох, а самые грозные неопределенные предчувствия все чаще вдохновляют буржуазных лжепророков приподымать, как любят выражаться стилисты, завесу грядущего по части прогнозов нашей якобы непоправимо склеротичной, насквозь изолгавшейся цивилизации с ее якобы нигилистическим гуманизмом, где якобы на одном полюсе процветает комфорт для бесчестных и расслабленных, на другом же, хрен редьки не слаще, развивается не менее опасный для прогресса в смысле разрушительной социальной энтропии культ слабейших. Мы с вами никому не позволим застращать себя столь примитивной клеветой на исторический процесс, как раз и заключающийся в нормальном чередовании приливов и отливов, в смене уровней и состояний, как учит нас все тот же товарищ Скуднов… не так ли? Напротив, когда потребуется, в случае чего, мы с вами смело совершим бросок хоть в самое пекло, не щадя амуниции и не уклоняясь от ожогов. Да, с вашего позволения, я даже первым кинусь, если уступите очередь из уважения к утратившему тонус жизни, одинокому старику. Кажется, Надсон написал чудные строки – как хорошо вспыхнуть мотыльком в пламени свечи – и всё!.. Да и передовая современная поэзия неспроста, нередко в ущерб музыкальности, рифмует пламя с подвигом. Нет, мы не попятимся, когда труба призовет нас к делу. И, если храбрые здешние вояки перед боем надевали чистые рубахи, чтобы на тот свет явиться в опрятном виде, отчего бы и нам с вами не воспользоваться ценным опытом, когда по ходу действия и нам придется предстать перед тем, кого впредь для удобства и предосторожности ради будем называть просто Главным? Мировые религии в голос требуют от смертных полной отрешенности от всего земного, лишнего на таких аудиенциях, и, судя по портретам некоторых пустынножителей, небесным протоколом допускалась явка туда не только босиком и во власяницах сирийско-фиваидского типа, но для лучшей прозрачности на просвет, просто безо всего, чтобы перед Ним ни за что не было стыдно: нагота – праздничная одежда аскетизма! Вот для высшей-то очистки мы и применим всеисцеляющее пламя в массовом масштабе… Нет, не в смысле ритуальных скаканий через всякие там иван-купальные огнища, а в натуральнейшем его жгучем приложении, потому что истинное содержание процедуры не в мысленном отрешении от греховных помыслов, нравственной грязи, или в символическом сожжении мостов назад, к блаженному и покидаемому прозябанью, а в том, чтобы физически раздеться, то есть скинуть с плененной мечты груду рыжей первородной глины, этот мешающий взмаху крыльев горб падали за спиной… Другими словами, на себе самом спалить ветхую свою, всякой нечистью населенную шкуру: тело. К тому же столько праведников сгорело на работе и в кострах, что и нам с вами сжечься за передовую идейку да в хорошей компании самое удовольствие, не так ли?.. Этаким факелком заместо кроткой церковной свечки, ибо не в рабском трепете молитвы, а в гордом штурмовом исступленье, так что и боли не почувствуешь. Вы, Шамин, кстати, слов-то не бойтесь: самыми страшными из них нередко обозначаются вещи наиболее скоротечные. Тут для нас с вами самое важное горелым смрадом в шесть миллиардов туш в лик ему шарахнуть… И так как небесный огонек последует, наверно, еще в предполье, сразу после нашего, во всечеловеческом составе, выхода на генеральную позицию, то дело обойдется без излишней трепки нервов, в конце-то концов – и бесполезной атаки…
Последнюю фразу Шатаницкий выпалил на такой зловещей скороговорке, что Никанор так весь и подался к нему с видом растерянного недоуменья.
– Это кого же вы атаковать собираетесь, учитель?
– То есть как это кого?… Его же и атаковать, Главного, – не на шутку осерчал было Шатаницкий. – Ведь вот память какая стала: центральное-то обстоятельство в моей лекции я и упустил вам сообщить… Да и в диалектическом разрезе самое щекотливое, пожалуй. Воспримите наступивший момент как посвящение в сокровенную и жгучую тайну. Вам на достигнутой ступени необходимо знать, что материалистическая диалектика приобретает высшее свое назначенье в духовном бытии человека, прежде всего в практике воинствующего безбожия. Практический повседневный атеизм, как он называет себя для прикрытия своей сущности, правильно видит свою цель в разрушении веры у малоразвитых тружеников, то есть большинства, под предлогом охраны их карманов и душ от нередкого церковного вымогательства жертвенных приношений, в особенности же их внутренних сокровищ. Между тем, подобно пчелиному меду являясь окончательным продуктом всей человеческой деятельности, именно данный товар служит единственным оправданием этого нелепейшего вертящегося мрака, где круженьем гигантских маховиков обеспечивается разбег к органической жизни, венчаемой на крайнем своем этапе человеческой мыслью. Само собою разумеется, высший атеизм, полагающий себя в вольном полете духа, не может удовлетвориться тактикой планомерного государственного кощунства со взрывчаткой для храмов и философской матерщиной в адрес недосягаемых там, вверху, ему не менее противны подлая аргументация в виде револьверного нажима.
В конце концов воинствующее невежество, подавляющее любую мысль, есть низшая степень скотства, пригодная только для хлорной ямы или клееварки.