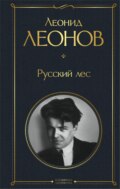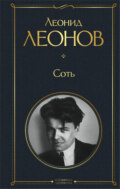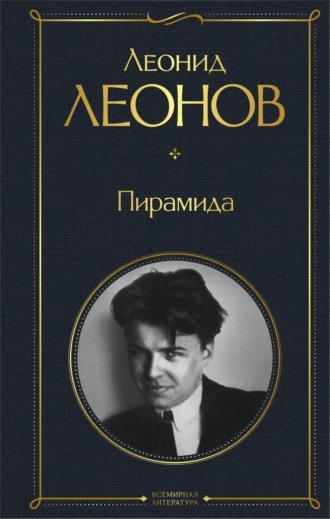
Леонид Леонов
Пирамида
Глава VIII
Любопытно, что почти одновременно с появлением Дымкова с разностью нескольких дней в старо-федосеевский некрополь прибыл параллельный персонаж явного и, к сожалению, до конца не разгаданного назначения.
Ночной стариков разговор вскоре забылся, так как при дневном свете еще очевидней стала маловероятность дикой пустыни, помещающейся внутри хотя бы и внушительной колонны. Все же, кабы обнаружилось невзначай, наличие подобного тайника в распоряжении лишенцев могло тяжко отразиться на судьбе бывшего настоятеля. После трехдневных колебаний о. Матвей в секрете от домашних отправился на место происшествия с целью удалить со штукатурки злополучную дверь посредством находившегося под рясой скребка на длинном стержне. Совесть так и не позволила ему в личных интересах довершать разрушение старинной, и без того обветшалой церковной росписи… да и незачем было. Не составило труда на ощупь убедиться, что самому искусному, вернее, плоскому сыщику не удалось бы пролезть за спину незыблемо стоявшего там ангела. Впрочем, наступившее успокоение невольно окрашивалось досадой, ибо, выходя из дому, он втайне от себя самого прихватил умеренной длины веревочку, чтобы при благоприятных условиях, привязавшись к дверной скобе повторить поразительную матушкину вылазку без опасения заплутать в потусторонних песках. Благоразумнее было отнести помянутую пустыню к тем редким сновиденьям последних лет, в которых старики по каким-либо уважительным причинам не принимали совместного участия.
Зима началась небывалыми метелями, не успевали прокладывать траншейные ходы главного пользования, во избежанье подозрений, особенно со стороны приболевшей Дуни, батюшка оба конца совершил кружным путем, по целине, через дальнюю часть рощи, где после закрытия кладбища в ночки потемнее на весь сезон заготовляли дрова, возвращался на исходе дня. Повсюдная на русских погостах сословная граница делила непоровну и Старо-Федосеево. Если могилы бедных вызывали у Матвея глубокую симпатию своим смирением, то, напротив, погребения зажиточных веселили его дух благолепием надгробий в виде сломанных арф, античных урн, повитых как бы темной кисеей, также – сохранившихся кое-где по непригодности для другого изделия мраморных херувимов в снежных шапках набекрень, несмотря на свое скорбное назначение. Меж ними возвышались более долговечные сооружения для именитых деятелей отечественной коммерции, столичной адвокатуры, оперного искусства и среди них затесавшийся один химик по искусственной резине. Проходя мимо последнего, о. Матвей различил носом показавшийся ему вкусным на морозе чад тлеющих ветвей, после чего не без удивления заметил воровской дымок, поднимавшийся над родовой усыпальницей купцов Суховеровых. Толщина снежного покрова не позволяла подойти ближе, но и с расстояния бросалась в глаза пригодность того неприступного здания с бойницами и чугунной оградой для притона какой-либо шайки проворных мошенников, фальшивомонетчиков, например, а то и зарубежного диверсанта из подсылаемых для недопущения русского народа к коммунизму; ведь по соседству пролегал особого назначения тракт, по которому ездил на дачу один, хотя и полузначительный, товарищ, но все равно в случае чего именно с о. Матвея взыскали бы за укрывательство. Не надеясь единолично справиться с напастью, батюшка отправился за подмогой в лице Финогеича, занимавшегося вечерней разделкой дров. С топором для острастки старики двинулись по суховеровскому адресу, но сколько ни прислушивались, ничего предосудительного вроде теньканья балалаечного либо не менее оскорбительного женского взвизга не сочилось сквозь плотную кладку искроватого Лабрадора. Однако неоспоримые приметы, как то: нахоженная тропка и запасы хвороста в ограде, а пуще – выведенная через пролом из-под кровли дымящаяся труба указывали на обжитое гнездо порока. Нажимом колена Финогеич толкнул легко поддавшуюся дверь, а о. Матвей мужественно вступил в белесую удушливую мглу.
Ничего не было видать, кроме горевшего посреди чахлого костерка, дым еле тянулся в наспех проделанную дыру. Но если чаще смахивать набегавшую слезу, можно было заметить и другие признаки постороннего присутствия: ложе под дырявым брезентом о бок с огнем, также разложенную на каменной плите, с инеем вместо скатерти, всякую обиходную утварь вроде пузырька с постным маслом, тряпицы с солью да жестяной коптилки, на фитиле которой мотался язык полузадушенного пламени и, наконец, нож с примечательным багрецом на лезвии, почти уликой не осуществленного пока злодейства, кабы не утешительный, размашисто начертанный крест на такой же инейной стене. Пообвыкнув, о. Матвей различил и самого злоумышленника, столь ветхого старичка, что казалось – комар его с налета повалит, и столь прокопченного, что представлялся сгущеньем того же дыма. Он дремал, на корточках припав к огню, но, едва обдало его холодом, тотчас вскочил, принялся было топтать преступные головешки, но сдался и замер с опущенной головой.
По тем временам любой, да еще тайный нарушитель обязательных правил о милицейской прописке по месту жительства подлежал немедленному выселению с попутным исследованьем личности в смысле плохой классовой принадлежности. Правда, столь древнее существо по его плачевной очевидности, едва ли способно было причинить ощутимый вред советской державе; однако что-то в нем, помимо вопиющей беззащитности, мешало о. Матвею сразу ограничиться изгнаньем. Представлялось немыслимым в таком архаическом обличье добраться из заграницы почти в самое сердце мирового коммунизма без стократного задержанья в пути, а иначе какая нужда погнала его в столицу? И вообще, если отвергнуть грешные подозренья, сорвавшийся с житейской скалы существует лишь за счет постепенного, день за днем, скольженья вниз, тогда как в достигнутой фазе падать старику было уже некуда. Короче, батюшку смущала слишком цепкая, по всем параметрам проявляемая жажда бытия, в частности – запасы хвороста и всякого топливного хлама у входа в посмертную суховеровскую резиденцию или надежные, в резиновых обсоюзках валенцы, годные идти хоть на край света, или домашняя утварь – от щербатого топоришка и бывшего ведра без державки до эмалированного, почти нового чайника, видимо, крепко запоганенного, если обрекли на выброс, и наконец, не по телу просторный, препоясанный вервием и тоже, видать, свалочного происхождения брезентовый бешмет – не по зубам ни морозу, ни собаке.
– Ишь, ровно в санатории устроился… – строго пошумел Финогеич. – Орел, койку снял у мертвеца!
– Чево, чево? – ладонь приставив к уху, затормошился тот. – Окажи милость, покричи.
– Спрашиваю, квартирка не тесновата ли?
– Одинокому в самый раз, – осклабился жилец с очевидной целью подкупить расположение хозяев. – Вот, мебельцы маловато…
– Ну, веселиться тут вовсе нечему, брат, – перхая и задыхаясь, оборвал его о. Матвей. – Видать, из ума выжил, куда на местожительство поселился…
– Без спросу, без прописки, главное…
– Погоди, Финогеич… Когда своей боли хватает, о чужой не спрашивают. Мы тебя не видали и взялся отколе – знать не хотим. А только покинь нас, сирых, не обременяй совесть нашу грехом изгнания. – И окончательно задохнувшись, с поклоном уступил дорогу к настежь распахнутой двери.
– Чего с ним трепаться, Петрович, – снова вмешался Финогеич. – Хорошо, если только жулье, а может, и беглец… Покарауль, я постового кликну!
Передавши батюшке свою снасть, он повернулся было к выходу, однако наружу не бежал, думая лишь попугать нежелательного постояльца и спровадить его без шуму, как отпихивают от берега мертвое тело, приплывшее за крестом да могилой. Старик безобидно наблюдал его действия, оглаживая безволосый, беспрестанно жующий рот, – едва же помянули милицию – заметался, тоже для виду, скорее из учтивости, нежели со страху, полкраюшки хлеба пихнул за пазуху, притворился, будто в трубу скатывает свой трескучий брезент.
– А вы не хлопочите, начальнички, не надрывайтеся, и сам уйду, – приговаривал он, не по возрасту разбитной. – Мне абы стужу переждать, а чуть солнышко – меня и силком не удержишь. Я по летнему-то сезону аки царь повелительный живу: хоромы просторные, челяди без числа. Вздремнется на полянке лесной, один с тебя мушку сдувает, другой байку шепчет на ушко… – Он испытующе поднял глаза на о. Матвея, и таким ветром судьбы и простора пахнуло на того, что сердце сжалось от предчувствия. – Небось, и сами тут хворостины дожидаетесь. До весны потерпели бы, а там я вас обоих с собой прихвачу… Жизнь-то наша как конфетка с полу: и горчит вроде, и выплюнуть жаль.
Такая мгла пополам с могильным хладом дохнула о. Матвею в душу, едва представилась ему чья-то крайняя надобность вот так же, в глухую январскую полночь попросить приюта у мертвецов, не своя однако… Ввиду давних слухов о скором теперь строительстве Международного стадиона Дружбы на территории старо-федосеевской обители, что обрекало на снос и домик со ставнями, бывший ее настоятель заранее свыкся со своей предстоящей бездомностью, даже приоткрыл однажды супруге тайное намеренье скрыться в какую-нибудь недосягаемую щель, чтоб облегчить семье получение новой жилплощади и больше не отягчать социальную будущность деток своим существованьем. Вероятно, в мыслях у батюшки промелькнул кто-то третий, чья судьба была ему дороже собственной. Недавние опасенья погасли, и вот уже чем бы ни грозило такое сообщничество, не посмел отказать в милости и пристанище бродяге, на месте которого каждую минуту мог оказаться тот, подразумеваемый.
Злая укоризна хоть и мнимому Матвееву благополучию содержалась во всем облике бывалого бродяги. Лишь потому и сорвалась у о. Матвея подсознательная обмолвка брат, что по седым косицам, заправленным под бывший меховой треух, как и по свойственной православному духовенству укладистой речи, сразу опознал в старике претерпевающего бедствие иерея. И в том заключалась боль сердца, что самый распоследний средь своих современников может мановением пальца отнять кров у кого-то жалчей себя. Тем сильней ощущал он пронзительное родство с этой падшей тенью человеческой, и призыв ее – сообща перейти на положение птахи лесной – не заставал врасплох о. Матвея. Еще до казни аблаевской стал он мысленно примеряться к участи калик перехожих, неминучей вскорости для всех попов на Руси, в предвиденье чего не только закалял себя помаленьку всяческим неудобством вроде несвежей пищи или мокрой обуви, обязательной для пребывающих в непрестанном скитании, но и семейство свое, из отеческой жалости, понуждал к тому же под предлогом причиняемого излишествами вреда. Все полнее раскрывались ему преимущества людской бездомности: ибо стоило отрешиться от иных благ цивилизации, как немедля приобреталось то высокое телесное безразличие, которое, освобождая от смертных страхов, доставляет желанный покой души. Начистоту сказать: он так устал от подлой дрожи по любому поводу – преступной ли принадлежности своей к духовному званию или купленной из-под полы подошвенной кожи – что порою торопил пришествие судьбы, благословившей бы его в дорогу толчком в плечо, чтобы властно повернуться спиною к разгромленному пепелищу.
Незлобивая готовность бродяги к смене жилья, равно как и завидная сноровка, с какой он рассовал по дырьям на себе свою походную утварь, прицепил к поясу мятый чайник и кружку того же свалочного происхожденья – все это смягчило о. Матвея. На худой конец вряд ли удалось бы подобрать лучшего товарища, а тот уже простер руки над огнем, то ли в намерении унести клочок пропадающего тепла, то ли прощаясь до скорого свиданьица.
Скорее для проформы, нежели для выяснения личности, Матвей задал надлежащие вопросы. Странник назвался беглым попом Афинагором из разгромленного год назад безвестного монастырька в зауральской глуши. И с горечью, в духовном стиле, прибавил, что лишь после долгих бездомных скитаний волна житейская донесла его наконец до тихого пристанища здесь, у них, за надежной каменной стеной. В зимнем ветерке трепетали седые, с прожелтью волосишки на висках, и сам он весь подрагивал, словно только что вынутый из воды, и тут, по молчанью переглянувшихся хозяев догадавшись, что теперь-то они и столкнут его с бережочка назад, в судьбу, он с умилением благодарности поведал им, как разоритель обители, суровый московский комиссар, подай ему Господь здоровья, на глазах у братии стравивший собакам проживавшего там на покое ветхого архиерея, пощадил бедного Афинагора, собственноручно дважды вразумил его по шее и отпустил с наставленьицем впредь не попадаться на глаза. С той самой поры и ходит Афинагор, не противясь ветру; а где старушка и за молитву не пустит на ночлег, то можно и в стожок приткнуться, благо тулупчик теплый, на вороньем меху. «Бесстрашному нигде не боязно, а ежли и дадут по загривку разок для острастки, так начальству и нельзя иначе!»
– А ты не спеши, не серчай: и мы живые! – дрогнувшим голосом попрекнул о. Матвей. – Куды тебе старому в потемках…
– Обо мне не тужи, поп. У Бога-то на кажного жучка припасена своя щелочка.
Теперь о. Матвей и сам не мог отпустить старика, не утолив жадного, непременно наедине, любопытства о том самом, что ему предстояло впереди.
– Ведь не сразу гоним… отдохни, ежели здоровье позволяет тебе здешнее проживание, – и вздохнул, сознавая тяжесть совершаемого проступка. – Ступай к своим дровам, Финогеич, да матушку не пугай пока. Дверь потуже притвори, все тепло выстудим к ночи. – Он огляделся куда присесть, но было некуда. – Отколе свалился-то на нас, сирых?
– Все оттуда же, из миру.
– Мир-то велик. Кормишься чем?.. Воруешь хлеб-то аль с рукой стоишь?
– А пошто? Господь поставляет! И под толщей снега олень чует свою еду. Я тружуся, хотя без дозволенья. Выслежу где крышку гробовую при дверях либо писк младенческий попритчится, уж я там стучусь с заднего ходу. «Не угодно ли безмерную горесть вашу али родительское ликованьице через небесную канцелярию оформить? Могу и заочно, туда ни одно письмецо заветное не пропадет… опять же по дешевке у меня. Ну, иные посмеются, иные вчерашних штец плеснут, а бывают которые и коленом под седалище. Да ведь я сухой, хоть с башни скидывай, не ушибаюся!
Здесь впервые испытал смущенье о. Матвей, потому что сказанное совпадало с его собственным намереньем в случае чего заняться ночной халтуркой. Тем более боязно стало задать очередной вопрос:
– За что гонение-то принял?
– Видать, по совокупности бытия моего.
И кое в чем он до такой степени походил на самого Матвея в его гаданьях о своей будущей судьбе, что не хватало воли прогнать его со двора.
Во избежанье еще более щекотливых совпадений благоразумнее было воздержаться от дальнейших расспросов: время ужина близилось, кстати. Да тут еще бродяга подкинул хворосту в прогоравший костер, и белым чадом окончательно заволокло суховеровское помещение.
– Вот тебе на прощанье мой наказ, Афинагор, – с кашлем и обильной слезой заторопился о. Матвей. – Как знаешь обходися, днем огня не разводи, из берлоги своей не отлучайся. Застигнут – раньше всех отрекуся. Дров не воруй… Березку свалим – и тебе сучков достанется. Посторонних к себе не водить…
– Сказал!.. Сюда самую убогую, хуже нет, и пряником не заманишь, – последовал еще более легкомысленный намек, содержанием своим неприятно резанувший уходившего о. Матвея.
Таким образом, к концу первого же посещения стали замечаться и другие противоречивые изменения как в облике, так и речевом складе немощного старца. Главное же разочарование ждало о. Матвея впереди, когда с приличного расстояния оглянулся на покидаемый мавзолей. Взгромоздясь на ограду, бывший иерей Афинагор салютовал старо-федосеевскому настоятелю своим треушком на манер флотских сигнальщиков, что выглядело вовсе непозволительным на фоне тогдашнего церковного разорения. Погрозившись в ответ имевшимся у него скребком, о. Матвей повернулся было назад для строгого внушения, но вблизи мнимый бродяга оказался коренастым деревом неизвестной в сумерках породы, с клоком снега в развилине сука. Вообще эпизод с Афинагором выглядит до такой степени маловероятным, что разумнее было бы отнести его за счет воображения, разыгравшегося в условиях зимнего кладбищенского вечера, кабы не наличие двух одновременных свидетелей, не связанных между собою ни узами свойства, ни тем более классового сговора. Из чувства самосохранения о. Матвей постарался предать забвению Афинагора с его пугающей осведомленностью, восприняв ее как примету болезненного раздвоения личности под влиянием жизни.
Кстати, по отсутствию какой-либо целенаправленной деятельности весьма сомнительного и даже с эзотерическим значением беглеца Афинагора, никто не смог бы догадаться об истинной роли мнимого старца. И даже Никанор Шамин, который с его чутьем на заграничных соглядатаев, инопланетных в том числе, мог усмотреть в Дымкове тайного посланца оттуда, из самых недр небесных, к нам сюда для сверхсекретных переговоров со здешним резидентом противной стороны вроде Шатаницкого. И тогда ему осталось бы предположить, что единственно для маскировки той туманной пока, сверхмасштабной махинации заблаговременно возникли не только старо-федосеевское кладбище с укромным флигельком, заселенным нынешними обитателями, но и самая эпоха наша, предшествующая великому финалу. Сказанное наглядно доказывает, как близок был будущий исследователь преисподней логики XX века к разгадке, если бы ему подвернулся случай лично повстречаться с Афинагором, которого, возможно, вовсе не было на свете…
Но тут, во избежанье увечья, лучше уступить дорогу выезжающему из небытия новехонькому автомобилю, управляемому нервной, недостаточно уверенной рукой.
Глава IX
После выпуска на экран последнего нашумевшего фильма любой режиссер на месте Сорокина предался бы такому полнометражному безделью где-нибудь на Черноморском побережье, а он, безумный, все утро до обеда гонял по столичным окраинам учебный грузовик, вечера же прожигал в блатных поисках гаража для персональной машины, которую вот-вот предстояло получить. Он, хотя в творчестве своем и воспевал социалистическую действительность, в личном быту более склонялся к среднеевропейскому образу жизни… Даже обмолвился как-то Юлии Бамбалски, которую все собирался выводить в кинозвезды, что следует поменьше соприкасаться с тем, к чему надо подольше сохранять профессиональную привязанность. В полухолостяцком обиходе Сорокина можно было вполне обойтись казенным транспортом студии. Для понимания этого этапного пункта в его интеллектуальной биографии необходимо представить себе осенний Крещатик в Киеве лет восемнадцать назад, тощего юношу в куцей, домашнего шитья курточке, во исполненье мечтаний приглашенного в гости к тамошнему магнату, и как он, стоя посреди улицы, белесыми глазами смотрит вослед толстопузому восьмицилиндровому штейеру, только что в придачу к порции грязи в лицо оглушившего его сиплым барственным гарканьем.
Подобные нравственные травмы лучше всего излечиваются доставлением тех же переживаний нижестоящему. Осуществление реванша крайне затянулось, и миросозерцание Сорокина окончательно накренилось бы в нежелательную сторону, если бы внезапный, как все чудеса на свете, фельдъегерь не вручил ему однажды под расписку весь в сургучных печатях государственный конверт с постановлением Совнаркома. Там, за подписью лица, коего высота соответствовала размеру оказываемого благодеянья, кинорежиссеру Сорокину разрешалось в обход расписанья приобрести в личную собственность легковую автомашину отечественной марки за наличный расчет. В те далекие от роскошества годы само по себе выдаваемое избранникам правительственное дозволенье такое становилось актом признания его социальной исключительности.
Уже в сумерках, одарив механика американской сигаретой, которые держал при себе для подкупа товарищей промежуточного значения, он выкатил свою покупку на снежный пустырек, носовым платком удалил пятнышко на фаре и взглядом художника искоса окинул свою красавицу…
Разыгравшийся снегопад, волшебно клокотавший в обоих потоках слепящего света, придавал праздничную чрезвычайность совершающейся метаморфозе. Одно созерцание роскошного, мощностью в сорок лошадей, чуда техники, готового к преодолению любых пространств и расстояний, внушало обладателю помимо хозяйской гордости и неотложную потребность немедленно, хотя бы даже насильно поделиться с кем-нибудь поблизости избыточной радостью – в смысле безвозмездной доставки его к месту назначения. Впрочем, режиссер явно рассчитывал на благородную скромность жертвы с желательным проживанием ее в городской черте.
За первые же полчаса окупилась по меньшей мере треть усилий, затраченных им для восхожденья на нынешнюю вершину. Несмотря на терзавшие его социальные потрясенья, мир вокруг постепенно преображался в наилучшую, более уютную сторону. Ненадолго Сорокину показалось даже, что он полюбил людей, чего не замечал за собою прежде. Во всяком случае, ему крайне понравилась и та симпатичная старушка, что с девичьей грацией ускользнула от его неопытности, и торопившиеся к семейным очагам беззаветные труженики на тротуарах, даже погрозивший ему перстом, гуманнейший на своем перекрестке милиционер в поварском колпаке и таких же снежных эполетах. Метель усиливалась, но и дворники на ветровом стекле не уставали, а переполненных баков хватило бы исколесить весь город.
Словом, давно уже смерклось, а он все ехал в неопределенном направлении, наслаждаясь новизной приятно сменяющихся впечатлений. Его очень порадовала предпраздничная, такая живописная, благодаря снегопаду, толчея возле залитых светом витрин, которым разве только соответственных товаров не хватало для соревнования с высокомерной Европой; он тепло отметил исключительную согласованность в работе светофоров, которые забавно и цветисто перемигивались при его приближении. Даже в небольшой уличной катастрофе разглядел диалектический перепад, неизбежный для извечного обновления жизни. Виден был сквозь снег опрокинутый трамвайный вагон и с ходу врезавшийся в него тягач с прицепом. На первой скорости пробираясь сквозь суматоху, Сорокин задумался о нерешенной проблеме гения и толпы, в частности, о замене писклявого гудка чем-то более внушительным, чтобы прокладывать себе путь среди ротозействующего быдла. Однако, едва выехал на простор, разладившееся было настроение быстро поправилось с уклоном в великодушие. Оттого, что рассказанная радость, как и всякая вещь перед зеркалом выглядит как бы в двойном размере, захотелось срочно поведать ближнему про свою удачу. И тотчас высшие силы, подготовлявшие очередной сюжетный ход, предоставили в распоряжение режиссера на первой же трамвайной остановке целую очередь ближних, наиболее подходящих для данной цели. Трудно было бы подобрать их в лучшем составе для оценки великого человека, поднимающегося по ступеням общественного успеха.
Иззябшие, с одинаковыми лицами от безнадежного ожиданья, они, возможно, даже смерзлись немножко в один монолит под общим снеговым покровом, когда возле остановился голубой лимузин и свежий баритон через приспущенное окно уведомил их об аварии, надолго загромоздившей трамвайные пути. Обдав их слегка бензиновым чадком, добрый человек покатил было дальше, но странная неудовлетворенность – то ли недостаточной признательностью помянутых существ, избавленных от бессмысленной траты времени, то ли осознанная мизерность услуги, заставила его вскоре воротиться на прежнее место. Очередь почти вся разошлась, кроме командировочного среднеазиатца с фанерным чемоданом, да еще худенькой, заурядно миловидной девушки, как с наклеву разглядел кинорежиссерский глаз; недвижная, с белыми ресницами, она вглядывалась в снегопадную даль. На деле же Сорокина приманил назад поразительный, даже в сумерках ядовито-синий цвет ее плюшевой шубки с явно наставными рукавами и столь же вопиющим лисьим воротником. Именно эта провинциальная экзотика, немыслимая для дневного появления на центральной улице, и заставляет туземцев прятаться от блеска цивилизации в глухой норе… зато такие особы, осознавшие свое убожество, способны глубже понять самое мелкое оказанное им благодеянье.
– Хэлло, фрекен, – спустив шторку окна, Сорокин обратился к девчушке, – я только что с места происшествия, там возни хватит до утра. Возможно, нам окажется по дороге?
– Нет, спасибо, – даже не шевельнулась Дуня: ни одной снежинки не свалилось с нее при этом.
– В таком случае прошу прощенья, – с кивком сказал Сорокин, и милицейский свисток согнал его со стоянки.
Он пустился вдоль невыразимо длинной улицы, дважды объехал площадь в ее конце, но возникшее искушенье не покидало его, кроме того, чисто сценарная загадка подобного убожества в блистательный век социализма овладела его воображением. Было не слишком поздно, но поднявшийся к ночи крепкий морозный ветерок заметно поубавил прохожих. Когда Сорокин добрался туда же кружным путем, привычный к непогодам, утомясь ожиданием, командировочный уже сидел на своем бывалом чемодане, но давешняя провинциалка даже не покосилась в сторону настойчивого благодетеля. Усилившаяся поземка заметала ее холщевые туфельки, безусловная теперь сдача гордой девчонки была подсказана тонким прозреньем художника.
– Это опять же я… – окликнул он, рассчитывая с ходу сломить неприступность, какою бедные обороняются от любопытства богатых. – Простите, мисс, что врываюсь в сладостную дремоту, обычно предшествующую замерзанию. Я вернулся сказать, что вечерняя сводка погоды сулит на ночь самую низкую температуру месяца, а ближайшая линия метро предположена к концу пятилетки…
– Спасибо, я не тороплюсь, – отвечала Дуня, смягчив отказ улыбкой на этот раз.
– Отлично, – дружески кивнул Сорокин. – Я навешу вас через четверть часа. Постарайтесь продержаться до моего возвращенья.
Без всякой спешки, в наказанье, Сорокин поехал сперва на заправочную колонку, ибо лишь полный бак может обеспечить покой начинающего автомобилиста, и заодно набил карман предрождественскими мандаринами в подвернувшемся фруктовом ларьке. Словом, на волшебно-мерцающем циферблате протекала восемнадцатая минута и, вместо того, чтобы простить несговорчивую за ее строптивость, режиссер по странному побуждению отправился взглянуть на дом, где проживала будущая кинозвезда, в частной жизни Юлия Бамбалски. Освещенные окна, крайние левые в третьем этаже означали, что она только что вернулась из горно-лыжной поездки на всемирно-знаменитые склоны Бакуриани, иначе она не преминула бы еще днем позвонить ему на студию, доложиться в ее обычном тоне иронического раздражения по поводу все тех же злосчастных съемок. И, следя за движением теней на шелковой шторке, Сорокин попытался разобраться в своей немирной дружбе с этой капризной, еще недавно ослепительной девушкой…
В юности, пока не оперился, ему крайне нравилось бывать в богатом доме Бамбалских, особенно в обеденную пору и на кухне, – в ту пору ему всегда до неприличия хотелось есть, из-за чего не состоялась фаза детского флирта. После революции, свалившей прославленную фирму и несколько уравнявшей общественное положение сторон, прерванные было отношения возобновились уже на обратной основе: сдержанная, с оттенком прежней влюбленности, хотя и полувраждебная порой преданность той давней Юлии и ее нетерпеливый, в деловом смысле, поиск сильного сорокинского покровительства. Тому причиной был один беглый, в шутку данный мальчику наказ, ставший обязательством на интимном празднике ее совершеннолетия, где упоенный первым успехом режиссер посулил девушке чуть ли заглавную роль в позднее отмененном фильме. За отсутствием других ставшее целью жизни это напряженное ожидание славы, в условиях семейного поклонения, наложило отпечаток на весь ее облик и поведенье: вплоть до выходных платьев и артистического псевдонима все было готово у Юлии, чтоб вознестись над человечеством. Но месяц назад, после ее отъезда на горную прогулку, газеты оповестили о начавшихся съемках его очередного, опять без Юлии, боевика, и теперь не миновать было скользкого и неприятного объяснения. И вдруг Сорокин понял сквозь досаду, что все это время только и думал про ту несчастную на трамвайной остановке.
Девушка в плюшевой шубке еще стояла, вся под снегом и привалясь к железной мачте. Для верного успеха Сорокин даже из кабины вышел на этот раз:
– Туды-сюды, малость припоздал, прошу прошеньица… – в манере удалого русского извозчика былых времен обратился он к бедняжке, смахивая рукавицей налипший снег с ветрового стекла. – Если вас пугает моя настойчивость, то вот в чем ее разгадка. Я только что приобрел это самоходное чудо техники и хотел бы на радостях поделиться счастьем с остальным человечеством. Было бы жестоко оставить подобное побужденье без отклика.
Дуня окинула его с ног до головы, сплошь в экипировке заграничного производства, грустным взглядом, сразу охладившим его не к месту пылкую речистость:
– Ладно, везите меня, но имейте в виду, я живу далеко, в Старо-Федосеевском районе. Хватит ли у вас бензина и терпенья на такой подвиг?
Что-то дрогнуло внутри режиссера, однако благородный порыв сердца поборол его природную деловитость. Стыдно признаться, было до щекотки приятно чувствовать себя властелином из знаменитой сказки, который инкогнито бродя по ночной столице, оказал вот такой же, помнится, судя по неказистой одежке благородной нищенке царственную для нее и ничуть не расточительную для него самого милость.
– О, за полуторный объезд экватора без промежуточных зарядок вполне ручаюсь, уважаемая фрекен, – ответил Сорокин, щегольски распахивая дверцу.
Первые две минуты молчали. Улица медленно бежала назад. Когда выехали на магистраль, внезапно по сторонам зажглись вечерние фонари и похоже стало, что все снежинки из тьмы, сколько их было вокруг, понеслись разбиться о ветровое стекло. Поток их настолько уплотнился, что механические дворники еле справлялись с работой, и все вокруг слилось для Дуни в одно приятное усыпляющее колыханье. Прошло уже две минуты, а Дуня так и не собралась с силами побороть свою виноватую скованность, происходившую от сознания, что через весь город и впервые в жизни возвращается домой в барских условиях, добытых в сущности обманным путем: сразу не раскрылась доброму хозяину. Началось с того, что Сорокин по-джентльменски, как требовалось в данной роли, осведомился у пассажирки, удобно ли ей, не зябнет ли, и, хотя в вопросе звучала нотка вымогательства, одобряет ли она его покупку. Сквозь дымку забытья Дуня ответила, что ей хорошо, оттаивает понемножку, машина нарядная. А когда он пожурил ее по праву старшинства за опрометчивое согласие на рискованную поездку с незнакомцем – не боитесь какой-нибудь случайности вроде ограбления – та лишь усмехнулась в ответ: будь у ней, что грабить, не стояла бы полдня на таком снегу. К тому же коленку подвернула. На самом деле в тот момент Дуня больше всего боялась, что он запросто высадит ее на ближайшем перекрестке, если выяснится, что она, хоть бывшего, попа родная дочка. И тут же то ли для подстраховки от разоблачения, то ли в оправданье своего убогого наряда, Дуня торопливо, чтобы не оскользнуться в жгучей лишенской неправде, поведала мнимую и в качестве образца годную для школьной хрестоматии тех лет биографию своего родителя. Оказалось, в юности рабочий с мебельной фабрики, беззаветный подпольщик, разъезжающий по самым опасным поручениям, он устраивал забастовки, железнодорожные крушенья на пути карательных отрядов, создавал подпольные типографии. По характеру своему нигде не хвастался личными заслугами перед партией, числился в ней на вторых ролях, так что на парадных съездовских фотографиях его следовало искать в задней шеренге с размытыми, вне фокуса, ликами; в отличие от благолепных властелинов, проигравших Россию в очко у зеленого стола мирового господства, Дунин папа успешно бежал с Нерчинской каторги, кроме того, ветеран революции, участник Гражданской войны, причем под ним коня убило и осколком того же снаряда повредило позвонок, что и приковало его навсегда к инвалидному креслу. Даже с Лениным встречался. Но он не хотел выставляться своими заслугами в смысле льгот или наград за выполнение долга, и это отразилось на всем достатке семьи: от еды до одежды.