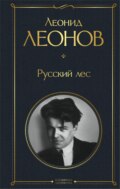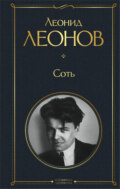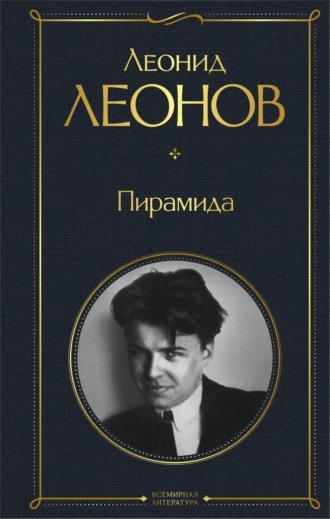
Леонид Леонов
Пирамида
Нельзя было не согласиться, например, что сознание наше – мощностью в обрез на обеспечение насущных нужд по продлению вида, не рассчитано на полный охват мироздания за явной ненадобностью. Во все века людям хватало наличных сведений для объяснения всего на свете. По той же причине боги, как правило, беседуют с людьми их же языком, на умственном уровне эпохи. Любое мировоззрение строится на какой-нибудь дюжине констант из множества нам неизвестных. Отсюда выявление новых или оказавшихся ложными всегда доставляло понятные неудобства состоящим при истине должностным лицам, в чем они и черпали моральное право на сожжение еретиков… Всплески же большой обзорной мысли легко возникают среди ночи во исполнение детской потребности окинуть глазом свое местопребывание и, удостоверясь в чем-то, снова нырнуть в блаженное небытие. И никогда не успеваем мы разглядеть толком ни самих себя, ни очертания колыбели, где дремлем. Таким образом, разновременные домыслы о ней – суть лишь собственные возрастные наши отражения в бездонном зеркале вечности.
Неудивительно поэтому, что мирная вчерашняя Вселенная, где благовоспитанные фламмарионовы шарики, арифметично курсировавшие по школьным орбитам, в начале нашего века вдруг сорвались и бешено понеслись куда-то, – кто знает, сколько еще раз предстанет эта Вселенная перед потомками в совсем немыслимой перспективе? Здесь Никанор оговорился, что изложенные им сведения также нельзя считать исчерпывающими, ибо кому дано ухватить сущее в его окончательном облике? Если Евклиду нынешнее знание показалось бы бормотанием пифии на треножнике, то какой критерий, кроме пророческого прозрения, позволит нам заглянуть на такие же двадцать пять веков вперед? Всегда бывало, что уже разгаданное лишь частностью в потоке иных реальностей, качественно непохожих на прежние, но тоже транзитных – в направлении к сущностям высшей емкости, пока те, одновременно обогащаясь и упрощаясь по логике диалектических превращений, не станут погружаться в дымку уже недоступного им порядка. Человеческое любопытство с его отстающей аппаратурой узнавания и в прошлом нередко вступало на рубежи, где исследование сменялось умозрением с последующим переходом в поэтическое восхищение, чтобы завершиться благоговейным созерцанием…
По дерзости подобного вступленья с заявкой на право беспардонного вольнодумства во имя пока непознанного следовало предположить на очереди еще одно студентово изобретенье, тоже нулевой научной значимости из-за полной неосуществимости поверочного эксперимента. Ожиданья сбылись, мне предстояло ознакомиться с дымковской версией мироустройства. И если дотоле созданье принципиального образа Большой Вселенной затруднялось недосягаемостью ее для целостного охвата, то здесь она была усмотрена вся, извне сущего, с некоей сверхкрылатой высоты. По Никанору, для достижения инженерной конструкции предмета в масштабе метагалактики лучше всего по-детски, без догматических предубеждений вникнуть в первичный иероглиф замысла. Самые сложные явления легче постигаются в их детском рисунке. В обратном же направлении производимое исследование потому и обречено на бесконечную длительность, пограничную с непознаваемостью, что до своей обзорной вышки разум добирается по шатким, друг на дружку составленным лестницам уравнений и гипотез с единственным щупом в виде звездного луча. А много ли океана углядишь через прокол диаметром в геометрическую точку? Словом, налицо был тот случай, когда большой науке вряд ли следует из престижной щепетильности отказаться от сотрудничества с бывалым лицом даже сомнительного происхождения, чтобы и впредь не таскаться на улитках по беспредельностям космоса.
– Иногда крупица истины служит катализатором системности в запутанном хаосе незнания! – наставительно сказал студент и намекнул, что дымковским ключом вся тайна распутывается в логическую нитку, как бабушкин клубок.
Машина мира выглядела символическим кружком из двух внутри близнецов-головастиков, как у древних китайцев обозначалась структура неразрывного и равноправного единства противоположностей – света и тьмы, зимы и лета, плюса и минуса в данном случае. Соприкасаясь по разделявшей их синусоиде, они сообщались лишь через мощные протоки, стихийно возникавшие каждый раз, когда отбывшие свой век огненные гиганты, с захватом звездной мелочи из окрестностей и закручиваясь на лету, исчезали из нашей видимости, проваливаясь куда-то, но не просто в глубь себя, а в смежную половину на переплав в свою диалектическую ипостась. Иначе, успокоил меня Никанор во избежанье пессимизма, застрявшие в собственных ямах-ловушках светила небесные навсегда остались бы в них, и тогда отведенный нам на жительство прелестный уголок превратился бы в свалку промороженного утиля. На полном разгоне прорываясь в свое иррациональное состояние сквозь знаменитое табу предельной скорости, материя в тот мнимый момент (как бы протестуя против столь невежественного обращения с нею) радиоревом раздираемого Самсоном льва оглашает безмолвие космоса. Кстати, при переходе через нуль подобная метаморфоза должна уложиться в некое абсолютное мгновение, куда запросто вместятся тысячи людских поколений, целые геологические эпохи, что позволяет судить о мимолетности нашего эфемерного существования на шкале космического времени… Значительно расширила мой кругозор ценная студентова догадка насчет звездных могил, которые в действительности не имеют дна, так что слепительные ядра, наблюдаемые посередке разных возрастом и порою все еще вращающихся галактик, суть не что иное, как яростные выплески плазмы по ту сторону синусоиды. Но отрадней всего было узнать про наш любимый Млечный Путь, который не сгинет в неведомых просторах антимира, а, напротив, по миновании обязательных фаз эволюции снова станет оазисом прогресса и цивилизации, правда, с сомнительным по части этики и физиологии комфортом в том зеркальном его отображении, которое предстоит нашей Вселенной.
На беду мою, изложение дымковской теории велось так беспорядочно, с частыми пробелами и перескоками с одного на другое, что никак не удавалось мне свести сообщаемые сведения в стройную законченную систему. Будто бы, например, со школьной скамьи известные нам физические законы далеко не обязательны для всех этажей мироздания. Как видно, научно немыслимые бездны с диковинками светимостью чуть ли не в миллион солнц простираются во все стороны. Поэтому, ступенчато спустившись в одну из них и нигде не возвращаясь вспять, можно прямиком сквозь круговую анфиладу вселенных выбраться наружу в прежней точке пространства и времени, от которой еще недавно наука и религия каждая своим кодом вели отчет бытия. Парадоксальная заумь нашей мысленной прогулки объясняется тем, что кольцевой маршрут ее является силовой орбитой атома высшего ранга, повергающего разум в смирение. Словом, в основе сущего лежит циклическая повторность, подтверждающая указание, что все зримое на свете обязано своим бытием мелкоэлектрическим кубарикам, которые даже ночью крутятся в нас самих, но мы привыкли и не замечаем. И как бы в подражание им целые галактики, невзирая на свою громоздкость, тоже пребывают в непрестанном коловращении. Так что при внешней сложности вся механика Вселенной сводится к заурядному меж двух полярных крайностей качанию маятника, четким пульсом коего гарантируется упругое постоянство, то есть вещная прочность машины, а фазовым его состоянием мерится поэтапно-разный возраст никогда не умирающей Вселенной. Тут по невозможности описать процесс во всей его протяженности лектор прибегнул к опыту чисто житейской практики: ежели левое плечо некого единства поднимается, то, по закону коромысла, столько же его с правой стороны опускается. В особенности, говорят, это заметно на примере всякого слишком быстро летящего предмета, когда самая даже ничтожная на старте масса его с приближением к максимальной скорости безгранично возрастает за счет чего-то полностью исчезающего на финише, ибо ничего не может взяться ниоткуда. Нет сомнения, речь явно идет о времени, за ненадобностью перестающем быть на окраине бытия, по авторитетному свидетельству ангела из Апокалипсиса. Не значит ли это, что именно оно явилось той самой доматериальной, сверхъемкой сущностью, из которой излилось все?
В частности, время в рассказе у Никанора подразумевалось отнюдь не циферблатное, каким пользуются при отсчете пульса либо для варки яиц, а то абсолютное время античной теологии, обозначаемое именем Хрона, от семени которого произошли стихии, боги, звезды, зародыши всякой живности земноводной. Недаром в равноправной триаде сущего: пространство – время – материя (где, заумно разъяснил студент, первое неправомерно без чего-то в нем размещенного, чья длительность определяется посредством второго и каким образом обе ипостаси являлись бы производными от третьей, кабы сами не обеспечивали ее бытие) – именно оно значилось на первом месте – посреди. Однако, начисто исчезающее в перевальной точке, время само должно было подвергнуться немыслимому для реальности сжатию в математическую точку праматеринской субстанции, которой предстояло из стадии первозданного бешенства выродиться в обыкновенную звездную плазму, чтобы, остывая дальше, вступить в пору плодоношения высших чудес – музыки, мышления и, скажем, моря, для чего, наверное, и было все затеяно. Невыполнимая задача вместить обширную небесную движимость в некий взрывающийся шар нулевого диаметра задолго до нас толкала людей на признание надмирной персональной воли. По Никанору же, заблуждение разрешается простой заменой одноразового вселенского цикла вечным кружением с постоянной многомиллиардной орбитой. При этом сверхтитаническое взрывное происшествие, почитаемое одними за акт божественного миротворения и принятое другими в качестве отсчетной точки для исчисления возраста Вселенной, на деле только рядовая искра энергетического переключения в смежно-полярный потенциал. А хрестоматийный библейский сказ с привлечением малоизвестных подробностей по Еноху, как оказалось впоследствии, представлялся моему просветителю всего лишь пригодной схемой для наглядного осмысления истории людей.
На ощупь и оступаясь, словно в дремучем Дантовом лесу, покорно тащился я за своим поводырем. Манящие огоньки наважденья, мелькавшие за стволами сказочного обхвата, воочию убеждали в близости желанного клада, который без терпенья не дается никому. Однако колдовская одурь понемногу уступила место робкому сомненью – не дурачит ли меня этот с очевидными задатками провинциальный увалень, из которого его шеф, признанный мастер философского носовожденья, растит пророка какой-то еще неведомой миру, в качестве панацеи ото всех бед, сумасбродной идеи?.. Осведомленный по Книге судеб о фантастической будущности своего питомца корифей совершал сие с обязательной при изготовленье адской машинки предосторожностью – самому не взорваться на ней, – чем и объяснялся, видимо, их странный симбиоз. И вообще, с виду достаточно безумная, как нынче требуется от научных сенсаций, а на деле ребячий пустячок, дымковская концепция в передаче рассказчика все больше, по мере углубленья в тему, приобретала отпечаток его подпольной личности, способной завести доверчивого простака в опасный тупик.
Теперь, невзирая на мое стесненное состоянье, студент принялся взламывать общеизвестный тезис иллюзорного, якобы спектрального смещения, обусловленного будто бы не ускорением взрывных разлетающихся брызг и осколков, а меняющимся соотношением возрастающей массы за счет убывающего времени. Другими словами, наблюдаемый эффект красного смещения диктуется не пробегом удвоенной, учетверенной дистанции за раз навсегда эталонированный срок, а напротив – один и тот же неизменный отрезок пути преодолевается за укороченную единицу длительности. То есть движение повсюду остается равномерным, но пройденное расстояние исчисляется за меньшее время, стремительно сокращающееся с приближением к финалу. Означенный парадокс уподоблялся у Никанора нередкому в рыночном обиходе усыханию гирек, когда ради маскировки растущей дороговизны снижаются вес и объем товара с прежней ценой на этикетке. Отвергая гипотезу разбегания галактик, он в особенности горячо осудил допускаемое кое-где сосуществование разноименных, зачастую перенаселенных живностью миров, которые подобно баржам со взрывчаткой свободно плавают в одном и том же фазовом поле.
– Сердце кровью обливается при мысли о возможных последствиях такого допущения, – с полной серьезностью сказал он, глядя куда-то вглубь и как бы созерцая уже разразившийся катаклизм.
– Понимаю… но что же в такой степени волнует вас, милый Никанор Васильевич? – не сдержался я, тронутый его заботой об участи многочисленных жителей, обрекаемых неправильной гипотезой на верную однажды гибель.
Несмотря на те боевые годы, когда все было возможно, ни разу не доводилось мне не только наблюдать, но и слышать о только что столкнувшихся галактиках. И, чтобы вернуть беднягу в русло гражданского оптимизма, я указал ему на огромную, по счастью, протяженность Млечного Пути, так что в случае малейшего соприкосновенья космических объектов местные начальники, оповещенные о грозящей опасности, успеют без паники наличными средствами уладить дело.
– Ах, вовсе не то, тут вещи поважнее! – отмахнулся он, имея в виду неизбежность жертв в такого рода событиях, и вдруг оказалось, что отнюдь не судьба материнства-младенчества и заслуженных пенсионеров тревожила его, а именно долгая и безаварийная среди стольких сцилл и харибд навигация нашего звездного корабля, немыслимая без верховного лоцмана, нарицаемого у них Демиургом мироздания. – А ведь вера в него и есть тот опаснейший опиум для трудящихся, как метко обозначена она в современной Библии человечества, не так ли?
Он испытующе уставился в меня и, почудилось, даже подмигнул мне как будущему сообщнику в каком-то неблаговидном предприятье. По условиям места и года разговор велся полунамеками ввиду возможных наших разногласий по коренному вопросу – чем именно, помимо паспорта в кармане, отличается обыкновенный кусок мяса от человека? Угадывая коварный финт ходом коня и чтобы не получалось что-либо нежелательное, я воздержался от прямого ответа.
К чести лектора, он охотно соглашался, что покамест дымковская модель мироздания годится разве только для умственной гимнастики и сравнительно с нею концепция Козьмы Индикоплова о Вселенной на трех китах может показаться кое-кому венцом математической смекалки. Однако благообразная и чопорная старина всегда, поворчав немного, почтительно сторонилась перед юной, непричесанной и напористой новизной. Отбиваясь от странного соблазна поддаться ей, я пытался сокрушить навеки главную ересь всей конструкции по Дымкову на манер того, как знаменитые праведники поступали со всякими исчадьями преисподней. Крестом служила известная мне понаслышке и счастливо подвернувшаяся в памяти парольная пропись при входе в святилище современной астрофизики сродни знаменитому Дантову заклятью на воротах ада. То была железная формула о запретности пресловутой абсолютной скорости для всего на свете, кроме фотонов да мысли человеческой.
Мою, неуклюжую пусть, вылазку в защиту здравого смысла Шамин воспринял почему-то как личное оскорбленье.
– А не приходило вам в голову, могучий ньютонианец, – обрушился он на меня, захлебнувшись словами, – отчего и только ли по нехватке инструмента некоторые мудрецы, особенно с привязными бородами, так яростно отвергают незримую суть айсбергов, сокрытую в пучине бытия? Или зачем виднейший из них задавался вопросом, мог ли Бог создавать мир иначе? Или ради чего мир стал задумчиво оглядываться на отвалы мыслительного шлака и утиля за спиной?.. Равным образом пассажиру в ракете на той почти роковой скорости с километром девяток после запятой свойственно противиться дальнейшему разгону из страха по инерции при малейшей задержке безгранично разбухшей массы непременно разбиться о самого себя, без чего Ахиллес никогда не догонит свою черепаху. Не бойтесь возможного просчета: лобастые потомки уточнят, утрясут наши с вами неувязки на своих совершенных арифмометрах, приспособят тайну к пониманию малышей. У вас зерно завтрашних открытий о Вселенной, держите крепче, чтоб не склюнул сквозь пальцы какой-нибудь проворный петушок!
…И тогда все сказанное раньше оказалось лишь предлогом для еще более абсурдных обобщений, масштабность коих достигалась посредством необузданного детского воображенья, у кого имелось, разумеется. К примеру, в корне отрицая божественность миротворенья, давность которого даже наукой исчисляется не свыше каких-нибудь двух-трех десятков миллиардолетий, дымковская теория низводила это сверхтитаническое происшествие в разряд проходного эпизода, энергетического щелчка, а истинный возраст сущего расширялся до полной непостижимости.
Во исполненья заветных чаяний человечества Никанор высказал твердую уверенность, что теперь уж скоро какой-нибудь отчаянный, Колумбова склада, Прометей сумеет ввернуть крюк в зияющую твердь небес и, на разведку подтянувшись ввысь, начертит для будущих смельчаков план тамошней мнимой пустоты с заветною, в окружении непролетных бездн, световою горой посреди, и на отвесной высоте с подножья, если голову закинуть побольней, станет видна та желанная мечта всех изгнанников, Адамовых потомков в том числе, – неприступная цитадель…
– …уразумели наконец чья? – тоном искусителя справился он и опять щурким из-под нависшего века глазком подмигнул мне в знак особого расположенья.
Разговор приобрел чрезмерную фамильярность касательно вещей, вообще-то всуе неприкасаемых.
– …и даже уразумел, совместно с кем предполагается освоенье этой целины, – на всякий случай поотстранился я от неположенных смертным знаний. – Все балуете меня всякими хитростями, Никанор Васильевич! К прочим в придачу еще одна: загадочный подкоп под резиденцию всевышнего. Не вижу смысла, зачем мне она?
– А его сразу-то и не увидишь, тут глубже надо копать! – посмеялся он на мою догадливость. – Дело в том, что последнее время мыслители с хозяйственным уклоном стали задумываться, к чему атеизм?.. И ежели для него не имеется особых, непубликуемых причин, то стоит ли тратить столько бумаги, усилий и просто государственных средств на опровержение чего-то заведомо несуществующего? Вся суть якобы в том, что, вдохновляемый техническими успехами, все резвей становится заложенный в человеческой природе ген овладения миром.
Высказанное сопровождалось обещанием будущего светоча Никанора показать мне чуть позже, как печальные и с виду вполне беспочвенные фантазии выглядят в натуральную величину.
– Хотите отправить меня туда, в дальнюю разведку? – с тайной надеждой на отсрочку пытался отшутиться я.
– А что же, в походе на розыск земли обетованной нет должности почетней, чем соглядатай грядущего, – сказал он и рикошетом, по недосказанному поводу, резко отозвался о вопиющей беспечности современников в отношении своей репутации у потомков, от которых будет зависеть судьба великих идей. – Судя по почерку, именно у вас получился бы вразумительный, в патмосском жанре репортаж об ожидающих нас бедах, если своевременно не принять мер самозащиты. Правда, ни подобающей шедеврам вечности, ни оваций читательских посулить автору не смогу… ничего, кроме крупнокалиберного разноса вроде того, что привел вас однажды к нам на Старо-Федосеевский погост. Не исключено, впрочем, что фатальная ситуация разразится досрочно, и тогда возвращаться оттуда станет незачем да и некуда, пожалуй…
– Если так скоро, то кому нужен будет подвиг мой… разве только уцелевшим?
– Не уцелевшим, а еще живым! – поправил мою догадку на глазах у меня вдруг повзрослевший молодой человек. – Книга ваша была бы им как прощальный с птичьего полета и за мгновение до черного ветра человеческий взор на миражные в тихом летнем закатце, уже обреченные города Земли. А заплутавшему путнику на исходе души воспоминание о бывшем стократ дороже глотка утренней росы в пустыне. Не сопротивляйтесь же, коллега… – И выполняя обещание, преподнес мне пару-тройку весьма впечатляющих эпизодов, наугад взятых из коллекции Дуниных видений и тотчас органично вписавшихся в сюжетную канву моего повествованья.
– Похоже, преуспевающий госстипендиат Никанор Шамин сам верит в реальность этих галлюцинаций? – осудил я преступный в наше время пессимизм в столь масштабном развороте, да еще с инфернальной подсветкой.
В доказательство своей правоты Никанор выдвинул несомненную аксиому, что наше восприятье вещей и событий целиком определяется не только умственным кругозором или психическим настроем наблюдателя, но и состояньем действительности, которая в момент ужаса и поиска норы самоспасенья может представиться ему в самом первобытном аспекте. Благодаря успехам просвещенья, мы даже солнышко разжаловали в захолустную звезду со ссылкой на окраину системы, но кто знает, не вознесет ли его когда-нибудь обратно в ранг сурового и милосердного божества потрясенное сознанье наше? Генеральная перестройка человечества, помимо прочих причин обусловленная все возрастающей теснотою множества, лишь началась на планете и вряд ли обойдется без крупных социально-сейсмических подвижек, которым исступленное людское отчаянье неминуемо придаст эсхатологическое толкованье. Как бы ни обернулось дело, все равно послезавтрашний мир будет решительно не похож на позавчерашний. Отсюда, подобно тому как положенная на ладонь Вселенная упрощает постижение мироздания по Дымкову, такую же, пусть условную философскую обзорность приобретает и будущность по Никанору на меркаторской сетке апокрифа.
В качестве компаса для ориентировки в той безбрежной неизвестности собеседник предложил не менее вольнодумную касательно прогресса концепцию, правда, с благоприятной концовкой… Впрочем, вот приблизительная логика его рассуждений. С райских времен люди, как дети, в особенности тянулись к запретным дарам природы, и неспроста народный эпос поручил самой отборной сказочной нечисти охранять последние – не для утайки их от тех, ради кого создавались, а в защиту самих людей от обычных последствий ребячьего баловства со спичками. И почему-то с выходом наук на магистраль самых благодетельных с виду, но обнаруживающих вдруг обоюдоострую двоякость открытий рогатая охрана все чаще стала оставлять без присмотра не только запасенные на черный день склады ширпотреба, но и пульты управления сокровенными механизмами жизни и смерти. И так как нравственная зрелость ныне действующего поколения значительно отстает от уровня его технической оснащенности, то не мудрено, если кое-какие не опробованные на себе находки уважаемых кладоискателей по прошествии времени окажутся пакетом мин замедленного действия, так сказать, сувениром доброго дедушки на рождественскую елку внучатам.
Внезапная подмена ужасной, зато мыслительной версии мирокрушенья другою, уже планетарного масштаба, устрашала в смысле пока, но, значит, было подумано, если Никанор свернул с главного на колею смежного варианта, и, к стыду моему, поддавшись наважденью момента, я ощутил жуткий холодок чьего-то незримого присутствия у себя за спиной. В свете этой единственно вероятной догадки меня буквально обожгло воспоминанье о моем сверхудачном визите в деканат корифея всех наук. Непрошенная откровенность его подопечного насчет секретов преисподнего ведомства смахивала на посвященье завербованного в некую вредную авантюру. Иначе, как и в случае моего отказа от сотрудничества, разглашенье хозяйских замыслов грозило серьезными последствиями для нас обоих. Словом, игра зашла в ту опасную крайность, когда следовало выяснить, на кого работает мой собеседник.
К утру наше ночное ощущенье действительности настолько сроднилось, что мы без труда понимали друг друга.
– Не опасайтесь того, что сейчас у вас на уме, – прочел он мои мысли. – Есть основания полагать, что распространенное мнение об их неземных возможностях шибко преувеличено.
– В данном случае, – вполголоса, доверительным тоном посредника заговорил Никанор, – стремясь заранее во исполнение надежд снискать симпатии у трудящихся, подразумеваемый господин жаждет любой оказии предстать перед нами в более современном, нежели у Еноха, атеистическом облике вожака, основоположника борьбы с небесной тиранией…
– Ну и пусть предстает: если выдержит! – оборонялся я от соблазна заглянуть на тот берег через приоткрывшуюся щель.
– … простите, я недосказал! – перебил тот. – Только что вы правильно истолковали успех своего визита в контору корифея. Ваше участие сводится всего лишь к публикации новой схемы небесного раскола, которая будет сообщена вам по ходу дальнейших встреч. Все происходит на основе добровольности, без малейшего принуждения, даже напротив! Раскрытая в ключе наших с вами предпосылок лоскутовская эпопея вывела бы читателя на простор закосмических обобщений и при достаточно искусной мотивировке сработала бы в плане избавления его от болезненных разочарований.
– Хорошо, – мысленно поскрежетав зубами, согласился я выслушать соблазнительное для автора предложенье. – Пожалуйста, если не секрет, расшифруйте ваш намек!
– Хотелось бы по возможности срочно и наглядно предупредить род людской о генеральной яме на его столбовой дороге к так называемым звездам, – кратчайше сформулировал он, предоставляя остальное моей догадке.
– Тогда в каком аспекте… точнее, которая из обрисованных вами ям… та предвечная, или нынешняя глобальная, или обе сразу имеются в виду?
– В том именно, как она выявляется нам сегодня, – отвечал неистощимый путаник мой и в теплых словах, несколько туманно пожелал человечеству успешного сопротивления любым козням зла.
В итоге получалось, что хотя по миновании бурь и ям ждет людей единственно спасительная эра без сорных профессий и потребностей, также без порочных мечтаний, некогда служивших дрожжевой закваской при вызревании великих творений духа, – пусть даже эра вовсе беспамятная в плане большой истории, которая всегда писалась черными и красными литерами горя народного, эра некоторого измельчания, обусловленного необходимостью разместить любое стихийно возрастающее множество в некоем постоянном объеме, с обязательной интеллектуальной и габаритной подгонкой особей, чтобы места и пищи хватило на всех, – все же не следует торопиться с возвращением назад, под крыло матери природы…
– Впрочем, – утешительно добавил Никанор Шамин, – океану не придется делать мучительный выбор, стоит ли ему перемещаться в незнакомое геологически приуготованное лоно…
Похоже, дело сводилось к желанной наконец-то замене низменного, доныне правившего цивилизацией стимула личной корысти благодетельным инстинктом единой для всех судьбы и выгоды – с правом каждого на посильное ему духовное обогащение, разумеется. Равное для всех регламентированное счастье было, по Никанору, достойнее человеческого звания, нежели прежняя беспощадная, из-за угла умственного превосходства охота на ближнего. Правда, это было связано с той неминуемой перестройкой порядком ниже, какою обеспечивается в природе биологическое бессмертие вида, уходящего в свою безбрежную, навеки беззакатную утопическую даль… Короче, здесь особо сказалось генетическое, во имя жизни, приспособление к грядущему бытию, с помощью которого эволюция гарантирует благополучие потомков, взращенных на горькой и жгучей золе отпылавших поколений.
Чтобы вернуть чересчур смышленого юнца в русло благоразумия, я напомнил ему построже, что в суровые исторические времена безобидный прогноз плохой погоды может кому-то под горячую руку показаться клеветой на светлую будущность человечества.
– Вот и жаль, что в повседневной загрузке наши люди не имеют времени интересоваться последствиями совершаемых ошибок, – мальчишески поворчал он и вдруг, смутясь моего пристального молчанья, согласился нехотя, что мы и в самом деле малость отклонились не туда от нашей первоначальной темы.
Впрочем, ввиду зловещего облачка, появившегося на современном горизонте, ничто не может снизить важность затронутого вопроса. По всем признакам человечество вступило на переломный порог своего исторического бытия. Коль скоро весь зримый мир пропущен за минувшие века через мысль и руки наши, он является твореньем человека, начертанным на мерцающем экране еще не доследованных стихий, и генетическое уничтоженье наше полностью совпало бы с церковным концом света. В случае чего мы угаснем вместе с нашим удивительным шедевром. Иначе допущенье дальнейшего существованья чудовищной вселенской машины, продолжающей свою работу уже ни для кого, способного охватить ее разумом, означало бы признанье других иррациональных реальностей за пределами нашего сознанья.
Не исключено, однако, подобного рода рассуждения покажутся скептикам слишком вольной импровизацией на щекотливую тему. Бывают такие прочные оптимисты – уж ворон бедняге глаза клюет, а он и не чует. Дьявол слишком хитер, чтобы оставлять следы на месте преступления.
Знаменитые пожары прошлого возникали от обыкновенной людской спички, которая сгорала в первую очередь, заодно с поджигателем. Наиболее подходящим предлогом к такому развороту событий, не теперь, так в следующий раз, могло бы послужить подоспевшее, на вполне логическом перепутье противостояние полярных социальных систем. Все станет возможно в запале, когда элита богачей, встревоженная близостью грядущих перемен, рискнет на отчаянную вылазку с применением адских, высшей убойности новинок, вроде: поджечь океан у берегов противника, либо защитный купол озоносферы, обрушить рентгеновскую бездну на его территорию, словом, собственной головой швырнуть в ненавистную мишень. Легко представить недолговременное счастье знати, отсидевшейся в подземных норах от необратимых последствий катастрофы. Уцелевшие от боли и безумия, они будут сдыхать от крыс, смрада и кровавой рвоты при виде повсюду разлагающейся человечины. Ибо даже для прежней могущественной цивилизации было бы непосильно в пределах санитарной срочности предать земле многомиллионный, по первому заходу укос смерти. Кабы мы, люди, догадались заблаговременно, сложив всю свою поганую взрывчатку промеж надежных горных хребтов, шарахнуть ее разом к чертовой бабушке, то, конечно, малость закачался бы на орбите шар земной. Однако находящиеся на достаточной глубине в шахтных укрытиях ученые-наблюдатели разгадали бы наконец, что не от потопа или голода померли несчастные динозавры, а от чрезмерных для живой твари сердечных переживаний. И присяжные скептики сквозь землю напрямки, в пламенном зените над собою опознали бы личность истинного вдохновителя назревающей самоубийственной эйфории.