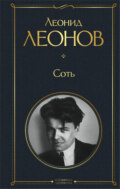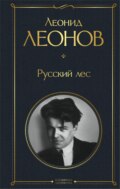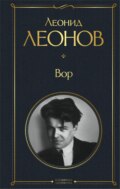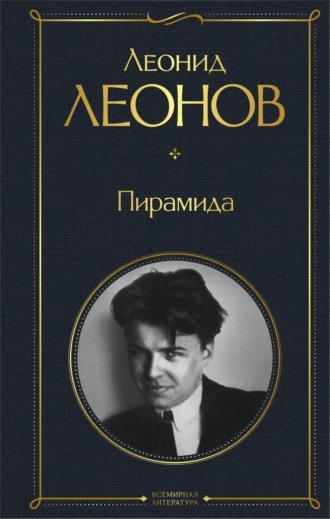
Леонид Леонов
Пирамида
Глава XIX
Ввиду крайне скудных сведений о краях потусторонних можно лишь гадать насчет дымковской принадлежности к тому или иному ведомству неба. Столько раз проявленное им непростительное легкомыслие начисто исключает причастность его не только, скажем, к управлению космическими стихиями, но и куда менее сложным занятием придворных льстецов, где, если и обходятся без ума, требуется известная изобретательность в разнообразии приемов. Местонахождение Дымкова на колонне, а также характер размещенных внутри ее, то и дело меняющихся пейзажей, дают основание предположить что-то вроде маячной службы на бескрайнем океане времени, в чьей поверхности, как выяснилось позже, одинаково, подобно плывучим облакам, отражаются прошлое и будущее. И, наконец, самое наличие таинственной двери да еще связка ключей в руке позволяют приписать ему заведование запасным выходом к нам оттуда и наоборот. Оставление доверенного поста без присмотра, как и допуск туда посторонних в лице Дуни, показывает, что и у них там, со скуки, что ли, случаются акты преступного пренебрежения своими охранительными обязанностями… Менее всего Дымков был бы пригоден для дипломатии.
Однако ряд неуловимых подробностей указывает на особую, довольно высокую, хотя и не выясненную цель его прибытия на землю, вряд ли только разведывательную, так как происхождения своего он и не скрывал: чаще всего ему просто не верили. Тогда как можно было посылать с ответственной миссией настолько неискушенное существо, что сразу оступился в сети, расставленные ему с явным умыслом поймать, извалять во всяком непотребстве и, тем самым отрезав ему обратный путь к отступлению, применить невозвращенца впоследствии для своих коварных надобностей? Еще трудней задним числом установить характер возложенного на Дымкова, заведомо непосильного ему поручения, почему и надо искать поблизости дополнительное, тщательно законспирированное лицо, осуществлявшее как наблюдение за ходом командировочных дел, так и повседневную связь с небесной метрополией. Однако и собственная его роль в той большой игре, наравне с прочими, старо-федосеевскими ее участниками, настолько темна и временами бессмысленна, что невольно все они представляются порой живыми зубцами гигантских сопрягающихся шестерен какого-то жесточайшего и, в свою очередь, далеко еще не главного оборжавевшего механизма, провиденциальные очертания которого растворяются в сумраке нашего неведения.
Надо забраться повыше, чтобы с птичьего, вернее, даже ангельского полета постичь назначение и логику помянутой машины, чем всегда, без особого успеха, и занималась человеческая мысль; некоторые, попроще, полагают нашу боль естественной вследствие истирания ее на износ работающих частей. Как бы то ни было, после аблаевской гибели и временного затишья местные маховики и колеса снова со ржавым скрежетом пришли в движенье, осуществляя, по объяснению Никанора, энтропический перелом чего-то в ту первичную пыль, с которой якобы все и началось. Так подступила новая полоса лоскутовских несчастий, в свою очередь, открывшаяся внезапным ухудшением погоды.
Еще утром того дня, оторвавшись от каторжного верстака, выбегал о. Матвей наружу дыхнуть однова и никак насладиться не мог зрелищем пробуждающейся природы. Галдели на новосельях еще до Благовещенья прилетевшие грачи, а березы при каждом ветерке со скрипом потягивались после зимней спячки, и, хотя из глубин кладбища еще тянуло мертвым ознобом, по всей поляне за палисадниками сверкали озерца натаявшего снега и дымилась на припеках старая раскормленная кладбищенская земля. Уж продрог, просырел весь, а все стоял на крыльце, прикрывая ладонью заслезившиеся на солнце глаза, позабыв про лежавшее на нем задание почти государственной ответственности. То был заказ участкового милиционера, который не то чтобы оказывал преступное покровительство старо-федосеевским лишенцам, а вот уже третий год как по перегрузке делами не проявлял на них служебного рвения. Самое обращение такого человека, как Иван Герасимович, к кустарю-одиночке, да еще при наличии спецснабжения, представлялось о. Матвею проявлением желанного тепла, участия и доверия, почти окошком из темницы в мир, поэтому не хватило совести назначить за работу истинную цену. Меж тем, вчерне готовое изделие, из сырья заказчика сшитые сапоги даже в полуотделке выглядели вершиной обувного мастерства, достичь которой батюшке помогло нередкое среди верующих состояние чисто религиозной благодарности могущественному начальнику за оказанное благодеяние, состоящее единственно в непричинении горя. Егор обещался по возвращении из школы навести на них последний глянец, но и теперь они могли бы служить украшением любого жилища среднего достатка, кабы приступившая к предпраздничной уборке Прасковья Андреевна не потребовала от мужа расчистки его рабочего, всякой подсобной снастью загроможденного угла.
После обеда батюшка и отправился в обход заказчиков, хотя обычно это поручалось Егору, которого в тот день вызвали в школу на субботник по сбору металлолома. В силу обострившихся гонений о. Матвей последнее время избегал без острой нужды показываться на людях, хотя самая кратковременная, в пробежку, вылазка доставляла ему больше сведений о нынешнем мире, нежели прочтение газет. Для таких походов старо-федосеевский батюшка облачался в особо неприглядную кацавейку и повышенной емкости шапку с целью сокрытия долгих волос, чтобы видом своим не наводить подростков, особливо при подружках, на грех поношения, слишком соблазнительный по причине его ненаказуемости… Сразу по выходе на крыльцо обнаружилось, что недавнего вешнего умиления не осталось и в помине.
Колючая снежная крупка порывами стегала притихшую природу, попрятавшую куда пришлось и воробьиные забавы, и водяные зеркальца, и совсем было набухшие древесные почки. Поеживаясь от пронизывающей поземки, бежали, как и в будни, всевозможные труженики и их иждивенцы всяк себе на уме и, казалось бы, в разные стороны, но все одной семьи по какой-то сиротливой помраченности во взорах. Лишь по миновании мигавшего огоньками Мирчудеса и не доходя районной сберкассы, попалось о. Матвею благоприятное исключение. На приступках торговой точки с вывеской зоомагазин продавалась разная мелкая и бесполезная живность, и в окне соответственно была выставлена снасть для ее ловли, домашнего содержания и ухода. По оживлению у входа кто-то даже высказал вслух догадку, что ввиду усиленных международных расходов выкинули к празднику какое-то импортное баловство. Решаясь и на себя потратить копеечку времени, о. Матвей поднялся туда вместе с другими во утоление любопытства.
Немолчный птичий галдеж переполнял душное помещение, и, хотя ничего соблазнительного не виднелось на прилавках, почему-то все там годилось для плодотворных размышлений: райские рыбки резвились в волшебном зеленом плену, свидетельствуя о выгодах отсутствия разума, и, по соседству с ними, озябшие ужи свисали на обглоданных сучках, внушая людям законную гордость по поводу конструктивного преимущества. Все теснились почему-то в правом дальнем углу с абсолютно голыми полками и при почти трамвайной уплотненности не бранились, не пропихивались вперед, а стояли смирно, слегка в испарине от спертой духоты, поглощенные какой-то происходившей там чрезвычайностью. И едва о. Матвей легонько втиснулся в толпу, его сразу, несмотря что поп, да еще с таким горбом, вряд ли из почтения к одной седине пропустили к самому прилавку.
– Чего нонче дают-то? – по-свойски осведомился о. Матвей, и никто ему не ответил. Поначалу да сослепу взору его представилось как бы копошенье солнечных бликов на песочке, просеянных сквозь июльские ветви, – они оказались цыплятами, когда достал очки. На листе фанеры толклись, дремали, покачивались живые желтые шарики, и одни пытались склюнуть что-то, только что приснившееся в скорлупке, другие же раздирающим писком вопрошали кого-то о том же самом, о чем и люди иногда по достижении известного возраста. Чернявая девчонка в халате продавца машинально и красными, с облезлым маникюром, пальцами сгоняла на середку подобравшихся на край пропасти.
Никто не приценялся, не спрашивал о породе или как обходиться с ними для получения исправных петухов и наседок, – все зачарованно молчали. Какая-то древняя тяга удерживала этих людей, заставляла забыть про должностное поручение, про дефицитный продукт, который тем временем могли расхватать. Наряду с бравыми и хорошо одетыми жителями виднелись победнее, даже совсем погнувшиеся от жизни, но и помоложе кое-кто, и так как никто не думал о себе, все они выглядели, как изваяла их судьба посредством своих железных инструментов. То была коллекция классических, словно из медицинского атласа выхваченных масок – душевных пороков и неизлечимых недугов, непроявившихся страстей, которые однажды, титаническим смерчем вырвавшись наружу, еще раз сожгли бы мир, если бы не самообуглились раньше, в самих себе, по отсутствию удачи, питания и социальных витаминов. Казалось бы, совсем чужих и ни в чем не схожих, сейчас этих людей роднила одинаково у всех светившаяся во взорах угрюмая нежность, трепетный отсвет в наклоненных лицах, как бывало от пасхальных свечей, и прежде всего смущенное, недоверчивое прозрение самих себя, где в потаенной глубине, вопреки всему на свете, еще жила искра святости и бродила среди пепла несбывшихся надежд.
Вдруг открылось о. Матвею, что и его тоже, как прочих, ужасно тянет в руку взять, согреть дыханием и заодно самому погреться об этот комочек неповинной ровно ничего не стоящей жизни. Судя по непроизвольному шевелению пальцев, больше всех не терпелось стоявшему рядом пожилому вроде подполковнику в бывалой шинели и, конечно, из внимания к приближавшейся тогда большой войне, заикнись он только, его уважили бы в обход циркулярного запрещения тискать товар без надобности, но ясно было, что из благородных побуждений тот ни в коем случае не воспользуется своим преимуществом, ибо о том же мечтали и прочие, а меж ними один отрок с такими кроткими очами, когда в народе говорят – не жилец на белом свете. Но продавщица сама, по личной симпатии протянула военному подержать наиболее боевого, шумливого сорванца с темным хохолком на темени, так неожиданно и сердечно протянула, что при очевидной армейской закалке избранник не устоял перед соблазном и в ущерб своему воинскому званию даже краской залился. Никто кругом не осудил военного за согласие, не позавидовал счастливцу, обреченный отрок в том числе. И так тепло стало на душе старо-федосеевского батюшки при виде преображающей улыбки, которая подобно круговой чарке обошла уста всех, что невольно нарисовалось в воображении, как сбившиеся в кучку силы небесные, один через плечо другого, любуются сверху на происходящее в зоомагазине преображение граждан.
До вечера, пока не ударило бедой, о. Матвей ходил вяло, говорил тихо, расплескать боялся праздничное настроение. «Ведь не обилию курятины радовались, тогда чему же?» – размышлял он, приходя к выводу, что не в хваленой красоте дело либо телесной сытости, а все лучшие людские порывы, религии и утопии вспоены именно из этого дивного родника: тайность обожествленной материи. И коли все непосильней становится править жизнью даже христианству, где парением духа бессмертного малость облегчается груз существования, то как же придется маяться бедному коммунизму по отсечении крыльев веры! Сочувствие его объяснялось нередким в те годы среди церковников поиском какого-нибудь примиренья с современностью. Впрочем, о. Матвей и сам понимал, что любой ее агитатор легко рассеет его потешные тревоги указанием на общеизвестные успехи воздухоплавания, преодолевающего тягу земную на основе моторостроения все возрастающей подъемной мощности. Пока обходил заказчиков, погодка вовсе потускнела, и в силу возраста стариковская радость поразветрилась, так что на обратном пути, поближе к сумеркам, от всего праздника только и оставалось благостное утомление, как в прежние годы бывало после вербной всенощной. Тем временем подступил и вечер – не самый страшный, пожалуй, зато и самый долгий в домике со ставнями.
В такие минуты, естественно, возникает потребность к задушевной беседе: отогреть замерзшую птичку, проявить милость к падшему, если без особого расхода или чрезмерного напряжения сил, а тут и случай подоспел. Сразу по вступлении в ворота обители о. Матвей усмотрел в глубине рощи пробиравшуюся меж ветвей искру, крайне его насторожившую, хоть пожаров на кладбищах и не бывает; следом пропорхнула другая, пошустрей. Даже глаза себе усиленно протер для верности, когда же потаяли цветные круги в поле зрения, то дополнительно к прежним уликам уже не без гнева, батюшка учуял носом распространявшуюся гарь, и как бы сгущение воздуха чуть затмило сквозившую меж деревьями зорьку. Исхождение дыма из суховеровской усыпальницы указывало на затянувшееся там пребывание странника Афинагора, впервые и то косвенно напомнившего о себе за всю зиму. Еще утром подобное открытие повлекло бы немедленно его изгнание, так как отныне, по миновании снегов, столичные сыщики, повсюду рыскающие за врагами коммунизма, запросто могли застукать сокрывающееся здесь без прописки подозрительное лицо – с болезненными для старо-федосеевцев последствиями. «Уж и весна на дворе, а он все тут!» Однако извинительное для хозяина и родителя негодование сразу погасло: старец представился о. Матвею лежащим на обледенелом, без подстилки, гранитном ложе, в немощах возраста и бедственного одиночества.
Неслышно пробравшись на кухню, чтобы матушку не пугать, а пуще – не бередить одну незажившую материнскую рану, батюшка наскреб отовсюду всякой всячинки съестной пригорушки три, где среди третьевошной еды попадалось и совсем свежее, а бродяжке все впору!.. Скорой рукой, пока матушка с погреба не вернулась, поклал в порожнюю консервную банку, годную и котелком послужить в дальнейших странствиях, сверху же квашеной капусткой прикрыл и, увенчав сооружение горбушкой хлеба, вынес под полой… Жаль еще, леденцов в бумажке не прихватил – подсластить злосчастному старику созревшее в нем в дороге отказ-приказаньице, чтобы враз по выздоровлении исчезал бы отселе с глаз долой. «Христа ради, покинь нас сирых: без тебя трижды на дню с жизнью прощаемся. Зимку дотерпишь кое-как, вон звери-то не помирают, а летом везде тебе шалашик. Конец, конец нашей милости!» И вдруг разум опалило догадкой, что совсем близко теперь – развеется и лоскутовское гнездо по ветру русской смуты, и кабы не тянули постылые начальники со сносом Старо-Федосеева, поторопились бы, вот бы и попутчик о. Матвею в предстоящих странствиях по родной земле.
С оглядкой сообщничества о. Матвей протиснулся в решетчатую калитку, нажал плечом пристывшую к наледи дверь и в нерешительности замер на пороге: ничего было не слыхать, кроме бульканья. Однако блаженное, хоть и с придухом перегретого железа, почти банное тепло вместо ожидаемого чада, равно как и обшитые фанерой стены, заставляли забыть недавнее назначение каменного каземата. Глухая при входе занавеска преграждала путь, образуя род прихожей – повернуться разок, но в просвет справа, где-то вдалеке, виднелась ископаемого образца печурка с докрасна накаленным выводным коленом, и такой же пропащий чайник весело клокотал на ней, бренчал крышкой, чуть не приплясывал, что в особенности не понравилось о. Матвею. Окликнувший его голос – кто там без спросу ломится? – показался знакомым, однако легкомысленный склад речи как-то оскорбительно не вязался с обликом замерзающего старца.
– О-о, никак сам игумен пожаловал… салют, салют! – приветствовал тот же голос заглянувшего сбоку о. Матвея. – Заходи, чайком побалуемся… только прихлопни там потуже, застудишь ты мой вигвам!
Правда, на первый взгляд складывалось впечатление уютной, но крайней скудости. «Вот как надоть жить, – невольно подумал о. Матвей, – не тратя души на приобретение обременительной ветоши, чтоб не жалко было покидать, в известном смысле, съезжая с квартиры». Дивясь хитрости нищих, о. Матвей ревнивым взором обежал помещение, при очевидной тесноте обладавшее всеми удобствами пещерной цивилизации: странно, что столько умещалось там, в пространстве чуть поболе ладони. На продолговатом, под клеенчатой скатеркой, опрятном столике, ничем не напоминавшем чем он был раньше, красовалась постная, по христианскому сезону, однако в достаточном ассортименте всяческая снедь, даже лакомые груздочки в плошке, что для бродяги было, пожалуй, и не по чину. И вообще далеко не вся там утварь с мебелью была свалочного происхождения. Так у стенки, например, с необъяснимой точкой предчувствия батюшка обнаружил словно дразнивший своим сходством красный диванчик, выглядевший родным братом лоскутовскому канапе; еще прижизненное подношение одного безвременно погибшего благодетеля, оно много лет служило украшением домика со ставнями, пока под плюшевой обивкой Прасковья Андреевна к ужасу своему не обнаружила затаившихся там клопов. А несколько в сторонке… Все это время, во избежание какого-то сомнительного открытия о. Матвей избегал глядеть на постояльца, маячившего в поле зрения, но тут укорительно взглянул в упор. В левом углу, оказалось, устроена была низкая постель, надо полагать, на бросовом же войлоке с подбивкой из палого древесного листа, но прикрытая вполне добротным одеяльцем… и на ней в позе неглиже, с книжкой в откинутой руке, возлежал сам отшельник под сенью хорошо известной о. Матвею керосиновой лампицы, каким-то способом изъятой из его собственного чулана, в добротной, самому Матвею впору меховой безрукавке, придававшей ему вид скорее вольнодумца, нежели бегствующего иерея из разоренной русской фиваиды. Но в особенности смущало Лоскутова свисавшее у того с носа, на черном шнурочке и как-то неуместное в склепе адвокатское пенсне, то и дело повергавшее батюшку в сомнение насчет реальности происходившего. Тем не менее то был несомненный Афинагор, помолодевший от бездельного оседлого житья, а землистый оттенок на округлившихся щеках можно было принять и за санаторный загар. Однако если возмутительная, на голове, шерстями расшитая магометанская тюбетейка, прямой вызов приютившей его православной обители, хотя бы предохраняла от головной боли, то чем, чем мог прельстить духовное лицо заграничный сочинитель Франсоис Виллон, чью фамилию осведомленный в латинских литерах о. Матвей изловчился прочесть на корешке книги?
Занятно, что некоторые несообразности таинственно устранялись по ходу Матвеева недоумения, – так, едва подметил отсутствие в Афинагоровом хозяйстве бадейки с водой, последняя тотчас обнаружилась в темном углу с добавлением ковшика. Единственное, способное в дебри завести, объяснение заключалось в том, что застигнутый врасплох Афинагор по небрежности или рассеянности накинул на себя первопопавшуюся личину, нимало не сообразуясь со своей прежней внешностью. Покамест вступление выглядело до щекотки неправдоподобно, но так как в предшествующие годы о. Матвей попривык и не к таким приключениям, а до ночи особых занятий не предвиделось, тут ему до жути интересно стало – что из всего этого получится?
– Уж я тебя, братец, оттаивать собирался, в живых застать не чаял… – все еще с руками за спиной заговорил он, – ты видать славно прижился у меня… эку благодать вкруг себя развел, чесаный да гладкий лежишь, ровно конь после купания.
В ответ, как бы принимая тональность беседы, тот сравнил себя скорее с полевым увядшим цветком, который расправляет лепестки, будучи поставлен в воду, и теперь о. Матвей уже не воспринял шутку как неуместную вольность речи.
– Что ж, милость божия, дрова казенные… А ты полагал, я тут салатом из саранчи питаюсь? – посмеялся Афинагор. – Садись, низковаты потолки в твоих каютах, не зашибиться бы, а я тебе чайку с ромцем плесну. Не стесняйся, присунь в сторонку банку свою собачью, завтра пташек за твое здоровье порадую…
– Что ж, торопиться вроде некуда… – протянул о. Матвей, смущенный благоденствием бродяги.
Стало неловко не присесть на подвернувшийся за спиной чурбачок – просто из признательности, что избавил от стыда за досадное и жалкое приношение. И неизвестно, как тот обернуться успел, а уже протягивал обещанную, до краев налитую кружку:
– Бери-ка, игумен, погрейся со стужи.
И опять не было повода отказываться от дарового угощенья.
– Ну, воздай тебе Господь. – Приняв в обе ладони, он схлебнул на пробу обжигающий глоток, и собеседник, словно в зеркале, сделал то же самое с тем же плебейским всхлипом. – Ничего, с ромом-то, духовито, получается по погодке напиток.
– Пускай руки сперва потешатся. Верно, от ремесла чего-то затекать, стынуть стали да и в груди, опасаюсь, не завелось ли: теснит по утрам. Чужие каблуки сказываются… – И поспешно поправился во избежание иного толкования: – нет, не в том смысле! С прижатием-то их обрезать сподручнее.
– А может, от переживания? – подсказал мнимый Афинагор. – С Россией-то что творится…
Тут и поговорить бы, не было темы чувствительней у о. Матвея, даже в горле запершило, но свежи были частые наставления Прасковьи Андреевны во имя уцелевших деток не вдаваться в доверчивость с незнаемыми людьми.
– Не, не слыхал, до нас мало чего доходит. Эва, раку из-под коряги много ли видать? Иной раз рука глазастая близ норки под пиво тебя пошарит, а то случается, мертвое тело, чужое да исклеванное мимо проплывет. Уж старый стал, потерянный: когда и ткнут, мне не больно… абы копеечку на прожитие зашибить. – Все же, как ни вилял, ни осторожничал, а потребность в новостях с воли оказалась сильней благоразумия. – А чего с ней деется-то?
В ответ Афинагор лишь подмигнул разок сквозь непотребные свои очки:
– Уж будто и не слыхал, притворщик? Великое огнище полыхает, вот что. Который годок самоистребляется помаленьку. Видать, не терпится ей обратиться в пепелок… с целью поставленного ей предназначения.
– Да что же за цель безумная, вред себе такой причинять? – все тянул о. Матвей в полном убеждении, что его ловят на шальное словцо.
– С точки зрения горящего полена костер представляется величайшим безумием, а ты выше гляди.
– Ну, и выше… кто же он, согревающийся у нашего костра?
Кажется, начинал сердиться о. Матвеев собеседник:
– Полно ломаться, поп… видать, и впрямь за сыщика меня принимаешь. А тебя и словить – велик ли с тебя навар? Ты без философии лучше оглянись: в мире-то!
– А чего, чего в мире? – искусно и вполне уместно загорячился о. Матвей. – Сладкая чума бушует в мире, вот что. Под молитву чуть не раздемшись пляшут, на алтарях норовят сблудовать да еще при детишках, чтоб погрешнее. Грязи и в доме накопилося, некуда стало людям жить. А ее, нонешнюю, никаким мылом не возьмешь: ни язвой моровой, ни увещеванием Господним, ни огненным гоморрским дождичком: токмо правдою… Вот Россия и кажет на собственном примере – как оно осуществляется.
– Это верно, правда до костей моет, и погребать не останется, – согласился Афинагор. – Вот я тебе про это дело знатную байку расскажу. Давай-ка, я тебе еще кружечку нацежу…
Матушкин запрет не трепаться с кем попало вовсе не возбранял слушание чужого трепа. Однако построенная в стиле древнего сказания с современной словесной инкрустацией Афинагорова байка сразу заставила о. Матвея насторожиться, в пору бежать – кабы не интерес, чем окончится. Повесть свою рассказчик приписывал одной прозорливой нищенке, ветхая да сохлая была, комар с налету повалит, возраст ее, возможно, исчислялся веками в обе стороны, иначе как могла она провидеть подобные вещи задолго до начатия больших казней в России.
– …Будто бы, едва занялось над миром черное зарево, – приступил Афинагор, – поинтересовался Господь, что за шум происходит на земле. Оказалось, что люди, уповая на долготерпение его, напирают снизу, державу за глотку берут, с кистенями на него замахиваются, помышляют о вторжении в сокровенные его сущности, для которых пока не имеют даже словесного обозначения. Тут же Господь выразил пожелание повидаться с начальством, ведающим тишиной земною и благоденствием. Срочно доставили к нему на небеса, какие под руку подвернулись, мыслителей по указанной отрасли: как на подбор бритые и бравые, в габардиновых пальто до пят, в одинаковых с непромятым донцем шляпах набекрень или в нахлобучку по самые брови.
«Кто же вы такие, какое ваше занятие? – вопрошает Господь. – Что-то у вас, ребятушки, с прогрессом шибко не ладится».
«А мы те самые безумцы, которые… – хором отвечают все шестеро, хрипатые, – потому и навеваем человечеству сон золотой».
«Так уж достаточно навеяно, не пора ли перестать?..»
«Да вот люди толпятся, – объясняют предстоящие, – кровь из носа, требуют правду из темницы на волю выпустить. А мы ее не в темнице и содержим, а в храме подземном».
«Интересно, кого же вы, голубчики, и от кого охраняете? Людей от правды или самое правду от людей?»
«Толпа уже не люди, так что охраняем от взаимного прикосновения во избежание обиды».
Задумался Господь, головой покачал.
«Ах-ах, чего восхотели, по правде соскучилися. Ей, чистюле, и в огне-то из-за дыма и копоти не любо, а в смертном ихнем теле какое ей житово! – со вздохом потужил Господь. – Вот и раскопают себе, сердешные, сверхубойную заумность, хворь зубастую – на нее управы нет! У русских частенько хорошие мысля приходят опосля. Однако что с ими поделаешь, раз не терпится. Да она и сама, поди, по людям соскучилась, болезная: все впотьмах да взаперти!.. Сымайте с нее сбрую, пускай во взаимности натешатся досыта!» – рукой махнул Господь и отвернулся, чтоб не видеть.
Сутки утекло, пока тысячу замков да засовов отомкнули. На двенадцати цепях выводят узницу из подземелья в железных обручах для защиты от самой себя, чтобы, глядишь, не поранилась в порыве самокритики. Святая, нагая, бесстыжая, прекрасная, глаз не оторвать, без кровинушки в лице, она дрожмя дрожит, бьется от нетерпения, пламенеющим оком зыркает по рядам в поисках добычи полакомей, где чуть лжинкой пахнет…
И хотя ничего пока не случилося, а уж кущи лесные маненько пожухли, осыпались, а пташки райские, какие помельче, уголечками наземь пали, ангелята со страхом попрятались за трон Господний.
Люди, как заприметили долгожданную кралю, в ладоши плещут, головные уборы вверх кидают, которые порезвее в дагестанской лезгинке прошлись на радостях.
А правда глазами рыщет – «которые там с пятнышком». Тотчас подшагнула к ним желанная-то, и не успели ближайшие картузов надеть, с голодухи, видать, вмиг целую шеренгу передовых марксистов слизнула дочиста. Как начала она их лущить, по сей день лютует: даже кого огненно куснет разок, тот, глядишь, затлел на всю жизнь, по земле в корчах катается, обугливается, самостоятельно дозревая до стерильного состояния. Втайне у каждого на уме – лжицы бы глоток хлебнуть для лучшего притворства, чтобы не сразу удалось прочесть происходящее у него в середке: артисты стали! И чуть сумленьем повеет, враз в кружок становятся и, в загривки взаимно вцепившись, начинают друг дружку убеждать, чтоб на полусчастье не останавливаться, а добиваться полной победы не покладая рук. А до чего так докатится, про то ни одному пророку знать не дадено!
Темный румянец почти припадочного вдохновения злой Афинагоровой сказки разлился по слегка запухшим щекам о. Матвея, тем самым выдавая его криминальное и безусловное авторство, потому что давно узнал в услышанном свои собственные интонации. Все последние годы он, как вся страна, вперемежку со страхами ждал апофеоза древней мечты о правде, чей приход всякий раз тормозился жуткими вспышками ее ненасытной памятливости, презрением к телесной немощи людской породы, неспособной обеспечить подвиг во имя великой цели, все разраставшейся, вплоть до вселенского масштаба. Отсюда возникали о. Матвеевы не совсем христианские опасения – можно ли (в смысле прочности) строить общественную инженерию на основе утопической догмы о братстве без учета биологического неравенства особей, большой кровью подписывая исторические документы грядущего человеческого блага?
Ни с кем из домашних, даже с матушкой в иную тоскливую ночь бессонную, не делился он горьким сказаньицем своим, так откуда же досталась она бродяге? Вспомнилось, что при первом знакомстве забредший на кладбище бродяжка духовного происхождения сообщал отцу Матвею вещи давно тому известные. Сумма смутительных сведений становилась чистейшим наваждением, забавой над бедным, запуганным попом в развязной позе лежавшего перед ним двойника.
– На погосте дрова дармовые, ишь печку-то как распалил! – хозяйственно попрекнул, ледяными пальцами охлаждая распылавшиеся щеки. – Развезло меня с твоего зелья. Жаркое у тебя и дорогое, видать, винишко… Отколе раздобылся таким?
– Да, вишь, милостивец влиятельный завелся у меня невзначай. Прислал бедному отшельнику душу отвести на новоселье. В одну пламенную российскую непогодку на Вятчине встренулись мы с ним, да вот и породнились на всю жизнь.
– Откуда же он нынешний адресок-то твой в таком захолустье проведал? – встревожился о. Матвей, помышляя о неизбежной каре за непрописанного жильца.
– Беспокоишься, что без прописки у тебя поселился, милый Матвей, ибо тут, как бы выразиться половчей… действует нормальное, неподвластное милиции чудо, – легко читая опасения батюшки, насмешливо успокоил тот.
– При каких же таких злосчастных обстоятельствах довелось вам взаимно ознакомиться? – уже настороженно добивался у подозрительного пришельца приютивший его хозяин, пытаясь дознаться истины. – Значит, прочно у вас склеилось, что доселе помнит, балует помаленьку?
– Что тебе сказать? Познакомились мы с ним в глухих, родных дебрях, на славной речке Кожме при весьма занимательных обстоятельствах… – И дальше потекла плавная речь уже без малейшего церковнославянского акцента.