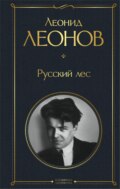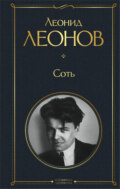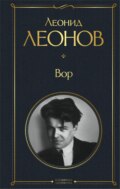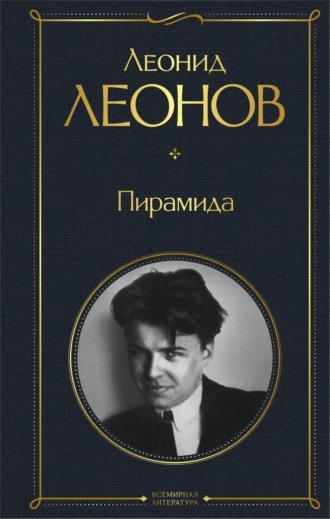
Леонид Леонов
Пирамида
– Не кажется ли вам, что своим социально-возмутительным сравнением покушаетесь на самую священную у нас из провозглашаемых истин?
– Напротив, образом яблони стремился только подчеркнуть присущую иным и отсутствующую у прочих способность плодоношения, в просторечии именуемую талантом.
Казалось, Гаврилов только и ждал этой искры, чтобы взорваться.
– Пардон, недослышал… кажется, вы упомянули про талант, святой отец? – так и подался он в исступлении к обидчику, что заставило старо-федосеевцев приготовиться к худшему. – Скажите, а вы сами не испытывали потребность вникнуть в морально-юридическое содержание сего хитрейшего, потому что неотъемлемого, из всех источников собственности, этой неиссякаемой чековой книжки, золотой россыпи единоличного владельца… тем самым разоблачить неравенство в самом оскорбительном для большинства, изначальном его проявлении? Нехорошо выглядят проповедники смирения в стане нищих, за которых обычно вступаются глубокомысленные экономисты в надежде поправить дело в революционной дележке с раздачей по пайкам накопленных знаний и сокровищ. Потому что самые ограбленные природой как раз нищие духом, и хотя в утешение им ваши евангелия сулят царство небесное, постараемся растянуть подольше на земле этот спуск в могилу. Если талант есть боль полета над бездной, то, может быть, Гаврилову вчетверо больней, ввиду отсутствия бездны под ногами. Вдобавок, помимо тоски о несодеянных подвигах, Гаврилова гложут бытовые клопы, тараканы и крысы, но он-то и есть та живая, соединительная ткань, по которой вышиваются узоры и розы прогресса. Когда-нибудь ради высшей справедливости и возникает бунт против обожествленного Прометея – расковать его, снять со скалы, отменить, настрого запретив ему дальнейшее страдание, возвысившее его над коленопреклоненной толпой!
К великому устрашению лоскутовского семейства, жаркая толчея смутных, угрозой и желчью приправленных обвинений против явного теперь адресата вылилась в ультимативную программу абсолютного равенства, вплоть до того, что раз зубная боль, то пусть заодно корчатся и другие. Были предъявлены законные права на те высшие, не внятные ему и, возможно, даже неутоляемые порывы феноменальных натур, полагающих счастье иной раз в мучительном розыске заведомо бесполезных сокровищ. Похоже, что в разгоне чувств и по невозможности подравнять всех на высший образец Гаврилов требовал от духовной элиты, чтобы во имя собственной сохранности она сама, прилагая все силы для подавления в себе запросов и потребностей, не помышляемых и не доступных для верховного большинства, благоразумно стремилась не только к спасительному эталону посредственности, но и добровольно отрекалась от авторства своих, безымянных отныне, открытий, поскольку производимые ею ценности не могут принадлежать лишь физическому их создателю, но всякому коллективу, питающему их соками своей среды, в чем и должно состоять творческое единство человечества. Ибо личный труд особи уже оплачивается сознанием, что ей предоставляется радость прочесть очередную тайну мироздания, ее руке поручено придать окончательную вещность шедевру, давно и незримо созревавшему в сердце народном… И пусть еще благодарит, сукин сын, за дозволенные ему взлеты ума, сопряженные со смертельным риском срыва, обусловленным высотой паденья. Неспроста революции так подозрительны к любимцам муз и мыслей. И так как всякая победа добывается бесчисленными пробами и промахами популяции, то полученный выигрыш становится общим приобретением вида в целом…
Монолог неожиданно завершился провозглашением здравицы передовой науке, разогнавшей мистический туман избранничества над человеком, вернув сынов Божьих на положенный им нашест.
Перечисленные идеи были выражены несколько проще, зато хлестче – на том митинговом фальцете, который порою кристаллизуется в программном тезисе. Если Гаврилова так дразнило слово талант, то следовало ожидать – при упоминании гениальности он захлебнется словами невпопад, вместо того оратор вытер губы несвежим платком и, выдержав паузу, чинно продолжил декларацию.
– Словом, – перешел Гаврилов на доступную для пониманья речь, – до предстоящей нам болезненной бухгалтерской процедуры хотелось бы мне, батюшка, обсудить ситуацию начистоту – не для единодушного согласия или там сотрудничества, а чтобы не осталось у вас от меня горького осадка. Лично против вас ничего не имею и, даже напротив, выросши в религиозной семье, рассчитываю на ответную симпатию… Вникнуть в нравственные мотивы моего поведенья вам попросту повелевает христианская мораль, если только она не профессиональное пустословие. Евангельские заветы давно вступили в острую борьбу с учением социализма, который берется воплотить мечту тружеников о зажиточной жизни здесь, на земле, без обязательного переселения в мир иной, где, как вы удачно выразились давеча в молитве, нет ни печали, ни воздыханий, ни потребности вообще. Давайте мужественно взглянем в лицо правде, которая, с одной стороны, сулит полное избавление от житейских, материальных в том числе, невзгод, с другой же – за дальнейшей ненадобностью обрекает на отмиранье религию, порожденную людским отчаянием. Кстати, как вы заметили, вторая половина генерального плана по обращению вчерашнего наследия в утиль выполняется успешнее, нежели основная – вследствие кое-каких технических неполадок, отсюда получается досадный временами перекос жизни, хотя сие не избавляет духовное сословие от исполнения заповеди Христовой всегда и во всем, если только не в ущерб себе, жертвовать собой во благо ближнего. В таком аспекте возникает каверзный вопрос: имеет ли христианин нравственное право воспротивиться, если сей ближний его, тоже семейный гражданин, извлечет из его беды некоторую толику пользы, чтобы не пропадало, как говорится, кошке под хвост? Не наша с вами вина, что во все эпохи двери истины и счастья отпирались разными ключами, не так ли? Однако если под влиянием жизни я стал нынче по-евангельски кроткий человек, то и не надо думать, что и мозгов у него полторы чайной ложки, сколько необходимо твари для полной благонадежности. И раз с загробным царством покончено, то принимайте меня на полное пайковое довольствие с правом на исторический подсвечник и прочие к нему причиндалы, включая умственный аплодисмент за муки сердца, в котором таится ничем не исцеляемая обида – потому что я тоже живу и хочу. Иначе мало ли что может от руки моей свершиться в ближайший выходной вечерок… вроде, например, нагадить в телефонной будке с попутным обращением аппарата в технически-необратимую негодность. Нет, не злоба привела сюда нас с дочкой, а стремление примирить вас с неизбежностью. Сколько соображаю скорбным умишком, глубокоуважаемый поп, нынче в мире творится всемирный экзамен вселенской мечты о золотом веке, и коли осрамимся, провалимся, то что останется ему, райскими виденьями отравленному, от мечты раздетому человеку, который станет хуже всякого зверя из бездны, если вовремя той евгенической операции не пресечь? Ему плохо станет, преподобный отец, несдобровать и умам ведущим, которые века гнали его на штурм вершин небесных.
– Все зависит, кого в поводыри выбирать… – вдруг решился возразить о. Матвей, как ни дергала его матушка за рукав, чтоб пуще не сердил разорителя своего, – земными-то средствами экие высоты рази одолеешь? Люди-то не во звере, а во Христе родня…
– Тут особого ума не потребуется понять обступившую нас безысходность, поскольку в сложившейся классовой борьбе уповать вам на пощаду не приходится… и, значит, вам, приговоренным, теперь должно быть все равно, лишь бы скорее! Причем я охотно разделяю ваше горе, но войдите и в мое положение. Вот, глядите, до пенсии еще далеко, а ранний снежок на висках, и астма, и никакой перспективы догнать сослуживцев, вымахнувших в большую служебную знать, да тут уже старшая дочка на выданье, а в коммуналке где я их положу? Мог ли я отказаться от редкой удачи выявить целое промышленное предприятие, по небрежности моего предшественника столько лет ускользавшее от налогообложенья? Вы в самом деле думаете, что мне, отцу многосемейному, безнравственно в студеную зимнюю ночь мимоходом погреться со своими малютками у ваших затухающих головешек? Повторяю, не надейтесь на поблажки, ибо за потачку лишенцам с нашего брата взыскивают порой даже по высшей мерке, а лучше обратитесь в главную инстанцию с жалобой, причем можете не щадить меня, ваш истошный крик только повысит мое классовое рвение в глазах начальства…
– Однако же, пардон-пардон… – коснеющим языком и вятским прононсом, машинально оглаживая шею, осведомился о. Матвей, – следует ли нам понимать речь вашу как местную анестезию перед отрублением или уже как дружественное напутствие непосредственно перед плахой?
– А ведь уже поздно, милые граждане, пора и совесть знать… – зловеще мирным тоном, на самом кротком регистре ярости возгласил чиновник, – я вам трапезу нарушил, и самого с ужином ждут… Зато уж деловой частью не задержу!.. Ввиду истечения сроков для подачи декларации о годичном заработке поторопитесь с внесением платежного аванса, как положено по закону – в размере не меньше трети от предполагаемой, не малой в данном случае, суммы обложения. Так что, согласно инструкции, обязан предупредить, придется мне при исчислении налога исходить не только из совокупности наличных трех доказанных источников дохода, то есть чохом со всей семьи как единой артели, с процентной накидкой за счет обычно скрываемых, хотя по духу закона с целью стимуляции производства полагалось бы взимать даже и с неполученных прибылей, не реализованных от своего ремесла единственно по нерадивости налогоплательщика. Надо примириться, граждане, что классовая борьба начинается с беспорядочного утоления социальной нетерпеливости, невзирая на любые посторонние последствия…
Он, поочередно поглядывая то в потолок, то на окружающие предметы, прикидывал быстрым карандашиком начерно, семь пишем – два в уме, на бумажке всякие коэффициенты и привходящие обстоятельства, и получилось в итоге, что при взносе надо исходить из общего обложения в пределах ста семнадцати тысяч. Любопытно, что названные деньги, по тем временам и для Сорокина весьма немалые, а для Лоскутовых – громадностью своею способные разрыв сердца причинить, теперь в памяти Дуниной, как бы звуковым начертанием цифр, возродили одну вьюжную ночь в начале зимы, симпатичный синий автомобильчик знаменитого кинодеятеля и ту поистине волшебную поездку с ним через весь город в Старо-Федосеево, когда он, подчиняясь чьей-то подсказке, предложил незнакомой спутнице, втемную, не глядя, купить у нее дымковскую тайну, и таким образом странное совпадение двух сумм становилось для Дуни наставлением к действию. «Продать, продать…» – закричала душа, лишь бы отделаться от гадких гавриловских прикосновений, когда же ее сознание вернулось к действительности, худший вариант концовки уже произошел. Дуня услышала глухой заключительный удар с дребезжанием падающей железки и сразу затем раздирающую тишину.
Так случилось, что все сидели – где кого застигнул разыгравшийся скандал, кроме самого оратора да еще Егора, весь разговор простоявшего в каталептической неподвижности, с опущенной головой и руками вдоль тела. На старенькой, проносившейся клеенке в поле его зрения оказалась початая буханка черного хлеба и тяжелый кухонный нож, которым глава семьи после краткой трапезной молитвы самолично, по крестьянскому обряду, разрезал ломтями, каждому вручая как причастие. Вряд ли мальчишка видел то, на что глядел, и назначение предмета осознал лишь в последний момент. Он не мог больше выдержать тягучую, вполне негодяйскую декларацию. На прощанье фининспектор предостерег своих клиентов не мухлевать, Боже сохрани, не прятать что-либо из имущества, в скором времени подлежащего недоимочной описи. Как только с пожеланием покойной ночи остающимся Гаврилов двинулся к выходу, тут и последовал недостававший ему для решимости волевой толчок – тем в особенности удачный, что без повреждения организма. Все случилось так внезапно, что домашние поняли роковую необратимость происшествия, лишь когда просвистевший мимо гавриловского затылка нож со стонущим дребезгом закачался в дверной филенке. Заслуживало удивленья, как мальчишка, пусть даже в невменяемом состоянии, мог промазать с расстояния восьми – десяти шагов по вполне достаточной, казалось бы, мишени. Не менее примечательно выглядела и выдержка героического теперь фининспектора, как он, весь зеленовато побледневший, невозмутимо коснувшись щеки, обожженной холодком полета, посмотрел себе на пальцы в напрасной надежде обнаружить на них кровь, как медленно затем, высвободив из дерева застрявшее в ней злодейское железо, прятал его, отныне драгоценный талисман его волшебных превращений, в свой, приставленный к ножке канапе рыжий портфелишко, причем не сводил улыбчивого взгляда с помертвевшего террориста, как бы приглашая его отнимать убийственную улику, что по меньшей степени вдвое возвысило бы смертельность его служебного подвига в рапорте по начальству… и все качал головой, как бы не веря в свою, по дешевке доставшуюся ему удачу. Не гнев или торжество читались в его осунувшемся лице, а скорее благородная прокурорская печаль об участи обреченных за их преступное родство с юным врагом народа. Самым успокоительным доводом для совести служило неоспоримое обстоятельство, что состоявшееся покушение на жизнь безоружного чиновника при исполнении служебных обязанностей являлось типичной, наиболее караемой в те годы классовой вылазкой, таким образом, подпадало под юрисдикцию закона о вооруженных актах сопротивления, что было на руку Гаврилову, потому что радикально избавляло его от свидетелей, в минуту душевного упадка допущенных им к себе в середку, ибо уже на данном этапе, помимо общественной заботы с санаторным лечением от нравственной травмы, помимо прикрепления к высшему распределителю номенклатурных благ в поощрение проявленного энтузиазма, самый авторитет его подлежал государственной охране от посягательств подполья. В свою очередь, чисто обывательская жалость к поверженным, не оценившим его чистосердечного порыва, уступила место соображениям всемирного блага. Он уже видел себя завтрашнего, усилиями газетных льстецов возведенного в светочи гражданских добродетелей, из коих главная – неподкупность в сочетании с неусыпным искоренением зла в подданных. Если бы сейчас, содрогаясь от спазматических рыданий, покаявшийся отрок, скажем, припал к его коленям, то он, Гаврилов, не отринул его, а наклонившись, разъяснил ребенку, что не имеет к нему претензий в качестве приватного лица, но, как представитель власти, не сможет простить ему опрометчивый поступок, способный вызвать подражанье среди неустойчивой молодежи. Мог бы хлопнуть дверью и сразу уйти, однако великодушно медлил с уходом, заодно давая срок и родителям осознать серьезность происшествия. Но те взамен должного на их месте внушения своему щенку, желательно с телесным воздаянием, причем и сам Гаврилов посильно помог бы им, тянули, молчали, словно не узнавали сейчас Егора, хотя и меньше других детей любимого в семье за его постоянную замкнутость, послушного и неслышного, без друзей среди сверстников, от которых в школе немало поношений хлебнул за свое происхождение, зато коротал досуг в своем уголке над всякими гаечками да катушками, извлекая из них детскую копейку в подмогу отцу. И оттого, что не бывает всходов без посева, родители охотней приписали бы родовой Ненилиной болезни этот не в меру ранний бунт с безумным броском грудью на подставленное острие.
Но пора было кончать и без того затянувшийся рабочий день. Собираясь в обратный путь без ложного стыда за свой обношенный вид, лучшее доказательство добродетелей при восхождении на общественный небосклон, Гаврилов поочередно приветливо-скорбной усмешкой одарил остающихся хозяев, повергая в содроганье каждого по отдельности.
– Нет-нет, не затрудняйтесь напрасными хлопотами, не пытайтесь меня прослезить… – сказал он завтрашним голосом. И впервые применил наконец-то где-то прочтенное изреченье, чей-то программный манифест при вступлении на цезарское место. – Сердце политика глухо к частному горю людскому, его заботит лишь конечное, итоговое благо… Кроме того, имейте в виду, что подача жалобы на должностное лицо не приостанавливает уплаты аванса!
Некоторое время по его уходе Лоскутовы находились в полной прострации, как бывает после оглашенья приговора. Наступившее в домике со ставнями безмолвие странным образом распространилось на всю прилежащую окрестность – во всяком случае всем навечно запомнился просочившийся к ним в закрытое помещенье с окружной железной дороги паровозный вскрик, зловещее напоминанье о скором теперь изгнанье из Старо-Федосеева. Такая прощальная тоска прозвучала в нем, что все вдруг и невесть зачем ринулись наружу за человеком, уносившим в портфеле их судьбу – матушка на больных ногах резвее прочих.
К ночи ветер стихнул, тучи порассеялись, новорожденный месяц зябко сиял в облачной люльке, знаменуя перемену погоды. В прояснившейся мгле никто не виднелся на тропинке впереди, но еще слышен был с крыльца скрежет гальки под шагами Гаврилова. Такая стылая и чуткая, словно перед заморозком, установилась тишина, что и шепот, несмотря на расстоянье, должен был достигнуть ушей Бога. И тут Прасковья Андреевна на исходе сил прокричала уходившему вдогонку, причем лишь последняя фраза запомнилась Дуне, чтобы через ее дружка достичь моей записной тетрадки:
– Пей, пей взахлебку наше горе, не поперхнися! Не попустит, не попустит Господь разбоя твоего на своих сироток… Торопися, уж при пороге твоем стоит!.. – и тут родня подхватила под руки обезумевшую хозяйку.
Вконец утратившие всякую волю к сопротивлению, они не сразу вернулись домой, когда холод погнал их в просыревшие комнаты из-за настежь распахнутых дверей…
Дуня побежала к себе в светелку и бросилась на постель, стремясь сжаться в ничто, в недосягаемую для попаданья мишень.
По счастью, на скандале не присутствовал Никанор, иначе при его атлетических возможностях могло произойти нечто, осложнившее судьбу Лоскутовых и личную будущность госстипендиата.
Глава XXII
Не смея высказать вслух свое мнение о произошедшем, Никанор праздно топтался в потемках сеней позади. Не тогда ли и зародилась несколько позже высказанная им мысль, что в преддверии величайших перемен, усыпленные обольщениями цивилизации и слишком оторвавшиеся от природы люди по присущей им беззаботности даже не пытались заблаговременно приучать себя к бездомной непогоде, которая уже готовилась ворваться в их обжитые стены! По праву ближайшего друга семьи Никанор Шамин присутствовал и на семейном совете, состоявшемся в ту же ночь. К сожалению, невзирая на острую нехватку времени, собрание прошло не совсем в деловой обстановке. Никто не вспомнил про ужин, спать разошлись только на рассвете по принятии некоторых срочных решений.
Словно перед чьим-то дальним отъездом, по русскому обычаю, все сидели в бездельном молчанье поодаль от стола и поглядывали украдкой на совсем поникшего главу семьи, как он неверными пальцами оглаживает попеременно то крест нагрудный, то бороду, временами же потерянным взором обводил комнату, похоже в поисках местечка прилечь.
– Чего же мы расселися, молчим ровно при покойнике! – пошевелилась наконец Прасковья Андреевна. – Что делать-то станем?.. Поговори с нами, поп.
Прощальную речь о. Матвей начал горьким фальцетным смешком над чем-то, что разбитое вдребезги валялось теперь под ногами:
– Так-то, милые, кровные мои, докатилося и до нас, видать, приспели и наши сроки. Однажды просыпается душа на стук ночной, опрометью в сени кидается, там стоит безликий гонец, ничего в нем не прочесть, неизвестно чего и брать, а уж пора с ним отправляться. И вдруг рассеивается мираж лихорадочных видений, чего люди намечтали за двадцать-то веков, горьким туманцем претворяется земная сласть, тают на глазах гордые башни со всякими там флагами да астролябиями передовой-то науки и, на поверку, сидит человек по-прежнему на голых песках заправской пустыни, под небом глухим. И поздно, и страшно, уму невмещаемо, и злые волцы рыщут округ вертограда твоего… и поневоле ропот на Бога шевелится в сердце: пошто не вступился, не изгнал, не наказал маленечко, чтоб металися в жгучей истоме, чревом о каменье скреблись от ненасытного зуда, в бездонные пропасти низвергались бы, крича от ужаса и не разбиваясь. А не надо, милые, прочь от себя гоните такие мысли! Как пастырю при обширном стаде управиться без кнута да боли?.. Не она ли вознесла на вершину тот род людской? На конфетке далеко не укатишь, без ней и обойтись легко… значит, не сладость нужна, а необходимость. Видали, как извивается червь порубленный, обоими концами хлещется, тоже поди клянет лопату божественного земледельца… а про то ему невдомек, каково всевышнему-то с нами, за каждым углядеть да потрафить, да грудью, вдобавок, заслонить от врага ночного, коего и назвать страшимся, чтобы в домы своя ненароком не впустить…
Сомнительное красноречие о. Матвея, обусловленное стремлением подвести приемлемую философскую базу под совсем надвинувшийся исторический момент, сравнимый разве только с отрубанием головы, не подтверждает распространенного мнения, будто эшафотная высота несколько расширяет кругозор возведенного на нее мыслителя. Напротив, срочные и безысходные обстоятельства понуждали его прорубаться к истине напрямки, в ущерб точности и невзирая на лица, вернее лики, включая и Того, кто сейчас бесстрастно взирал на священника из своего угла, освещенного сияньем предпраздничной лампады. Вряд ли ему следовало отнимать у о. Матвея наиболее законное право в его смертный час, тем более что задуманная процедура вовсе не предполагала пересмотр первенства в давно решенной дилемме – победитель – побежденный. По ходу Матвеевой мысли требовалось функционально, к Добру или Злу, отнести боль земную, то есть нелицеприятно, в тайниках разума и на долю мгновенья сопоставить вровень две извечно враждующие стихии – небо и ад, а для пущей объективности и вообще поподробнее, чем в рамках семинарского курса, даже персонально ознакомиться с самим хозяином Зла, который при всей своей занятости, надо думать, тоже не отказался бы, пускай через посредство полномочного резидента, дабы не повредить рассудок собеседника, потолковать с православным батюшкой о кое-каких проистекающих проблемах. Кстати, догадками своими о происхождении горя на земле о. Матвей никогда с супругой своей наяву не делился, другое дело – доверительные соображения, обоюдно сообщаемые ими в совместных сновидениях. Да и то лишь на ушко высказал ей батюшка однажды сокровеннейшее и, значит, кем следует тотчас подслушанное помышленьице – пускай вполглазика, через малую дверную щелочку взглянуть бы на пресловутого Господнего соперника: что за ферт такой и в чем его превосходящее качество, что подобные сверхэпохальные гадости дозволяются ему свыше? Перепуганная матушка даже руками на него тогда замахала, долго ли нечистого проныру и в дом пустить, но, видно, и ей запала в душу крупица недозволенного интереса, так что последующие чрезвычайные события исподволь, подсознательно пока, но уже в равной степени готовили обоих к роковой встрече, коварные следствия которой трудно было заблаговременно предусмотреть.
Наверно, о. Матвей и сам понимал малую свою, в создавшейся крайности, пригодность к роли наставника и вожака, однако никто не посмел прервать его, когда он под предлогом защиты Всевышнего косвенно обвинил его в прямой потачке торжествующему Злу, и только Прасковья Андреевна поторопилась отвести в сторону неуместный при детях разговор.
– Уж ты бы поближе к делу-то, отец! – надтреснуто, словно на исходе души, взмолилась она и образно намекнула в том горьком смысле, что казенные-то бумаги и ночью рыщут, не ведая устали и сна. – Опять же птенчики наставленья твоего ждут, а ты каркаешь им невесть что, ровно с ума свихнулся…
Давние трещинки на благостной старо-федосеевской тишине обнаружились как раз в самом начале заседанья, когда его прервало хрипучее вступление Финогеича, который с похмелья нуждался в общении с людьми.
– Тут в самый раз свихнешься… я нонешних-то знаю, ребята доскональные, до последнего гвоздя вылущат. Абы всю хоромину со злости не спалили!
В сущности ничего обидного не было сказано, и, конечно, при отсутствии отклика он через полминутки и сам удалился бы восвояси, если бы не вмешательство Егора, в тоне которого явственно слышались нотки неприязни и ожесточения, вскоре затем развернувшиеся в показательный семейный скандал.
– Не отвлекайте нас, Финогеич, пожалуйста… – не подымая глаз, совсем тихо попросил он и сорвавшимся голосом обидно прибавил насчет полезности горизонтального отдохновения после принятия алкоголя. – И не мешай отцу, мама, пусть выскажется.
– Слышал его резолюцию, Матвеюшко? – с торжествующим смешком возгласил Финогеич, уже тогда подметивший признаки существеннейших перемен, заключенные в дозволении подростка обессилевшему отцу. – Вот уж и оперился твой птенец, на вылет, вдогонку старшему стремится…
Неизвестно пока, к чему относился тот глупый, в перебранке оброненный намек, но несколько дыханий затем, словно черный ветерок подул, собравшиеся перемолчали с опущенными очами. В следующую минуту Никанор уже отводил под руку, на свою половину, сразу покорившегося ему родителя.
– Смешная ты у меня, Парашенька! – будто ничего и не было, оживился по их уходе Матвей. – Сколько годков тебя знаю, а все та же милая, малость сварливая, потешная моя. Поди, думаешь на меня – бесчувственный, колодка сапожная вместо сердца, а мне, веришь ли, стократ горше собственных переживанья ваши. Вот и собрался давеча одно тайное мое лекарство от печали вам преподнесть… проверенное, давно пользую его от вас украдкой. И, значит, помогает, коли живой перед вами сижу. В том оно и состоит, чтобы с бережка пучины за ее закраины посмелее заглянуть. Оно и жутковато, ибо и мыслью-то долгонько туда достигать, зато уж как представишь, какая тишина утешительная там, на донышке, враз оно и полегчает, вся земная горесть останется позади. Тут главное примириться с самым страшным, перед чем все остальное мелочь. А подороже-то ничего и не припас я вам на черный день, весь тут, не томите меня понужденьем надежды, не отягчайте моей доли. Принимаю попреки ваши за скуку и одиночество ваше без друзей, без просвета к избавленью. Чего греха таить, ино и вздохнешь среди ночи: локотка-то не укусишь, да еще задним числом! Сразу как суматоха началась, вакансию мне предлагали на спирто-водочном заводе, брался один разнорабочим меня устроить… да и позже в трамвайном парке мог устроиться, а виноделы и вагоновожатые наравне с прочими входят в царствие небесное!.. В одном не винюся, кровные мои, что счастья ради вашего от сирого Бога моего не отступился: стыдно было вместе со всеми покидать, да еще не за царство-боярство, а всего-навсего за пряник годишный с прогорклым повидлом… Опять же, эва, дьякон-то! А грех свой перед вами понимая, оттого и не поинтересовался никогда, много ли претерпели за отца своего: спросить боязно было! – И вдруг с пронзительной лаской во взоре, как бывает перед отбытием без возвращенья, поочередно вгляделся в сидевших перед ним. – Ну, признавайтеся, напоследок, махонькие человечки, немало поди хлебнули со мною горюшка?
Первая в очереди справа, от лестницы в светёлку, оказалась Дуня:
– Кроме того случая, пожалуй… – простосердечно начала она, и по двум мокрым дорожкам, проступившим на щеках, все догадались про того парня в шароварах, что забавы ради прутиком гонял о. Матвея по кладбищу, – больше-то ничего и не было. Меня все жалеют почему-то, с учительницей однажды, например. Она у нас с задумкой была, нащурится вдруг и не докличешься, как со мною. Когда каменный уголь проходили, то сказала про кусочек на столе, что и мы все после всемирной катастрофы однажды сплавимся в черный глянцевитый пласт, пригодный потомкам для отопления или приготовления пищи. «Таким образом, дети, поглощенное нами солнечное тепло не пропадет, а снова выделится в виде полезных, больших и малых калорий». Одна девочка, самая злая в классе, спросила у ней про рабочий класс, войдет ли и он туда же? «Непременно…» – в лицо ей сказала Марья Гавриловна. «И лишенцы в ту же кучу?» – и блестящими глазами покосилась на меня. Все так и замерли, а учителка поманила меня пальцем: «Подойди, дай я поцелую тебя, неприкасаемая моя». Ну, тут ее вскоре и перевели от нас куда-то.
– А ты, младшенький, герой подпольного труда… Признавайся, не бывало у тебя охоты побранить родителей, что не через ту дверь, как хотелось бы, на свет Божий вас выпустили? – спросил он, как бы прося прощение за доставшуюся детям долю – хлеб и воду лишенцев.
Почему-то Егор счел необходимым встать для ответа:
– Лично со мною таких переживаний не случалось, – и даже головой тряхнул, потому что воли в обрез хватило побороть в себе невыносимую жалость к отцу. – Разве только во снах бывает… иногда…
– Договаривай, вали дерево, раз подрубленное. Сон все одно что окошко потайное в душу, – словно документа для предъявления в самовысшую инстанцию добивался о. Матвей и кинул мельком странный взгляд в верхний угол, где иконы, всем ли слышно. – Хоть иносказательно намекни, про остальное сами догадаемся…
Но тут, вспомнив о непосредственной цели семейного совета, сама хозяйка решила вмешаться в опасный и неуместный разговор.
– Так я хочу сказать, деточки, пришел конец стариковской нашей опеки, больше на родителей не надейтеся, а ступайте в жизнь собственной дорогой, кому какая глянется, не без добрых людей на свете… – расслабленно, руками кругом поводя, проговорила Прасковья Андреевна, будто прощалась со всем, что оставалось позади, и тут дыхание в ней замкнулось, силы оставили ее.
Всеобщее молчание было ей ответом, причем крайне знаменательно, с опущенной головой и потирая руки по комсомольству своему красноречиво безмолвствовал и Никанор.
– Стоп, не торопися, Параша… – остановил Матвей жену, – смелее откройся нам, Егорушка. Во что метил, умница наша? – и вдруг по молчанию сына догадавшись о чем-то, жестом наугад защитился от так и не высказанной тайны, – понял, понял приговор свой… точка, точка мне!
Здесь-то и пригодилось монументальное спокойствие Никанора Шамина:
– А ну, без паники давайте, духовенство и прочие граждане, – сказал он и осведомился, не хотят ли оные гостей погрознее заодно на семейный шумок приманить. Заодно тоном приказания Никанор Васильевич предложил всем передохнуть часок, чтобы потом, с окрепшими силами продолжить семейное совещание: разошлись без сопротивленья. Впрочем, не сразу заметили, что младшие Лоскутовы на время исчезли куда-то, и Дуня вскоре вернулась с огорченным лицом и при обсуждении всяких планов вела себя до крайности странно, в частности старалась соскрести с запястья незримые следы чего-то, затем косилась украдкой – не осталось ли? Егор же затратил тот перерыв на вдруг подступившую надобность выплакаться. В промокшей насквозь куртчонке, под ледяным дождем метался он, пока при виде возникшего из тьмы вертикального строеньица, отхожего места – выгребной ямы с неотопляемым дощатым коробом над нею – почему-то не надоумился собственной вечной погибелью искупить вину перед семейством. По отцовским понятиям, наложить на себя руки было куда меньшим грехом, чем то, что пришло ему на ум. Над вонючей сортирной дырой бесчувственными губами звал он дьявола, чтобы любой ценой выкупить у него спасенье семьи и совершить обычную в таких случаях сделку. По шероховатому холодку в спине почудилось, что покупатель уже стоит за спиной, но, к чести последнего, тот так и не соблазнился приобрести почти неношеный товар и заодно будущность великого деятеля фактически за бесценок по тем деньгам – то ли из нравственных соображений гнушаясь воспользоваться отчаянием юнца, то ли из сомнительной годности места для заключения сделки. Надо отдать должное и противной стороне, удержавшейся наказать негодника если не огнем небесным, то хотя бы воспалением легких за его предосудительный поступок. Ни в одной из его биографий не упоминалось впоследствии, как, склонясь над зиявшей смрадом дырой, последний раз в жизни обливался он горючими слезами, которые вдруг кончились сами собою, и навсегда.