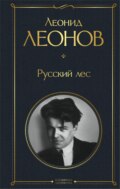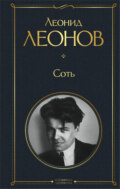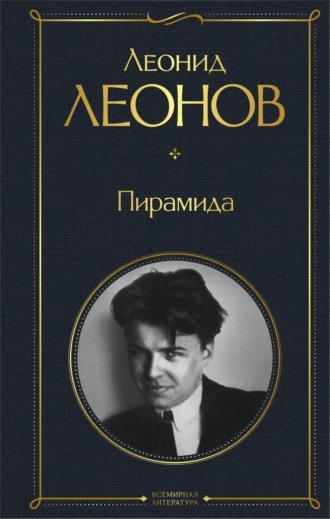
Леонид Леонов
Пирамида
Вереницей огорчений того памятного вечера, включая и оплаченное и отмененное посещение Мирчудеса, и началось перерождение неустойчивого мальчишеского характера в сторону непреклонного, а в некотором смысле и опаснейшего мужества, какое бывает у побежденных как из примиренья с возможной гибелью, так и из презрения к своему прежнему ничтожеству.
Все были уже в сборе, когда Егор твердой волевой походкой вернулся в дом, и, показательно, никого не удивил им на проходе к своему месту, без определенного адреса и, следовательно, ко всем в равной мере относившийся строгий вопрос – почему не начинают?
– Тебя дожидались, Егорушка, – тотчас пояснила Прасковья Андреевна, и в смиренном тоне ее сквозило если не полное покамест признание его старшинства в делах семейных, то намеренье опереться на него в скором будущем.
– Милые мои детки, не ропщите на Бога, что приходит конец нашему счастью, – заговорила она, – как-нибудь дохлебаем до конца, что на донышке осталось.
Заседание семейного совета началось обсуждением платежных возможностей лоскутовской артели. Сначала прикинули на глазок – сколько выйдет на бочку, если вплоть до постельного белья спустить все на толкучке по экстренной цене, но, к немалому конфузу студента, предположенной выручки едва хватало на частичную оплату аванса. Правда, вслух при нем остерегались поминать спущенный на проволочке в подполье, за плинтус, неприкосновенный золотой фонд в составе пары обручальных колец, да еще поднятый дедом на нижегородской ярмарке женский художественной работы перстенек с диким камнем аламандитом, помогающим от лихорадки, да предназначенная Дуне в приданое дутая браслетка porte-bonheur, еще александровская монетка-полуимпериал… Да и поминать не стоило, потому что за черный сбыт перечисленного можно было и вовсе жизни лишиться…
Зашедший на шум Финогеич намекнул было, что самое теперь разлюбезное дело идти спать, а неделечку спустя всучить фининспектору натуральную благодарность, не в денежном исчислении по невозможности купить и как бы при стесненных обстоятельствах – продать Гаврилову за бесценок интересующую тысячную вещь. Разведку Финогеич брал на себя, потолкаться в ихней канцелярии для выяснения нужд, долгов и склонностей, но прежде всего – пользуется ли вообще.
– Служилому человеку трудно денежку в зажатый кулак вложить, зато обратно башенным краном не вытянешь!
Матушка лишь головой покачала, дескать, совсем ополоумел могильщик:
– И неповинные-то трясемся сутки сплошь – не открыли бы про нас чего и самим неведомо. Придумал, по своей воле экую тайность, хуже кандалов на себя воскладать. Махонький червячок, а всю душу источит…
– А наилучше всего, – продолжала она, – если продажи имущества не миновать, то и Бог с ним, дрожать опротивело, только без казенных рук да не продешевить, и надо поискать в адресном бюре старого дружка, в случае не помер, не пришлет ли добросовестного спекулянта на фамильное добро, такое, как канапе или родовая кунья ротонда, стоградусным морозом не прошибешь, но нынешним барыням и не снилось. И с поклоном вручив Гаврилову сколько есть, пускай даже карманы прошарит.
По очевидной безнадежности других попыток ко спасению, помаячила слегка мыслишка – немедля, сквозь охрану и секретарские рогатки прорваться к Скуднову за пощадой, и не то чтобы Матвей опасался по пустякам тревожить покой сановника на основе их сомнительной, даже анекдотической близости, а просто обострившимся предвиденьем будущего решил сберечь свой единственный, последний шанс до какого-то еще более грозного в веренице эпохальных бедствий.
Нависшая над семьей катастрофа давала и детям равноправие голоса, и так как Дуня решительно отказалась от слова, то отец с приниженной лаской пригласил Егора высказаться на затронутую тему:
– Уважь нас чем-нибудь окромя брани, железный наш… Приоткрой тайну молчания твоего! – И по тону застарелой неприязни видно стало, что нелюбимым у родителей мальчик стал задолго до нынешних событий, когда кто-то третий безраздельно, возможно с захватом и Дуниной доли, завладел их привязанностью. И теперь даже по уходе из дому деспотически царил в домике со ставнями, занимал место за вечерним столом с признаками своего незримого обитания и заслонял собою весь прочий мир в глазах стариков.
– Этим я хочу сказать, – как-то наотмашь хлестко пояснил Егор выражение, не свойственное местному словарю, – что все мы тут в одну масть и в одинаковой степени ни в чем не повинны поровну: двойной клепки наша цель! – и подкрепил свою мысль в качестве оправдательного довода, что брошенный в мучителя нож вряд ли отягчит давно решенную участь старо-федосеевского батюшки.
Трудно представить, что творилось у мальчишки на душе после совершившегося перелома. Бурный процесс формирования личности сказывался прежде всего в строе тугой, пружинно-закрученной речи – при почти спокойном лице и до угасания кротком голосе, в особенности же когда, сославшись на позднее время, призвал товарищей по судьбе, самого себя в первую очередь, воздерживаться в дальнейшем от истерик и прочей петуховины. Недоверчивое изумление домашних перед таким преображением худощавого, в общем-то, непосильного паренька вскоре уступило место почтительному и настороженному вниманию, как только после причудливо построенного вступленья ребенок перешел к изложенью практической части почти бесчеловечного плана, продиктованного всей совокупностью обстоятельств. Застилаемый старшими детьми от ласки родительской, он рос в тени написанного ему на роду, рано осознал пользу закалки: спал на коротком с покатой крышкой сундуке, босиком среди ночи выходил на снег, всякий раз грозя телу своему жестоко наказать за непослушанье, – приучал себя уметь все. Уже в те годы в нем просматривался волевой, плотный и мужественный хозяин, усвоивший от предыдущего поколения навык и способ отменять мифы прошлого. В качестве условия Егор ставил на повестку дня признание абсолютной невозможности выкрутиться из беды без чьих-то чрезвычайных жертв, причем бесстрастным взором обвел присутствующих, в каждом поселяя минутный холодок беспредметного пока ужаса.
Он начал с того, что в условиях бесплодности сопротивления все живое в природе идет иногда на добровольную утрату весьма значительной части для сохранности большего… И вдруг всем стало ясно, что речь идет о ком-то из членов семьи, кто по логике целесообразности принял бы на себя одного убойную силу удара. Вдобавок такая гибель – ради спасения ближних – избавила бы его самого от зрелища их последовательных падений, созерцания коих любящему сердцу горше смерти. И тогда все невольно, заколдованными глазами и как бы издали уже, посмотрели на о. Матвея, который выдал нонешнее смятение свое неожиданно громким, виновато-фальшивым смешком.
План благоразумного мальчика Егора Лоскутова сводился к срочному, якобы без ведома семьи, бесследному исчезновению теперь уже подразумеваемого главного юридического ответчика за артель в полном составе, как грозился Гаврилов, также к ряду отвлекающих затем маневров для предотвращения карательного разгрома. Наиболее правдоподобной, в духе времени, представлялась версия, что оказавшийся низким прожигателем жизни отец подателей заявления бежал с места постоянной милицейской прописки, бросив семью без средств к существованию.
– Надо надеяться, – не без робости, на пробу, с белыми дрожащими губами пошутил Егор, – тамошние старцы-отшельники не откажут в приюте погоревшему коллеге, а у Бога найдется совести довести впавшего в ничтожество служителя своего до их безопасной землянки…
Дня же через три, как только будет обеспечена географическая Матвеева недоступность, в инстанции поступит коллективное, за подписью покинутых и ограбленных старо-федосеевцев, половчей составленное письмецо. Поистине Соломоновой мудростью было бы исполнено послание вождю, написанное детским почерком, о взыскании со сбежавшего родителя, изувера и распутника, алиментов за все истекшее полугодие, хотя бы и проведенное таковым без заработка ввиду почти беспробудного пьянства. Для пущей доказательности полезно будет добавить, будто заодно с похищенными сбережениями семьи пройдоха захватил в дорогу имеющее научную ценность церковное оборудование. Вообще-то неплохо было бы пошибче подчернить личность постыдного иерея, приписав ему не только многократные случаи, под пьяную руку, изгнания плачущих ребятишек на стужу в одних рубашонках, но и вовсе несовместимые с его духовным званием приключения вроде, скажем, предосудительных занятий с двумя одновременно беспаспортными девками-канашками, причем повторным произнесением означенного слова, полукощунственного в домике со ставнями, при лампадах, да еще в присутствии сестренки, автор тем самым настаивал на оставлении его в предлагаемом черновике доноса как выразительную интонацию предельного ожесточения доведенных до отчаяния поповских сироток.
– Жаль, что поздно, а кабы знать заране, то стоило бы разок показаться на публике в подпитии, – обронил он, имея в виду, что народ поймет и простит, а в большой драке все сгодится впрок для охранения беззащитной святыни. – Весь тот раздел надо будет скрепить показанием официального лица, например, в качестве коменданта, Финогеича, тоже к ужасу своему не раз наблюдавшего преступное, в той бесстыжей компании, распитие рижского пивца прямо в алтаре, а однажды прямо перед самим богослужением, что особенно ценно для разложения верующих…
По расчетам мальчика, удостоверявшие подлинность документа грамматические ошибки, подозрительно кое-где расплывшиеся кляксы, также перечень наиболее злодейских поступков в ребяческом, по возможности комическом изложении должны были не только смягчить сердце признанного друга детей всех времен, народов и континентов, но и подкупить здравый смысл политика. Наиболее преданные турецким султанам янычарские кадры тоже рекрутировались не из своего населения, а из пришлого и презренного, отрекшегося от родины сброда. При очевидном зверстве то был бы самый верный, потому что наикратчайший выход из уже пылающего здания, если бы удалось быстро убедить в том же отшатнувшихся с ужасом стариков, а Прасковья Андреевна даже рот себе концом шали заткнула, чтоб не кричать.
– По нехватке времени… – шелестяще и по-взрослому жестко заговорил Егор, с этой минуты на себя одного возлагая ответственность за исход дела, и даже глаза его странно раскосились по необходимости обозревать во всю ширь поле боя, – по нехватке времени на коленях умоляю вас, папаша, выслушать мои доводы без родительского проклятия, потому что если вникнуть в глубину возможных последствий, то ведь для вас нет выше счастья, чем благополучие оплакивающей вас родни, – он оборвался на полуфразе.
И тогда батюшка сказал ему:
– Что ж ты замолк? Зарубил дерево – руби до конца.
Выяснилось, что смысл задуманного хода заключался не в напрасной попытке отбиться от погони, а напротив – единственно разумным ходом, извернувшись в воздухе цельной стороной, снискать милость распалившихся начальников. В воображении его часто рисовался заоблачный, на горном Алтае, уголочек понеприступнее, чтоб и на карте не числился – ни туда железной дороги, ни автобуса, а лишь вьется меж диких скал чуть нахоженная тропочка в один козий следок. И при себе только харчей корзиночка на первое время, до людей! Нищета на ходьбу легкая, а где покруче – ветерок попутный подвезет… – То была давняя его тяга – с семьей раствориться в неизвестном направленьице, зародившаяся после газетной заметки об утаившихся в сибирской тайге отшельниках, обнаруженных с дозорного самолета и потому возвращенных в законное русло прогресса… Так глубоко запала, что иной раз наяву слышал, как все они там на закатце, взявшись за руки, тянут в унисон свете тихий, самую задушевную из православных стихир…
План Егора поражал своим многоступенчатым расчетом и, применительно к данному казусу, мог служить образчиком доносной технологии, потому что с участием самых ходовых клавиш газетно-циркулярной пропаганды, разве только кроме политико-шпионажных мотивов, за которые пришлось бы расплачиваться семье в полном составе. Чрезмерно сгущенная живопись в обрисовке беглеца не могла смутить даже интеллектуального адресата, тем более толкнуть на проверку криминальных подробностей, сомнение в их правдивости означало бы, мало сказать, жалость, но и прямую принадлежность к лагерю врага. Плотность их укладки диктовалась как раз стремлением Егора потрясти семейный совет и тем самым быстрее, ради сбереженья драгоценного времени, убедить домашних в безотказности предлагаемой операции. Было уже за полночь, а вступительный заход надлежало предпринять во всяком случае до начала занятий в учреждениях, чтобы известием о побеге налогоплательщика по возможности предотвратить рождение грозной бумаги, убийственное шествие которой могло бы приостановить затем разве только высшее, всуе не упоминаемое лицо… Кстати, все для той же лучшей доходчивости жестокий доклад свой Егор делал стоя, когда же по окончании его сел, втянув в плечи стриженую, с мальчишеской челкой голову и возвратясь в защитное обличье ребенка, то вследствие исключительной силы впечатленья никто не пожалел его самого за жестокость, причиненную себе, а как он втайне ждал всеобщего сочувствия! Затем, по свидетельским показаниям Никанора Шамина, воцарилась тишина, в сравнении с которой якобы безмолвие пустыни показалось бы штормовым, баллов на десяток, прибоем.
Вполне естественно, первым полагалось откликнуться самому Матвею, от суждения которого зависело принятие плана, ибо в конечном итоге никто не собирался беспомощного старика из дому выгонять в промен на барахло и обжитые стены.
– Смотри, Параша, как бойко нас с тобою описал… ведь чего и не было, поверишь, – с подергиванием лица заговорил о. Матвей, – местами просто Фукидид какой-то. Он у нас непременный писатель будет! Псевдоним похлеще избери, да атеизму подпускай погуще. Слезу исторгнешь, кто послабже попадется. За сердце берет, как он ихнюю середку предугадал! – и даже языком пощелкал восхищенно, как бы благословляя ребенка своего на применяемый во спасение семьи подвиг негодяйства. – Панорама-то неохватная, братцы, панорама мысли какая… – в насильственном оживлении тормошился и восклицал он и то жестом приглашал и жену восхититься, какую детку зубатую вырастили невзначай, то изображал как бы салют сыну, который из пещеры львиной пролагал себе выход ко спасению, то наконец, как в присяге, воздевал руку над головой, знаменуя свою готовность на любой срам и яму. – Да я и сам, братцы, хоть в землю закопаюсь сейчас… Мне абы, повторяю, от Бога моего не отвергаться, а то что я без него – долгополый да в эком ровно капоте дамском, на улице стыдно показаться, ровно ряженый. А краски-то можно и погуще подпустить, ты меня не жалей… вот только нос не красный у меня, хе-хе, да ведь пьяницы-то и вовсе без носов попадаются! Давай-давай, вкалывай, меньшенький…
В таких поворотах судьбы поневоле приходится мириться с чьими-то неудобствами, как и со своими, но тут такие, слишком Гефсиманские нотки прозвучали в Матвеевой тираде, как бы хватание, со льдины, за ускользающий в половодье бережок, что Егору никак нельзя стало пропустить их мимо ушей:
– Очень прошу вникнуть в мои слова, папаша… – мягко и настойчиво собрался было он добавить к сказанному нечто более важное, в чем ему помешал Никанор, но тут необходимо вкратце очертить обстановку окончательного возвышения Егора.
После давешних волнений из-за любимой, чуть ли не за члена семейства почитаемой канарейки, Дуня к себе наверх не ушла, но и в разговоре участия не принимала, напротив, резко отказалась высказываться и по второму разу, даже головой затрясла, словно оторванная от собственных, уже, видно, налаживавшихся у ней поисков выхода, вследствие которых, видимо, не ухватила во всем объеме замысел братца, иначе давно убежала бы сама. Однако при внешнем спокойствии все в ней слишком уж напряглось, ежеминутно способное бурно выхлестнуться наружу, и тогда весьма понадобился бы Никанор справиться с ней и в объятиях унести в светелку. Во всяком случае все более неуместным становилось пребывание его при секретнейшем да еще антигосударственном сговоре лишенцев как-никак, с другой же стороны, неприличным выглядел и нейтралитет при виде таких конвульсий, – по необходимости высказать точку зрения, ради соблюдения достоинства в Дуниных же глазах, он и поворчал самую малость, и то вполголоса, насчет преувеличения трудностей, которые в сумме становятся клеветой на эпоху.
Похоже, Егор ревниво ждал от него такого замечанья, потому что тотчас, в одно дыханье предложил отцу воспользоваться присутствием трезвого и объективного наблюдателя, особенно с его богатыми связями в партийно-профсоюзных кругах, для получения от него иных, мало-мальски удовлетворительных решений самозащиты.
Державшая руку Никанора в своей Дуня ощутила, как он вздрогнул от неожиданности.
– Как марксист, обязанный диалектически подходить к действительности… – забормотал было он в попытке отмежеваться, но сбился, стал ссылаться на взаимные противоречия церковной этики и революционной практики, также перекрывающего их второго экономического закона и проявил столько ребячьей растерянности, что Дуня одобрительно потискала его вдруг вспотевшие, заметавшиеся пальцы.
В их маленьком мире то было последнее сопротивление. По складу речи и скорбно-прищуренному взгляду куда-то за его пределы, мальчик показался матери выше ростом, сутуловатым, даже старообразным слегка. Голос его западал, вовсе пропадал порою от волнения минуты… но прежде чем сказать главное, на разлуку с отцом, Матвеев преемник по свойству ли загнанных в тупик или ради престижа еще не утвердившейся власти не преминул куснуть побольней неосторожно приблизившуюся руку:
– От лица семьи благодарю, верный друг, за строго научный подход к нашему несчастью, – и блеснул глазами в адрес Никанора Шамина, – и будем надеяться, что, несмотря на помянутый второй закон там, вверху, не проведают стороной о наших тут подпольных махинациях!.. Итак, мне нужно от тебя, отец, немножко внимания и справедливости. В иных условиях на произнесенье каждого моего слова, которые я должен сказать, потребовалась бы неделя… Я краток потому, что у нас нет времени даже на вздохи. При паденье глупый кричит, умный пытается упасть ловчей, чтобы меньше разбиться. Моя вина в том, что раньше всех сообразил, где тут выход… и в классе тоже самые трудные задачки всегда решаю первым… Ну, просто, как конструктор, чутьем предвижу эту, ну, взаимную магнитность шестерен, так сказать, слагающих полезное движение. Я сразу откажусь от своей схемы, если явятся другие, но ты же видишь, время идет, а они молчат, мысленно плачут, ненавидят меня и молчат, потому что никто не гонит тебя, а по своей воле покидаешь нас, хоть и по моей подсказке, потому что скоро будет светать, а я всех хитрее и хуже среди вас. Ведь ты больше жизни любишь их, не правда?.. Тогда скажи начистоту, хватит тебя глядеть на разные там превращения твоей любимицы Дуньки?.. Сможешь принять от нас ту единственную выручку, которую мы все здесь можем немедленно тебе предложить?
Смысл сказанного был тот, что никто не толкал старого кормчего за борт, но для спасения корабля у него не оставалось иного выхода, кроме как самому ступить за край, в разыгравшуюся пучину. Главным мотивом жертвы было сохранение кровли – не столько для него самого, скажем, на случай его прощенья, даже не для малолеток с беспомощной вдовой-старухой, как все для того же, переполнявшего собою здешние сны и мысли, чтобы в день чуда мог погреть промерзшие кости у готового очага… Впрочем, еще не поздно было, махнув рукою, отдаться на милость штормовой волны, и вот, в стремленье облегчить отцовский выбор, как ни двусмысленно выглядело оно сейчас в сущности своей, Егор мужественно присел сбоку и, поглаживая лежавшие на коленях исколотые мастеровые Матвеевы руки, попытался в возможной полноте обрисовать ему поэтапные трудности замышляемого подвига – не то закалял волю старику, не то по внезапному веленью совести помогал ему отказаться от его собственного теперь намеренья.
– Не будем закрывать глаза, – сказал он с величайшей любовью, – что дело может обойтись тебе еще дороже, хотя не дешевле и для нас.
Если не рассчитывать на чье-то сверхъестественное вмешательство, о. Матвей обрекал себя на могильное молчание – без весточки домой и тем более тайных навещаний семьи, чтобы по штампу на почтовой марке или промелькнувшей в воротах тени не застукали на государственном обмане.
Заранее можно предположить, что по силе неминуемого появления их скандального послания в столичной печати – для оповещенья всемирного человечества о падении христианской веры, наверно, и в глухомани заалтайской найдется доверчивый грамотей, который с молчаливым вызовом бросит газетку на стол перед беглецом, когда тот запустит свою воровскую ложку в миску братских щей… и, возможно, до прихода милиции о. Матвей уже не успеет вскинуть за плечи походную котомку, после чего жизнь покончится и начнется образцовое житие, где он до гроба, без сроков давности и в поминутном страхе разоблаченья станет таскать при себе громыхающую килу легенды.
Судя по некоторым, опущенным здесь краскам, начитанный в литературе Егор с пользой применил к современности всегда дорогие юношеству образы благородных и многострадальных каторжников, чем хоть в малой степени примирил с собой домашних.
Разговор велся вполголоса, но все равно, все равно – сравнимое разве только с исповедью перед эшафотом, зрелище получалось нестерпимое, временами просто раздирающее, и весьма показательно, поистине диктаторскую речь Егора ни разу теперь не перебил никто по явному бессилию придумать нечто более путное взамен… да уж и некогда становилось сомневаться! И, подчиняясь неумолимой логике решенья, тотчас затормошился, пришел в деятельное самодвиженье о. Матвей:
– Вот спасибо-то, премного тобою доволен, сыночек, за поддержку твою… И подай тебе Господь чего подобного по отцовству твоему не хлебнуть, спаси Господь… Тогда, чем время терять, лучше в дорогу собираться. Нонче денька прибавилось, легше из дому уходить, впотьмах-то не хотелось бы. Ну-ка, подмогни мне, сыночек… – Впрочем, поднявшись самостоятельно, он сделал было к двери шаткий шажок, другой вслед за ним, словно по палубе и впрямь смертельно накренившегося корабля, но тотчас отказался от своего намерения. – Ой, с чего-то ослабел я, братцы мои… Ишь радуга-то желтая закрутилась! Отойдет сейчас, прилечь бы мне на минутку…
С расставленными ладонями, в поисках опоры, он опустился на краешек подставленной табуретки, а мигом откуда-то взявшийся Финогеич, сноровисто прихватив с подмышек, повлек было его на стоявшее поблизости канапе, но о. Матвей воспротивился, выразив желание устроиться чуть ли не на полу, но вместо того слабым заискивающим голосом осведомился вдруг у полноправного теперь распорядителя здешней жизни, не повредит ли делу, не сорвется ли великая операция, кабы отложить ее ровно на сутки – силенок подкопить, туды-сюды, в баньку напоследок наведаться, чтобы послезавтра уже безотлагательно смыться из Старо-Федосеева.
– Теперь успех дела зависит от оперативности покидающего дом погорельца, то есть от быстроты твоих сборов, – значительно пожал плечами Егор, как бы намекая, что в создавшихся обстоятельствах и ввиду бессонной теперь гавриловской ярости любое промедленье губительно отразилось бы на успехе плана, целиком рассчитанного на опережение всех ходов противника.
Но здесь кто-то вспомнил про завтрашнее воскресенье, а в нерабочий день казенные бумаги тоже дремлют в своих портфелях. В сущности, за весь вечер то была единственная, правда, подсознательная радость – оттого ли, что уже повитого, оплаканного покойника, лишний срок постоявшего на дому, не так жалко отпускать в могилу. Вроде повеселевшим тоном, по праву бывшего хозяина о. Матвей отдал прощальное распоряженье отправляться по постелям. И опять всех несколько подивило каталептическое Дунино спокойствие, – к себе в светелку поднималась она без всхлипываний, лишь с закушенной губкой да, задерживаясь на иных ступеньках, вся сосредоточенная на каком-то, громадной важности решении, где надежда полностью превозмогала отчаянье. Мать ушла чуть раньше.
Дольше всех с отцом оставался Егор, – вполоборота к нему, с осунувшимся старообразным лицом покачивался он, закрыв глаза и в трепетном ожиданье, что вот-вот произнесут его имя. Не его вина, что судьба вела его к мудрости житейской наикратчайшим путем, минуя фазы человеческого созревания. Так и не состоялась желанная, разгрузочная беседа.
– Ладно, отдыхать ступай, маленький змий мой… утомился поди? – приласкал его издали о. Матвей. – Ничего, все когда-нибудь минуется: и скорбь наша, и самый мир сей, остающийся однажды далеко позади…
Мальчик уходил медленно, но опять отец так и не остановил его. Когда же скрылся за дверью, то оказалось вдруг, если мимолетный упадок сил имел место в действительности, то мольба об отсрочке была всего лишь стариковской хитростью, чему имелись давние причины.
В ту же ночь по исходе семейного совета, когда молодежь разошлась спать, старшие Лоскутовы решили не откладывать в долгий ящик и привести в исполнение главный пункт в плане – бегство недоимщика.
Снаряженье в дальнее скитанье началось сразу, едва затихли шорохи кругом. «Чего их будить: обрекая взрослых на бессонницу, горе самой усталостью своею лишь крепит юный сон!» В отыскавшийся среди пыльной завали в чулане лубяной еще вятских времен кузовок доверху насовали всякую первостепенную необходимость приблизительно в Афинагоровом комплекте, необременительно для пожилого путника, но с придачей горстки конфеток – хозяйкину девочку на глазах у матери ублажить, чтоб прочь с постоя не гнали. Весь их последний разговор, состоявший из суетливого взаимного наставленьица, велся мысленно, вслух же только и было спрошено – не возьмет ли масла постного четвертинку – глотком подкрепиться в дороге, но одновременно с отказом – «не без крошек люди едят, эва, собаки-то бегают»; велено было не забыть неотложную сапожную снасть с мотком дратвы для первого обзаведенья на месте прибытия. Они помолчали минутку, в которую уложилась вся их совместно прожитая жизнь: и тот палисадничек с деревенскими мальвами, через плетень коего поначалу, взорами покамест, схлестнулись они навечно, и лужайка на кроткой северной речке, где белыми ночами гуляли, небось, сплетя запотевшие пальцы, – и самый миг священный, когда в розовое ушко Парашеньке своей вшепнул магическое словцо – таинственная дверь, откуда на свет вылезают пташки, цветы, разные пчелки и прочая радость бытия…
Для снискания жалости и покровительства, особливо у верующих старушек, решено было уходить в старенькой рясе, выношенной до сходства с крестьянским рядном, и вообще брать на себя что похуже, потому что все едино как в землю, чтоб не жалко; опять же поновее могло еще сгодиться на случай возвращения кое-кого в неминуемых отрепьях. Сверхуже надеть – шибко кстати пришелся сохранившийся в сундуке как раз про черный день и на любую непогоду годный, в меру укороченный еще тестев армячок, в семейном просторечии именуемый полпердончик, одночасьем на ярмарку скатать, а к нему узковерхий, на манер зимней скуфьи, меховой колпачок, применявшийся покойным иереем для согреванья зябнувшей лысины. Космы обрезать Матвей не дался, стриженому да ряженому пуще от сыщиков не отбиться! В предвиденье надвигающейся зимы матушка настоятельно, помимо всего прочего, обрядила супруга в темные, от прошлых времен, валенцы в кожаных обсоюзках собственной же его работы, что в совокупности с остальным снаряжением придавало страннику крайне экзотическую внешность на фоне почти летнего, кабы не знобящий ветерок по временам, розового утра. Когда обряжался, старуха обнаружила, что веревкой опоясался поверх фуфайки в три охвата. «Ты чего, чего, – испугалась, – ай погубить себя удумал?» – «Ах, мать, – отмахнулся путник, – отколе знать, какая снасть стребуется в дороге!» Попадья все пыталась обвязать его для тепла шалью, на старушечий манер, крест-накрест с узлом не спине, чтоб не развязывать до самого Алтая, еле отбился. Полная светлынь стояла в окнах, когда, окончательно управившись, по русскому обычаю присели посвдеть в дорогу. Оглушенные внезапностью покамест неосознанного горя, они, похоже, улыбались в молчаливой беседе, что вот, чего опасались, пришла пора досматривать самое неправдоподобное, пожалуй, из своих совместных сновидений. Во избежание лишнего шума прощаться вышли на крыльцо, но здесь приличней отвернуться на минутку от спазма заключительных объятий, столь же запретных для созерцания, как стариковская нагота.
– Ну, всему приходит своя кончина, мать, – сказал о. Матвей и, чего давно у них не случалось, приласкал старуху за подбородок.
– Чудно… куда только не простирается человек, а самонужнейшее – посошок-то дубовенький, так за всю жизнь и не успевает припасти…
– Плетни-то еще не перевелись на Руси, – сквозь слезы посмеялась та, – еще подберешь в дороге!
Они двинулись к воротам. Стояла утренняя рань, непогашенный покачивался фонарь на столбе. Солнце еще не всходило, но громадное при почти безоблачном небе розовое озарение за птицефабрикой сулило добрую погодку на выходной день. Уж приступал к работе веселый дворник: предмайский ветер верховой отряхивал с кладбищенской рощи тяжкую вчерашнюю капель, выдувал рябые озерки с тракта во весь континентальный мах, сгонял к горизонту застоявшиеся облачка – сор ночи и зимы. Шустрые воробьишки так и вертелись у него под метлой, дразнили подметалу, а он, обернувшись к хвастунам, задирал им на голову пернатую одежку, перстом добирался до просвечивающего тельца, а те с разлету кидались в ближнюю воду, целые радуги брызг подымая встречь. В иное время не было о. Матвею отрадней зрелища, глаз бы не сводил, заслонясь ладошкой от восходившего солнца, а тут ровно ослеп, захваченный вопросительными раздумьями о покидаемых, и чем дальше, тем страшнее было вслух признаться в них.
Сколько раз ранним зимним вечерком наблюдал он близ кафе да у кино одиноких крашеных девчат Дунина возраста, как, пожимаясь от поземки, форсят они в сквозных чулочках, ножки кажут с тревожной приглядкой по сторонам – то ли подстерегают купца, то ли милиции остерегаются: с некоторых пор за такое поведенье, порочащее новый светлый мир в глазах иностранцев, всех гулящих девок с наголо обритыми башками вывозят в стоверстную даль Подмосковья, откуда и возвращаются те вприпрыжку, простирая руки к дяденькам в теплых кабинах попутных машин. Безработица, слава богу, кончилась на Руси, но чистки элементов оставались, а голод да беда по-прежнему стыда не знают! Единственно оберегало Дунюшку – как ни румянь, ни подкрашивай, все одно некрасивая, разве что молоденькая, лакомая на особый вкус, и в складках могущественной цивилизации уж непременно отыщутся нуждающиеся в обслуживании клиенты с причудами и равновесными изъянами. Господин грез никогда не гнушался тощеньким, с цыплячьим тельцем: больше съешь!