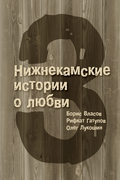Олег Лукошин
Ленинская правда
Спасская. Вдохновляющая
Чуть ли не пол-Нижнекамска выбралось в минувшие выходные в соседнюю Елабугу на десятую, юбилейную, всероссийскую Спасскую ярмарку. По крайней мере, именно такое впечатление сложилось у корреспондента газеты, посетившего это яркое культурное событие.
– О-о-о, здравствуйте! – киваешь направо и налево знакомым нижнекамцам, пробираясь между торговыми и ремесленными рядами ярмарки. – И вы здесь? Очень приятно!
Многих в родном Нижнекамске годами не видишь, а здесь, нате-пожалуйста, встретились! Словно в Рим, ведут сюда все дороги и стекаются бегущие от обыденности серых будней люди. За впечатлениями, за эмоциями, за отдохновением. Потому что где ещё, как не в Елабуге, можно совершить путешествие во времени, переместившись из двадцать первого в девятнадцатый век? Вот пройдёшься по длиннющей Казанской улице, полюбуешься на аккуратные старинные домики (кое-где уже подпорченные неуместным вторжением современной архитектуры), за которыми встаёт призрачными образами иная жизнь с иным укладом и философией, и ощущаешь в душе капельку успокоения. Таковы свойства человеческой психики: будущее пугает, а прошлое успокаивает. В нём приятнее, чем в неизведанном и опасном грядущем.
В девяностые годы, будучи студентом Елабужского педагогического института, я преодолевал Казанскую улицу и ещё пол-города два раза в день – по пути в институт и обратно, и даже ни разу не поморщился. А на этот раз брёл со всем своим семейством, брёл – и всё конца-края ей не виделось. Чёрт побери, думалось, неужели она длиннее стала? Да нет, отвечал тут же себе, просто это ты постарел. Но вот, наконец, оно – здание института, ныне филиала Казанского приволжского университета.
– Смотрите, дети! Выдохнул я с гордостью. – Вот в этом институте я учился!
Дочери восприняли информацию без особого интереса, но вроде бы запомнили. Им елабужская старина и папина биография пока малоинтересны, им дороже батуты с надувными горками.
Елабуга, из которой последние лет пятнадцать отчаянно делают туристический город-конфетку всероссийского значения, на самом деле, по укладу жизни продолжает оставаться полудеревенским селением. И говор и местных жителей соответствующий, и отношение к жизни такое же. Вот начинается центральное событие Спасской ярмарки – фестиваль колокольного звона. А микрофон не работает. Одна слово проскакивает, пять – нет. Бедный елабужский игумен, вышедший благословлять фестиваль, вообще остался неуслышанным. И так весь концерт. В Нижнекамске был бы скандал, а здесь – ничего, никто не напрягается. А уж транспорт как работает! Отчего в девяностые я пешком весь город преодолевал? Потому что невозможно было на автобусе уехать. Так сейчас ничуть не лучше. Видели бы вы, как ближе к вечеру на площади Ленина штурмовали толпы народа редкие автобусы, отправляющиеся в соседние Челны. Ради ярмарки, которая по статусу всероссийская, уж можно было организовать регулярное движение, раз основная масса гостей приезжает именно через Челны? А мы ещё наших, нижнекамских транспортников ругаем… Эх, не жили вы в Елабуге!
Впрочем, хватит непозитивного философствования, а то елабужане обидятся и город для меня закроют. А Елабугу я люблю. Так что дальше будут только восторги и радостный бубнёж.
На Спасской ярмарке, хоть она и проводится в десятый раз, побывать мне довелось впервые. Сразу замечу, что почти вся официальная часть от меня ускользнула. Собственно говоря, в приветственные речи чиновников я погружаться и не собирался, потому что ехал в Елабуге не работать, а отдыхать. Не в них правда, брат, не в речах, а в духе события. Дух же у него светлый, наполняющий силами. Где ещё в одном месте увидишь столько совершенно ненужной, но чрезвычайно вдохновляющей одним своим видом белиберды вроде плетёных велосипедов, деревянных автоматов или сделанной в получеловеческий рост избушки на курьих ножках? Народные умельцы разворачиваются здесь во всю ширь: не на каждое творение находится свой покупатель, но тем не менее расходятся они на ярмарке лучше, чем в любом другом месте.
Уличные музыканты – особый шик праздника. Правда, не все из них талантливы, но некоторые вызывают действительно большой интерес. Мы с любопытством понаблюдали и послушали выступление некоего Сергея Садова, создателя инструмента «садора», который представляет собой двухгрифовую гитару, сочетающую в себе собственно гитару, лютню и индийский ситар. Пермский кантри-фолк-ансамбль «БА-БА-ТУ» тоже добавил порцию позитива своим уличным выступлением, плавно перешедшим в коллективные танцы.
А на фестиваль звонарей на этот раз в Елабугу съехалось рекордное количество участников – полторы сотни. Они представляли, как особо отметили организаторы, сорок городов и населённых пунктов России, а также братский Луганск. С колокольни Спасского собора разносились по всей окрестности вдохновенные переливы, подчас столь сложные и многоплановые, что лишь удивляться оставалось мастерству исполнителей.
В дни проведения ярмарки работали все елабужские музеи, сосчитать которые уже трудновато. Впрочем, отдаваться музейной скученности в солнечный и ласковый день не хотелось: природа радовала просторами и видами, звала и очаровывала атмосфера праздника.
Ну вот что тут такого необычного – съездить в соседний город и несколько часов побродить по его улицам, послушав музыку, колокольные звоны и неутихающий людской говор? А настроение улучшилось, на душе посветлело. И в памяти отложилось приятное воспоминание.
До следующих встреч, дорогая Елабуга!
2017 г.
Ленин будет жить!
Луганская премьера нижнекамского писателя
В Луганской Народной Республике состоялась премьера спектакля по пьесе нижнекамского писателя, сотрудника нашей газеты Олега Лукошина «Ленин в 17 году».
Постановка спектакля осуществлена силами театральной труппы Луганской государственной академии культуры и искусств, а режиссёром выступила Татьяна Дрёмова – молодой и талантливый театральный деятель.
В главных ролях задействованы звёзды театральной сцены: народные артисты Украины Дмитрий Витченко (Ленин) и его супруга, Светлана Сиротюк-Витченко (Крупская). Кроме этого, в роли журналиста Джона Рида появляется известный современный британский репортёр Грэм Филипс, прославившийся своими репортажами с места боевых действий в Донбассе и на Луганщине.
– В конце прошлого года, – рассказал Олег Лукошин, – ко мне обратился ректор Луганской государственной академии культуры и искусств Валерий Филиппов, который вынашивал идею создания спектакля к 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Ему хотелось показать Ленина в современных условиях: вот Ленин дожил до наших дней. Что он думает о нашей действительности, о вооружённых конфликтах, о международной политической обстановке. Идея была дерзкой и по-настоящему творческой. Естественно, я согласился выступить в роли драматурга и написать пьесу о Ленине, который дожил до 2017 года.
Семнадцатый год, который упоминается в названии пьесы, – это одновременно и 2017-й, и 1917-й. Этот постмодернистский приём позволил включить в действие как наших современников, так и исторические персонажи революционной эпохи. Ленин разговаривает по сотовому телефону, пользуется скайпом, обсуждает творчество Никиты Михалкова и продолжает грозить мировой буржуазии.
В отличие от многих современных театральных постановок и фильмов о Ленине, которые показывают вождя мирового пролетариата как неоднозначную, а порой даже демоническую фигуру, в спектакле «Ленин в 17 году» он предстаёт как исключительно положительный персонаж.
Премьерные показы длились в Луганске два дня. Вслед за этим создатели спектакля планируют представить его на суд зрителей в рамках разнообразных фестивалей, в том числе в российских городах.
2017 г.
В ракушках не замыкаться!
Только представьте, что вы потеряли зрение и вынуждены жить на ощупь. Жуткое чувство! Но так существуют десятки тысяч наших соотечественников. В канун Международного дня белой трости, который призван напомнить здоровым о проблемах незрячих, мы встретились с председателем Нижнекамского отделения Всероссийского общества слепых Тамарой Часовской, чтобы поговорить о том, как слабовидящие справляются с трудностями.
Под строчки стихов Асадова
В библиотеке Нижнекамского отделения общества слепых – литературный вечер, посвящённый творчеству поэта Эдуарда Асадова. Потеряв зрение на полях Великой Отечественной ещё совсем молодым человеком, Асадов сумел вырасти в большого поэта, чьими стихами зачитывалось не одно поколение советских и российских граждан. Но не только этим он близок незрячим: его стихи – пронзительные исповеди о человеке.
Пожалуй, мало кто так остро чувствует литературу, как люди, потерявшие зрение. Она для них – одна из самых прочных нитей, связывающих с миром. С каким большим, трепетным чувством исполняли нижнекамские слабовидящие проникновенные асадовские строки, словно сами переживали описываемые в них события и эмоции! В любом другом месте литературный вечер мог бы превратиться в скучное мероприятие «для галочки», но только не здесь. Для слабовидящих он – повод выбраться «в свет», пообщаться с друзьями и знакомыми, почувствовать себя нужными.
Существуем благодаря спонсорам
Тамара Часовская, возглавляющая организацию нижнекамских незрячих два года, поделилась, что скучать её коллегам не приходится. Каждая неделя плотно расписана самыми разнообразными событиями: литературные и фольклорные вечера, концерты художественной самодеятельности, экскурсии и лекции, конкурсы и спортивные состязания.
Организация незрячих, в которой насчитывается сейчас 445 человек, располагается, как и прежде, в доме 20а, что на улице Тукая. Здесь есть специализированная библиотека, работает центр профессиональной реабилитации слепых, музыкальный класс.
Зала для проведения мероприятий нет: те, что поскромнее, проводятся в собственной библиотеке, а в организации более значимых помогает центр «Милосердие».
Несмотря на то что нижнекамская организация незрячих является филиалом всероссийского общества, выживать ей приходится исключительно на привлечённые средства спонсоров и жертвователей. Государственного финансирования нет. К счастью, меценаты не перевелись, но приходится считать каждую копейку.
Привет от «Татфондбанка»
Общество незрячих и так стеснено в средствах, а «благодаря» внезапно обанкротившемуся «Татфондбанку», где у него был открыт счёт, и вовсе лишилось всех денег. В реестр кредиторов организацию включили, но кто же знает, когда деньги будут возвращены? И будут ли вообще? Во многом по этой причине нижнекамским незрячим не удалось отметить в мае этого года 30-летний юбилей своей организации. Его намечено провести в ноябре – в преддверии Международного дня слепых и как итог месячника «Белая трость».
Стеснённость в деньгах сказывается на всём. Например, остро стоит вопрос с канцелярскими товарами. Незрячим хотелось бы иметь свой фотоаппарат и видеокамеру, чтобы снимать мероприятия, но купить их не на что. Не помешали бы организации компьютеры и оргтехника. Хотелось бы обновить концертные костюмы. Вот только на что?
Доступная среда
В последние годы потребностям и нуждам инвалидов, в том числе по зрению, уделяется большое внимание.
– Я переехала сюда из Бугульмы, – рассказала Тамара Викторовна, – и могу сказать, что столько звуковых сигналов на переходах, как в Нижнекамске, нет больше нигде. Переходы оборудованы специальными тактильными плитами. Это большой плюс. Однако во дворах ситуация уже другая – здесь для незрячих мало что сделано. В трамваях объявляют маршрут и остановки, а в автобусах нет. Хотелось бы, чтобы и банкоматы были снабжены речевым выходом.
Заработок есть, но…
В былые времена государство заботилось о возможности заработка для инвалидов по зрению, создавались специальные артели, кооперативы. Сейчас с этим сложнее. Всё зависит от инициативы предпринимателей, которая, увы, не фонтанирует разнообразными идеями. В данный момент у нижнекамских слабовидящих имеется, по сути, лишь одна возможность организованного дополнительного заработка: елабужская коммерческая структура позволяет работать на дому, собирая массажные щётки. Работа трудоёмкая, требующая полной загруженности, а доходы более чем скромные – в среднем выходит не более пяти тысяч на человека в месяц. Да и не каждый сможет такой работой заняться, учитывая тот факт, что зачастую кроме зрения люди имеют целый букет других заболеваний.
Однако возможности трудоустройства незрячие и слабовидящие всё же находят. В организации есть люди, которые трудятся в центре социальной реабилитации, в колледже нефтехимии и нефтепереработки, работают массажистами. Пенсия же по инвалидности позволяет лишь расплачиваться по коммунальным счетам, скромно питаться и одеваться. Ничего лишнего.
При этом любой, кто бывал в организации незрячих, отмечает, что атмосфера здесь на удивление доброжелательная, наполненная взаимовыручкой и позитивным взглядом на жизнь.
– Мы – большие оптимисты, это правда! – улыбается Тамара Часовская. – Если бы замкнулись в своих ракушках, то, наверное, вымерли бы.
2017 г.
Почём «высокая» культура?
Дочь поступила в музыкальную школу. Тут же возникла необходимость в покупке пианино. Вылезая в интернет за объявлениями о продаже подержанного инструмента, я переживал: «Только бы не дороже двадцати тысяч».
Но список предложений от нижнекамцев на популярном сайте объявлений поразил. Чем? Своей дешевизной. Добротное советское пианино «Сюита», которое как раз идеально подходит школьникам, здесь предлагают в диапазоне от девятисот рублей до четырёх тысяч. Одно объявление и вовсе гласило: «Отдам даром!» (кстати, оно до сих пор актуально, только что заглядывал). Пребывая с супругой в некотором недоумении от таких щедрот, стали обзванивать людей. На бесплатное пианино отчего-то не позарились (жертвы народной мудрости «бесплатный сыр только в мышеловке», хотя на вид инструмент добротный) и остановились на одном из предложений за две тысячи рублей. Съездили на место, посмотрели. Не торгуясь, ударили по рукам. При этом сложилось впечатление, что продавцы были готовы на скидку. Провожая взглядом деревянную громадину, бывшие хозяева явно источали в мировой эфир удовлетворение: «Наконец-то сплавили этот никчемный громоздкий предмет!» Заказ транспорта и грузчиков вышел дороже, чем сам инструмент. В итоге остались довольны: даже с оплатой грузчиков пианино получилось дешевле самых оптимистичных ожиданий.
Культура, которая считалась в былые времена «настоящей» и «высокой», продаётся ныне по бросовым ценам. И даже не знаешь, радоваться этому или огорчаться. В детские годы самой большой удачей считалось «отхватить» в библиотеке что-нибудь из фантастики. Например, Ивана Ефремова. Помнится, «Лезвие бритвы» я смог прочесть лишь в читальном зале Тукаевской библиотеки. По-другому никак. В абонентском отделе её не было вовсе. А сейчас… Захожу на сайт популярного интернет-магазина, в числе прочих товаров активно торгующего и книгами, так там «Лезвие бритвы» можно приобрести в тридцати различных изданиях. Самое дешёвое, причём отнюдь не букинистическое, а современное, 2015 года, – всего за 154 рубля.
На отечественную литературную классику, на которой выросла вся страна, цены и вовсе смехотворные. «Чапаев» Фурманова – 25 рублей (нет-нет, я не ошибся), «Приваловские миллионы» Мамина-Сибиряка – тоже 25, «Повести и рассказы» Лескова – 32 рубля, «Русский лес» Леонова – 51 рубль, «Поднятая целина» Шолохова – 76 рублей. Но, несмотря на столь смешные цены, спросом эти книги не пользуются. В девяностые-нулевые соотечественники активно пытались избавиться от ставшего вдруг ненужным культурного хлама. Например, от грампластинок. Популярная в те времена газета «Из рук в руки» (интернет ещё не был так развит, как сейчас) пестрела объявлениями: «Продам коллекцию грампластинок. Дёшево». Зарубежные диски, какая-нибудь «АББА» или «Дип Пёрпл», ценились на уровне бутылки пива. Отечественные, всякие Леонтьевы и Пугачёвы – на уровне стаканчика мороженого. Классику – Баха, Моцарта, Гайдна – и вовсе отдавали бесплатно.
А сколько книг тогда было выброшено на свалку! «Куда пионеры подевались? – горевали граждане, вынося к мусорным контейнерам связки некогда дорогих и дефицитных фолиантов. – То бы в макулатуру отдали, а приходится выбрасывать». Макулатуру сейчас в школах опять активно собирают, только по квартирам школьники уже не ходят. Небезопасно, да и не в любой подъезд попадёшь. Но даже сейчас в каждой третьей по счёту квартире вам с удовольствием выставят кипу ненужных книг, которые и читать некому, и хранить накладно – одна пыль.
А помните, было модно собирать коллекции марок, значков и спортивных вымпелов? Что стало теперь с ними, теми накапливаемыми десятилетиями коллекциями? Тоже выброшены на свалки? Или пылятся в диванах и на антресолях?
В былые времена любой рабочий, не говоря о людях умственного труда, считал своим долгом регулярно посещать театры, концерты классической музыки, музеи и выставки. О кинотеатрах и говорить не приходится – походы туда составляли еженедельную рутину. И вовсе не на какие-то детективы и комедии. «Это фильм Федерико Феллини!» – вдохновенно вещал в «Кинопанораме» Эльдар Рязанов, и вся страна не менее вдохновенно устремлялась в кинотеатры, дабы насладиться итальянской киноклассикой. Да, не все понимали эту киноклассику, но, по крайней мере, стремились понять. Стремились стать образованнее, умнее, лучше.
Примерно там, в девяностых, и пролегает водораздел, который превратил наши былые представления о «высокой» культуре в хлам, а на её место предложил культуру другую. Этакую прыткую, ловкую и утилитарную культурку, которая ничему не учит, ничем не обогащает и ни за что не отвечает. «Высокая» культура ныне – это сериалы Первого канала, Стас Михайлов и «Гангам стайл».
Да, сейчас мы живём в другие, высокотехнологичные времена. Нет нужды покупать книги – все тексты с лёгкостью находятся в электронном виде. Нет нужды посещать кинотеатры – все фильмы с лёгкостью скачиваются в сети. Нет нужды приобретать музыкальные диски – всё, что создано на грешной Земле, с лёгкостью можно прослушать в интернете.
Но всё-таки давайте спросим себя: когда мы последний раз читали книгу, пусть хоть и в электронном виде? Пусть самую лёгкую для восприятия, развлекательную? Когда мы последний раз смотрели фильм, кроме тех сериалов, что предлагают нам центральные каналы? Какой-нибудь серьёзный, умный, вдумчивый? Когда мы последний раз слушали Пятую симфонию Бетховена или даже Аллу Пугачёву?. Да что там Бетховен с Пугачёвой, нам и герои поп-музыки вчерашних дней тоже неинтересны. Что, кто-то до сих пор гоняет Майкла Джексона? Даже группа «Руки вверх» сейчас совсем не в чести. Мы смиренно плывём по течению в том русле, которое для нас проложили: работа, дом, забота о хлебе насущном. В наших отцах, дедах и в нас самих двадцатилетней давности было куда больше стремления к «высокому», чем сейчас, хотя в материальном плане жили мы гораздо хуже. Мы отринули всю эту «высокую» культуру как досадное недоразумение, как ненужный балласт, как непрактичную обузу, без которой станет легче и веселее.
Ну что, стало легче? Стало веселее?
Вопрос риторический. Пожалуй, кому-то и стало. Да и стремление к «высокой» культуре, хоть и заретушированное, загнанное в глубины, никуда на самом деле не исчезло. Любой уважающий себя родитель помимо музыкальной школы стремится пристроить своё чадо куда-нибудь ещё: на танцы, на английский язык, на оригами. Все хотят лучшей участи для своих детей, понимая, что без этой самой культуры её им не видать. Вот только та культура, которая сейчас на поверхности, она гораздо жиже. За настоящей, «высокой» нужно нырять.
Так что не пренебрегайте чёрно-белыми фильмами, поцарапанными пластинками и Маминым-Сибиряком. Глядишь, в один прекрасный момент они могут стать серьёзной душевной подпорой в жизни.
2017 г.
Капризы гения
Жиль Апап, франко-американский скрипач-виртуоз, в сопровождении Казанского камерного оркестра «La Primavera» дал в минувшую субботу единственный концерт в Нижнекамске и был вознаграждён за него аншлагом и громом оваций.
Жилю Апапу 54 года. Он родился в Алжире, рос в Ницце, уехал учиться в Соединённые Штаты Америки. Громкая слава пришла к нему в 1985 году, тогда ещё молодой музыкант завоевал главный приз на международном конкурсе имени Иегуди Менухина, знаменитого скрипача и дирижёра. Именно в те годы он исполнил в своей интерпретации Третий скрипичный концерт Моцарта, который стал на многие годы его «визитной карточкой». Познакомиться с версией Третьего концерта смогли и нижнекамские любители музыки.
На Ютубе имеются ролики выступлений Апапа в восьмидесятые и девяностые. Там он не только моложе, но и гораздо более волосат: спадающие на плечи длинные пряди плюс борода. К моменту выступления в Нижнекамске волос на голове Апапа почти не осталось: перед публикой он предстал с гладко выбритым черепом и лишь с небольшой растительностью на лице. Впрочем, и к счастью, на качестве владения смычком отсутствие волос не сказалось.
Несмотря на свою известность в Америке и Европе, в России до недавнего времени Апап был известен мало. Наибольшая заслуга в его популяризации в нашей стране и, особенно в Татарстане, без преувеличения, принадлежит Рустему Абязову, художественному руководителю и главному дирижёру камерного оркестра «La Primavera», заслуженному деятелю искусств России и народному артисту Татарстана. Сам Абязов прямо на концерте поведал слушателям историю о том, как долго и настойчиво он пытался «вытащить» Апапа в Россию. Первая попытка провалилась: свой американский паспорт, отправляясь на гастроли в Европу, скрипач забыл в Штатах, а французский не смогло занести в российское посольство доверенное лицо музыканта. Тем не менее Абязов проявлял настойчивость и наконец-таки «заполучил» Апапа для совместной концертной деятельности. И вот в рамках гастрольного тура по Татарстану он привёз его в Нижнекамск.
Жиль Апап – из тех скрипачей, кто упор делает не на скорость исполнения и даже как бы не совсем на технику (хоть она и великолепна), а на качество звука и проникновенность исполнения. Его скрипка звучала на фоне других инструментов камерного оркестра явно по-особому: каждое прикосновение, даже самое робкое, наполняло пространство концертного зала музыкального училища (совсем недавно отремонтированного, а потому придававшего музыке своеобразную «вкусность») необыкновенными переливами звуковых эмоций.
Коронная «фишка» Апапа – скрещивание классики с джазом, блюзом, а более всего – с фолком. Практически все прозвучавшие в концерте вещи были построены именно таким образом: начинается что-то из Моцарта, Баха или Равеля – и вдруг в это средневековое царство вторгаются апаповские «врезки» то ирландской, то румынской, то какой-то фермерско-американской народной музыки. Впрочем, исполнял он и непосредственно народные вещи: например, заводной болгарский танец, от которого повеяло разудалой славянской свадьбой и фильмами Эмира Кустурицы.
Поведение скрипача на сцене тоже далеко не образец классической выдержанности. До «бунтарства», конечно, далеко, но, по нашим представлениям, нечто совершенно нестандартное. На месте Апап почти не стоит, прогуливается из одного угла сцены в другой, то и дело что-то бормочет, насвистывает и время от времени выдаёт в зал на английском то ли название своих «народных» номеров, то ли своё эмоциональное отношение к ним.
Маэстро Абязов прямо по ходу концерта признался, что и сам не вполне точно знает, какую именно вещь он будет исполнять вместе с Апапом в следующую минуту. Скрипач постоянно меняет программу: вдруг «закапризничает» и не захочет сыграть одно, выдав вместо него что-то другое. Капризы гения, понимаете ли. Капризы, которым все аплодируют.
В конце выступления Жиль запустил в зал удалым пинком какую-то смятую бумагу (уж не нотный ли лист?) и минут десять наслаждался громовыми аплодисментами, которыми его наградили нижнекамцы. Просто так наши меломаны гостя не отпускали: он вышел на «бис», а после концерта раздал дождавшимся его поклонникам автографы.
2017 г.