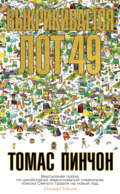Томас Пинчон
V.
III
Мисс Виктория Рен, родом из Лардвика-на-Фене в графстве Йоркшир, недавно провозгласившая себя гражданкой мира, совершала акт покаяния, благочестиво преклонив колени у передней скамьи в церкви на Виа-делло-Студио. Часом ранее на Виа-деи-Веккьетти она увидела юного толстяка англичанина, выделывавшего курбеты в экипаже, и ее посетили непристойные мысли, в которых Виктория теперь искренне раскаивалась. В свои девятнадцать лет ока уже имела на счету один серьезный роман: прошлой осенью в Каире она соблазнила некоего Гудфеллоу, агента Британского Министерства иностранных дел. Но у юности короткая память, и его лицо уже было забыто. Впоследствии оба, не задумываясь, списали потерянную невинность Виктории на бурные чувства, которые обычно разгораются во время обострения международной ситуации (дело было в момент Фашодского кризиса). Сейчас, шесть или семь месяцев спустя, Виктория затруднялась определить, действительно ли она этого хотела или все произошло помимо ее воли. Их связь вскоре была обнаружена ее вдовствующим отцом сэром Аластэром, с которым Виктория и ее сестра Милдред путешествовали по Востоку. И вот ближе к вечеру в тенистом саду Эзбекия разыгралась сцена – с криками, рыданиями, угрозами и оскорблениями, – на которую, застыв от ужаса, со слезами на глазах взирала малышка Милдред, и одному Богу известно, какие шрамы в ее юной душе оставила эта сцена. В конечном счете Виктория ледяным тоном попрощалась с отцом и поклялась никогда не возвращаться в Англию; сэр Аластэр кивнул и увел Милдред за руку. Ни он, ни Виктория не оглянулись.
После этого найти средства к существованию не составило труда. Благодаря своей расчетливости и бережливости Виктория сумела скопить около 400 фунтов стерлингов щедротами виноторговца в Антибах, польского лейтенанта-кавалериста в Афинах, торговца предметами искусства в Риме. Во Флоренцию она приехала с целью обсудить приобретение небольшого салона мод на левом берегу. Занявшись предпринимательством, юная леди обнаружила, что у нее появились политические убеждения: она возненавидела анархистов, Фабианское общество и даже графа Роузбери [134]. С восемнадцати лет Виктория сохраняла невинный вид, который несла, словно грошовую свечку, прикрывая пламя неокольцованной и все еще по-детски пухлой ручкой, спасаемая от позора взглядом простодушных глаз, девичьей фигуркой, и выражением лица искренним, как раскаянье. Итак, она стояла на коленях, и единственным ее украшением был гребень из слоновой кости, сиявший в густой копне каштановых волос, казавшихся такими английскими. Гребень с пятью зубчиками в гиде пяти распятых фигур, держащихся за руки. Распятые были не религиозными мучениками, а британскими солдатами. Виктория приобрела этот сувенир на одном из каирских базаров. Гребень, очевидно, был вырезан каким-то кучерявым Фуззи-Вуззи [135] в память о казни англичан в 1883 году в провинции к востоку от осажденного Хартума. Причины, побудившие Викторию купить именно этот гребень, были столь же просты и естественны, как и мотивы, которыми руководствуется любая девушка, выбирая платье или украшение определенного цвета и формы.
Свою связь с Гудфеллоу и с тремя последовавшими за ним любовниками Виктория уже не считала греховной. Гудфеллоу она запомнила лишь потому, что он был первым. И дело было не в том, что она исповедовала несколько экстравагантную разновидность католицизма, легко прощавшую все, что римско-католическая церковь считала греховным: это было не попустительство греху, а безусловное восприятие этих четырех эпизодов как явственных и зримых знамений духовной благодати, дарованной ей одной. Возможно, причиной тому были несколько недель, которые Виктория девочкой провела в монастыре, где проходила обряд послушания, готовясь стать монахиней, а может, какое-то поветрие, свойственное тому времени. Как бы то ни было, к девятнадцати годам у нее выработался монашеский темперамент, причем доведенный до самой опасной крайности. И хотя Виктория не постриглась в монахини, в душе она верила, что ее суженый – Иисус Христос и что физическое единение супругов возможно через отношения с простыми смертными, каковые суть лишь несовершенные воплощения Христа, и в ее жизни их уже было четверо. Она была убеждена, что Иисус будет и впредь выполнять свои супружеские обязанности через то количество посредников, которое сочтет нужным. Нетрудно предположить, к чему могут привести такого рода убеждения: в Париже настроенные подобным образом дамы посещали черные мессы, в Италии они становились любовницами архиепископов и кардиналов и жили в прерафаэлитской роскоши. Так что Виктория была отнюдь не одинока в своих устремлениях.
Она поднялась с колен и прошла по центральному проходу в глубь церкви. Смочив кончики пальцев в святой воде, Виктория уже собиралась преклонить колени, но в этот момент кто-то тронул ее за плечо. Вздрогнув от неожиданности, она обернулась и увидела пожилого мужчину на голову ниже нее, который стоял, испуганно выставив вперед руки.
– Вы англичанка? – спросил он.
– Да.
– Вы должны мне помочь. Я попал в беду. Но я не могу обратиться к генеральному консулу.
Старик не был похож на нищего или незадачливого туриста. Что-то в нем напомнило ей Гудфеллоу.
– Вы шпион?
– Да, – ответил он с невеселой усмешкой. – В некотором роде я вовлечен в шпионаж. Но не по своей воле, поверьте. Мне этого вовсе не хотелось. – И горестно добавил: – Я хочу исповедаться, понимаете? Я пришел в церковь, место, где исповедуются…
– Пойдемте, – прошептала она.
– Останемся здесь, – сказал он. – Все кафе под наблюдением.
Виктория взяла его за руку:
– Здесь, кажется, есть внутренний садик. Сюда. Через ризницу.
Он покорно позволил вести себя. В ризнице, преклонив колени, священник читал требник. Проходя мимо, Виктория протянула ему десять сольдо. Священник даже не глянул на нее. Короткая аркада с крестовыми сводами вела в окруженный замшелыми стенами садик, где росла чахлая трава и кривая сосенка, а посередине был крохотный пруд с карпами. Виктория подвела старика к каменной скамье возле пруда. В садик время от времени врывался порывистый ветер с дождем. У старика под мышкой была газета, и он расстелил ее на скамью. Они сели. Виктория раскрыла зонтик, а старик с минуту раскуривал «кавур». Пустив несколько колечек дыма в сырой воздух, он заговорил:
– Полагаю, вы ничего не слышали о таком месте, как Вейссу.
Она не слышала.
Он начал рассказывать ей о Вейссу. О том, как они добирались туда верхом на верблюдах через бескрайнюю тундру, минуя дольмены и святилища мертвых городов, как наконец вышли к берегу широкой реки, скрытой от солнечного света густой листвой. Дальше они плыли по реке в длинных лодках из тикового дерева, сделанных в виде драконов. Гребцами на лодках были смуглые туземцы, говорившие на языке, не ведомом никому, кроме них самих. Через восемь диен пути им пришлось волоком тащить лодки через болотистую низину к зеленому озеру, за которым вздымались отроги горной цепи, окружающей Вейссу. Местные проводники отказались подниматься в горы и, показав, куда надо идти, повернули обратно. В зависимости от погоды, дальнейший путь к границам Вейссу занимает одну-две недели, пролегая через морену, крутые гранитные склоны и синие ледники.
– Значит, вы там были, – сказала Виктория.
Он был там. Пятнадцать лет назад. И с тех пор не знал покоя. Даже в Антарктиде, прячась от пурги в лагере, наспех разбитом на выступе безымянного глетчера, ему чудился тонкий аромат благовоний, приготовляемых жителями Вейссу из крыльев черных мотыльков. Временами ему казалось, что сквозь вой ветра прорываются обрывки их сентиментальных мелодий; порой сполохи полярного сияния ни с того ни с сего будили воспоминания об их выцветших фресках, изображавших битвы древних героев и любовные игры еще более древних богов.
– Вы Годольфин, – констатировала Виктория, как будто уже давно об этом догадалась.
Он кивнул, едва заметно улыбнувшись.
– Надеюсь, вы не связаны с прессой. – Виктория покачала головой, стряхнув при этом капельки дождя с волос – То, что я вам рассказываю, должно остаться между нами, – продолжил он. – К тому же все это может оказаться неправдой. Откуда мне знать про собственные глубинные мотивы? Порой я вел себя безрассудно.
– Нет, отважно, – возразила она. – Я слышала о ваших подвигах. Читала о вас в газетах, в книгах.
– И все же в этом не было никакой необходимости. Переход вдоль ледового Барьера. Попытка достичь Южного полюса в июне. Июнь в тех широтах – это середина зимы. Это было чистой воды безумием.
– Это было великолепно.
Еще минута, с тоской подумал си, и она начнет разглагольствовать о британском флаге, развевающемся на полюсе. Но, видно, было что-то солидное в возвышенной готике церкви, в окружающей их тишине, в спокойном настрое его собеседницы и в его собственном исповедальном настроении; вот только сам он разболтался, надо бы остановиться. Но си не мог.
– Мы обычно с такой легкостью всему находим оправдания, – воскликнул старик. – Например, говорим, что вели китайские кампании во имя королевы, а Индию покоряли во славу Империи. Мне ли об этом не знать. Я убеждал в этом своих подчиненных, общественность, самого себя. Сегодня в Южной Африке гибнут англичане и, вероятно, будут гибнуть завтра, потому что свято верят в эти слова, как вы веруете в Бога, не побоюсь этого слова.
Виктория едва заметно улыбнулась.
– А вы уже не верите? – мягко спросила она, разглядывая свой зонтик.
– Раньше верил, а потом…
– Да?
– Зачем? Вам никогда не случалось доводить себя до умопомрачения этим вопросом? Зачем? – Его сигара погасла. Он замолчал, чтобы снова ее раскурить, и затем продолжил: – Дело нс в том, что я увидел там нечто необычное или сверхъестественное. Никакие верховных жрецов, из поколения в поколение передающих и с незапамятных времен ревностно хранящих неведомые человечеству тайны. Никаких универсальных средств или панацеи от человеческих страданий. Вейссу вряд ли можно назвать спокойным местом. Там есть и варварская жестокость, и бунты, и междоусобная вражда. Словом, все то же самое, что и в любой другой Богом забытой отдаленной стране. Англичане на протяжении веков совершали увеселительные прогулки в места, подобные Вейссу. Вот только…
Все это время Виктория не отрываясь смотрела на старика. Ее зонтик стоял, прислоненный к скамье, рукоятка в мокрой траве.
– Цвета. Невероятное разнообразие красок. – Он закрыл глаза и, опустив голову, прижался лбом к согнутой кисти руки. – На деревьях возле хижины главного шамана обитают паукообразные обезьянки, переливающиеся всеми цветами радуги. На солнце их окраска меняется. Все изменяется. Горы и долины ежечасно меняют свой цвет, причем каждый день в разной последовательности. Кажется, будто вы попали в калейдоскоп безумца. Даже ваши сновидения расцвечиваются красками и наполняются формами, которых не видел ни один житель Запада. Эти красочные формы ирреальны и лишены какого-либо смысла. Они произвольно меняют свои очертания, как облака над йоркширскими холмами.
От неожиданного упоминания Йоркшира Виктория нервически звонко рассмеялась. Но он не обратил внимания.
– Они совсем не похожи на курчавых барашков или человеческие профили, – продолжил он. – Их невозможно забыть. В сущности, в них явлен облик Вейссу, они ее одеяния или ее кожные покровы.
– А под ними?
– Вы имеете в виду ее душу, да? Конечно. Я много думал о том, какая у Вейссу душа. Есть ли она у нее вообще. Ее музыка, поэзия, законы и обряды не позволяют проникнуть вглубь. Все это тоже своего рода кожный покров. Вроде татуированной кожи туземки. Вейссу обычно видится мне женщиной. Надеюсь, вы не обижаетесь?
– Нисколько.
– У штатских довольно странные представления о военных, но, пожалуй, в том, что они думают о нас, есть доля истины. К примеру, они верят, что распутный младший офицер где-нибудь за тридевять земель от родины набирает себе гарем смуглых туземок. Действительно, у многих из нас была такая мечта, хотя я не знаю никого, кому бы удалось ее осуществить. Не стану отрицать, я и сам подумывал об этом. Эта мысль впервые возникла у меня в Вейссу. Не знаю почему… – Он наморщил лоб. – Но мечты там не то чтобы ближе к яви, просто кажутся более реальными. Вы понимаете, что я имею в виду?
– Продолжайте. – Виктория не сводила с него восхищенных глаз.
– Как будто эта страна была женщиной, которую я нашел в далеком краю, смуглокожей туземкой, татуированной с головы до пят. И тогда словно пропасть отделяет вас от сослуживцев, и вы понимаете, что не можете вернуться назад, потому что должны остаться с ней, должны быть вместе день и ночь…
– И любить ее?
– Поначалу – да. Но вскоре эта кожа, это потрясающее буйство красок и форм встает между вами и тем, что, как вам казалось, вы в ней любили. И потом, буквально в считанные дни, эта преграда становится непреодолимой, и вы начинаете молить всех мыслимых богов, чтобы они наслали на эту кожу какую-нибудь проказу. Вам хочется содрать ее, разодрать ее на тысячи красных, багровых и зеленых кусочков, обнажить пульсирующие, кровоточащие вены и дрожащие сухожилия, чтобы наконец увидеть и коснуться их. Простите. – Он не смел взглянуть на нее. Ветер швырял дождем через ограду. – Пятнадцать лет. Это было сразу после того, как мы вошли в Хартум. Я видел зверство и жестокость во время ближневосточной кампании, но такого и вообразить не мог. Нам предстояло освободить генерала Гордона. В те годы, я полагаю, вы были совсем крошкой, но потом наверняка читали об этих событиях, о том, что махдисты сделали с этим городом, с генералом Гордоном и его солдатами. Я тогда мучился от лихорадки, и мои мучения, несомненно, усугублялись от вида развалин и изуродованных трупов. Мне вдруг ужасно захотелось бежать от всего этого; казалось, ясный мир ровных каре и контрмаршей рухнул и выродился в безумную круговерть. У меня были друзья среди штабных офицеров в Каире, Бомбее, Сингапуре. И когда через две недели мне предложили принять участие в экспедиции, я сразу же согласился. Я, знаете ли, всегда старался участвовать в предприятиях, в которых военным морякам делать в общем-то нечего. На сей раз мне было поручено сопровождать группу гражданских инженеров, следовавших в далекую опасную страну, в дикий, романтический край. Они должны были провести съемку местности, чтобы вместо белых пятен на карте появились контурные линии, отметки высот, заштрихованные и цветные участки. На благо Империи. Наверное, такого рода мысли должны были прийти мне в голову. Но в тот момент мне просто хотелось куда-нибудь сбежать. Одно дело идти в атаку с криками: «Да здравствует Святой Георгий, и смерть арабам», но совсем другое – знать, что воины Махди верещат что-нибудь в том же духе на арабском, особенно после того, как они доказали в Хартуме, что их слова не расходятся с делом.
К счастью, старик не обратил внимания на гребень в ее волосах.
– Вы привезли карты Вейссу?
– Нет, – не сразу ответил он. – Результаты экспедиции не попали ни в МИД, ни в Географическое общество. Ничего, кроме отчета о постигшей нас неудаче. Запомните: это проклятое место. В нашей экспедиции было тринадцать человек, а вернулись только трое: я, мой заместитель и один гражданский инженер – имени его я не помню, – который впоследствии, насколько мне известно, бесследно исчез.
– А ваш заместитель?
– Он… Он в госпитале. Вышел в отставку. – Последовало молчание – Второй экспедиции, разумеется, не было, – продолжил Годольфин. – По политическим соображениям – как знать? Никому до этого не было дела. Я вышел сухим из воды. Меня никто ни в чем не обвинял. Я даже получил личную благодарность от королевы, хотя сама экспедиция всячески замалчивалась.
Виктория рассеянно притопывала ножкой:
– И все это как-то связано… с вашей нынешней шпионской деятельностью?
Годольфин вдруг как будто еще больше постарел. Сигара в его дрожащей руке снова погасла. Он бросил ее в траву.
– Да. – Беспомощным жестом он показал на церковь, на серые стены вокруг. – Насколько я понимаю, вы можете… Возможно, я поступаю неосмотрительно.
Осознав, что он ее боится, Виктория участливо наклонилась к старику:
– Люди, которые следят за кафе, они из Вейссу? Агенты? – Годольфин принялся грызть ногти – неспешно и методично, – делая аккуратные полукружия с помощью верхних центральных и нижних боковых резцов. – Вы что-то узнали о них, – взмолилась Виктория, – нечто такое, о чем не можете рассказать? – Ее голос сочувственно и в то же время раздраженно звучал в тишине крошечного садика. – Позвольте мне помочь вам. – Щелк, щелк. Дождь ослабел и почти перестал. – Что же это за мир, где нет никого, к кому вы могли бы обратиться в минуту опасности? – Щелк, щелк. Старик молчал. – Откуда вы знаете, что генеральный консул не может вам помочь? Прошу вас, позвольте мне хоть что-нибудь сделать для вас.
Осиротелый ветер, уже без дождя, влетел в садик. Рыба лениво плеснулась в пруду. Девушка болтала без умолку, а старик, закончив с правой рукой, переключился на левую. Небо уже начинало темнеть.
IV
Восьмой этаж дома номер 5 на Пьяцца-делла-Синьория был темен, грязен и вонял жареным осьминогом. Эван пыхтя одолел три последних лестничных пролета и потратил четыре спички, прежде чем нашел дверь квартиры отца. Вместо таблички с именем к двери был прикноплен обрывок бумаги с надписью «Эван». Эван посмотрел на него с сомнением. Шумел дождь, скрипел дом, но в коридоре было тихо. Эван пожал плечами и толкнул дверь. Она открылась. Он ощупью пробрался внутрь, нашел газовую лампу и зажег ее. Комната была обставлена весьма скудно. Пара брюк была небрежно брошена на спинку стула; на кровати, распростерши рукава, лежала белая рубашка. Других следов жизни не наблюдалось: не было ни чемоданов, ни бумаг. Сбитый с толку Эван уселся на кровать и задумался. Вытащил из кармана телеграмму и перечел ее. Вейссу. Единственная отправная точка. Неужели старик Годольфин действительно верил, что такое место существует на самом деле?
Эван, даже будучи ребенком, никогда не расспрашивал отца о деталях. Он понимал, что экспедиция потерпела провал, и улавливал нотки вины или сопричастности ее краху в добром басовитом голосе, который излагал перипетии путешествия. Этим дело и ограничивалось; Эван не задавал вопросов, он просто сидел и слушал, словно заранее предвидел, что однажды ему придется отречься от Вейссу, и сделать это будет тем проще, чем меньше обязательств он на себя возьмет. Что ж, ладно: год назад, когда Эван в последний раз видел отца, тот был спокоен и безмятежен; следовательно, что-то произошло в то время, когда старик был в Антарктиде. Или на обратном пути. Возможно, даже здесь, во Флоренции. Почему отец оставил только клочок бумаги с именем сына? Два возможных объяснения: а) никакой записки не было, а была своего рода именная карточка, которая должна была навести Эвана на мысль о капитане Хью; б) отец хотел, чтобы Эван вошел в комнату. Не исключено, что имелось в виду и то, и другое. Повинуясь наитию, Эван взял с кресла брюки и обшарил карманы. Нашел три сольдо и портсигар. Там обнаружились четыре самокрутки. Эван почесал живот. Ему вспомнилась фраза: в телеграмме все не расскажешь. Молодой Годольфин вздохнул.
– Ну что ж, маленький Эван, – пробормотал он самому себе, – будем играть до конца. Явление Годольфина, шпиона со стажем. Он тщательно обследовал портсигар, отыскивая какие-нибудь скрытые пружины; ощупал подкладку – нет ли чего под ней? Ничего. Принялся обыскивать комнату, потыкал в матрац и добросовестно его осмотрел, надеясь заметить недавние швы. Шарил в шкафу, зажигал спички в темных углах, заглядывал под стулья в поисках послания, прикрепленного снизу под сиденьем. Через двадцать минут, так ничего и не обнаружив, Эван стал чувствовать себя в роли шпиона гораздо менее уверенно. Он печально уселся на стул, вытащил одну из отцовских самокруток и чиркнул спичкой. Погоди-ка, вдруг сообразил он. Погасил спичку, отодвинул стол, достал из кармана перочинный нож и стал осторожно резать самокрутки вдоль, высыпая табак на пол. В третьей самокрутке он нашел то, что искал. Внутри на папиросной бумаге была карандашная надпись: «Меня обнаружили. У Шайсфогеля в 10 вечера. Будь осторожен. Отец».
Эван посмотрел на часы. Ну, и для чего, черт возьми, все это нужно? Зачем такие предосторожности? Старик ударился в большую политику или впал в детство? В ближайшие несколько часов Эван был лишен возможности что-либо предпринять. Он собирался начать активные действия – хотя бы для того, чтобы рассеять серую скуку изгнания, – но был готов к разочарованиям. Погасив лампу, Годольфин вышел в коридор, закрыл дверь и стал спускаться по деревянной лестнице. Он раздумывал, что значит «У Шайсфогеля», когда ступеньки неожиданно проломились под его весом, и Эван провалился вниз, судорожно хватаясь за воздух. Сумел ухватиться за перила, они треснули, и Эван закачался над лестничным колодцем на высоте семи этажей. Он висел и слышал, как гвозди со скрежетом выходят из верхнего конца перил. «Я самый неуклюжий урод в мире», – подумал Эван. Эта штука может отвалиться в любую секунду. Огляделся, прикидывая, что делать. Ноги болтались в двух ярдах и нескольких дюймах от следующей балясины. Лестничный пролет, сквозь который он провалился, был в футе от его правого плеча. Перилина, на которой он висел, угрожающе раскачивалась. «Что я теряю? – подумал Эван, – Только надежду, что мое время истечет не слишком быстро». Он осторожно согнул правую руку и ухитрился положить ладонь на ступеньку лестницы; затем резко оттолкнулся. Откачнувшись, пролетел над пустотой, на излете услышал, как взвизгнули вышедшие из дерева гвозди, завис над перилами, широко расставил ноги и, аккуратно усевшись на них верхом, съехал на седьмой этаж в тог самый момент, когда отломившаяся балясина с грохотом рухнула вниз. Весь дрожа, слез с перил и сел на ступеньки. Ловко, подумал он. Браво, старик. Исполнил не хуже любого акробата. Но в следующую секунду, после того как его едва не стошнило прямо в колени, пришла мысль: а было ли все это случайностью? Когда я поднимался, ступеньки были в полном порядке. Эван нервно улыбнулся. Он стал таким же болезненно подозрительным, как и стен. Когда он выходил на улицу, дрожь почти прошла. С минуту он стоял перед домом, прислушиваясь к своим ощущениям.
Прежде чем он успел в них разобраться, по бокам от него оказались два полицейских.
– Документы, – потребовал один из них.
Эван, придя в себя, автоматически запротестовал.
– Мы выполняем приказ, кабальеро.
В слове «кабальеро» Годольфин уловил легкий оттенок презрения. Он достал паспорт. Увидев его имя, жандармы закивали.
– Будьте любезны объяснить… – начал Эван.
Они весьма сожалеют, но объяснений дать не могут. Ему придется пойти с ними.
– Я требую вызвать британского консула.
– Но, кабальеро, откуда нам знать, что вы англичанин? Паспорт может быть поддельным. Вы можете оказаться подданным какой угодно страны. Даже той, о которой мы и слыхом не слыхивали.
Эван почувствовал противный холодок на шее. Ему в голову внезапно пришла безумная мысль, что они намекают на Вейссу.
– Если ваше начальство сумеет дать мне удовлетворительные объяснения, – сдался он, – я готов идти с вами.
– Само собой, кабальеро. – Они прошли через площадь и свернули за угол к поджидавшему экипажу. Один из полицейских предупредительно отобрал у Эвана зонтик и принялся внимательно его рассматривать.
– Поехали, – крикнул другой, и они галопом понеслись по Борго-ди-Греци.