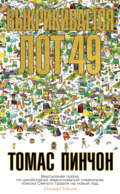Томас Пинчон
V.
V
Приехав из Ленокса на уик-энд, МакКлинтик выяснил, что август в Новом Йорке, как и ожидалось, никуда не годится. Проезжая перед заходом солнца на ровно гудящем «триумфе» через Центральный парк, он видел множество тревожных симптомов: девушек на траве в пропотевших тонких (открытых) летних платьях; группы подростков, шнырявших на горизонте, – неспешных, уверенных, ожидающих ночи; озабоченных респектабельных граждан и нервных легавых (возможно, у них были проблемы на работе, но работа легавых как раз и должна быть связана с подростками и наступлением ночи).
МакКлинтик приехал повидать Руби. Раз в неделю он добросовестно посылал ей какую-нибудь открытку с видом Тэнглвуда или Беркширских гор, но она на них не отвечала. Пару раз он заказывал междугородный разговор и убеждался, что девчонка никуда не делась.
Однажды, повинуясь порыву, МакКлинтик и басист рванули через весь штат (который казался крохотным, если учитывать скорость «триумфа»), проскочили мыс Код и едва не въехали в море. Однако сумели вывернуть на узкий перешеек и чисто случайно попали в курортный городок со странным названием Френч Таун.
Перед рыбным рестораном, находившимся на главной и единственной улице городка, они обнаружили еще двух музыкантов, которые выбивали сложный ритм ножами для вскрытия устричных раковин. Собирались ехать на вечеринку. «О, да», – закричали местные музыканты в унисон. Один забрался в багажник «триумфа», а второй – с бутылкой стопятидесятиградусного рома и ананасом – уселся на капот. И вот на еле освещенном шоссе (практически пустом в конце сезона), на скорости восемьдесят миль в час это счастливое украшение капота вскрыло устричным ножом фрукт и принялось наливать ром с ананасовым соком в бумажные стаканчики, которые басист МакКлинтика передавал ему через окно.
На вечеринке внимание МакКлинтика привлекла девчонка в джинсиках, сидевшая на кухне, куда бесконечной чередой тянулись гости.
– Дай отвести взгляд, – попросил МакКлинтик.
– А я его и не держу.
– Погоди. – МакКлинтик относился к тем, на кого действует опьянение окружающих. Он окосел через пять минут после того, как они влезли в дом через окно.
Во дворе басист с какой-то девушкой забрались на дерево.
– Тебя больше привлекает кухня? – насмешливо крикнул он сверху. МакКлинтик вышел и сел под деревом. Наверху запели:
Ты слышала, детка, ты знала о том,
Что в Леноксе нет наркоты?
Над МакКлинтиком кружили любопытные светлячки. Откуда-то доносился шум волн. Пьянка проходила тихо, хотя дом был полон. Девчонка на кухне высунулась в окно. МакКлинтик закрыл глаза, отвернулся и уткнулся лицом в траву.
Подошел пианист по имени Харви Фаццо.
– Юнис интересуется, – сообщил он МакКлинтику, – можно ли побыть с тобой наедине.
Значит, девчонку на кухне зовут Юнис.
– Нет, – сказал МакКлинтик. На дереве началась возня.
– У тебя жена в Нью-Йорке? – доброжелательно спросил Харви.
– Вроде того.
Вскоре пришла и сама Юнис.
– Я принесла бутылку джина, – сказала она умоляющим гоном.
– Занялась бы чем-нибудь более приятным, – ответил МакКлинтик.
Он не взял с собой даже простенькой дудки. Он смирился с тем, что в доме началось импровизированное музыкальное представление. Такие джем-сейшны ему не слишком нравились; его собственные были иными, не такими буйными; собственно говоря, они были единственным положительным результатом спокойного послевоенного отношения к жизни, умения уверенно и точно извлекать звук из инструмента, четко с ним взаимодействовать. Словно целуешь девичье ушко: рот одного человека, ухо другого – но оба все понимают. Он остался под деревом. Очнулся лишь когда басист с девушкой спустились вниз и мягкая ступня в чулке надавила МакКлинтику на поясницу. После этого (уже под утро) он избавился от страшно разозленной на него Юнис, вдребезги пьяной и изрыгающей проклятия.
А ведь в прежние времена он бы развлекся с ней не задумываясь. Жена в Нью-Йорке. Хо-хо.
Когда МакКлинтик добрался до дома Матильды, Руби была там. Он едва успел. Она паковала внушительных размеров чемодан. Еще четверть часа, и он бы ее не застал.
Она набросилась на МакКлинтика, едва он появился в дверях. Швырнула в него комбинацией персикового цвета, которая повисла в воздухе на середине комнаты и печально спланировала на пол, пройдя через косые лучи почти закатившегося солнца. Они проследили, как ткань приземлилась.
– Не переживай, – сказала наконец Руби. – Я просто поспорила сама с собой.
И начала распаковывать чемодан, проливая потоки слез на все без разбора: на шелк, вискозу, хлопок, льняные простыни.
– Глупо, – закричал МакКлинтик. – Боже, какая глупость. – Ему хотелось кричать, он не мог этому противиться. И вовсе не потому, что не верил в телепатические импульсы.
– Да о чем тут говорить, – сказала Руби чуть позже, затолкав пустой чемодан обратно под кровать, словно бомбу с часовым механизмом.
Интересно, когда его стало волновать, уйдет она или останется с ним?
Пьяные Харизма и Фу вломились в комнату, распевая песенки из английских водевилей. С собой приволокли хворого и слюнявого сенбернара, которого подобрали на улице. Жаркие, однако, были вечера в этом августе.
– О, дьявол, – сказал Профейн в телефонную трубку. – Наши шумные друзья вернулись.
Через открытую дверь был виден лежавший на кровати странствующий гонщик Мюррэй Стэйбл, храпевший и истекавший потом. Девушка, спавшая рядом, перевернулась на спину. Полусонно бормоча, вступила в диалог с храпом. На шоссе некто, сидя на капоте «линкольна» 56-го года выпуска, напевал сам себе:
О да,
Юной крови я жажду,
Буду пить и лакать, буду рот полоскать,
Нынче ночью, возможно, кровь младую найду…
Август. Сезон оборотней.
Рэйчел поцеловала телефонную трубку. И как можно целовать неодушевленный предмет?
Пес, шатаясь, направился в кухню и с грохотом устроился среди примерно двух сотен пустых пивных бутылок, оставленных Харизмой. Харизма продолжал петь.
– Нашел, – заорал из кухни Фу. – Есть миска, эй.
– Плесни пивка скотине, – велел Харизма, так и не избавившийся от говора кокни.
– Да он вроде здорово болен.
– Пиво для него – лучшее лекарство. Собачьи капли. – Харизма захохотал. Через секунду Фу присоединился к нему, истерически захлебываясь и булькая, как сто гейш разом.
– Жарко, – сказала Рэйчел.
– Скоро будет прохладно. Рэйчел… – Но момент был упущен. Его «Я хочу» и ее «Не ц? до* слились где-то на середине линии в легкий шум. Иступило молчание.
В комнате было темно: в окне, выходящем на Гудзон, мелькали молнии, сверкавшие над Нью-Джерси.
Вскоре Мюррэй Сэйбл перестал храпеть, девушка успокоилась, и внезапно на мгновение все стихло, только плескалось пиво для пса в миске и доносилось еле слышное шипение. Надувной матрац, на котором спал Профейн, где-то пропускал воздух. Раз в неделю Профейн подкачивал его велосипедным насосом, валявшимся в шкафу Уинсама.
– Ты что-то сказала? – спросил Профейн.
– Нет.
– Ладно. Что происходит с нами под землей? Интересно, мы вылезаем оттуда теми же самыми людьми?
– Под городом много интересного, – согласилась Рэйчел.
Аллигаторы, слабоумные монахи, всякая шелупонь в метро. Он вспомнил ту ночь, когда она вызвала его на автобусную станцию в Норфолке. Кто тогда направлял их действия? Она в самом деле хотела вернуть его или, может, это тролли решили поразвлечься таким образом?
– Мне надо поспать. У меня вторая смена. Разбудишь меня в полночь?
– Разумеется.
– Имей в виду, электрический будильник я сломал.
– Шлемиль. Вещи тебя терпеть не могут.
– Они объявили мне войну, – сказал Профейн. Войны начинаются в августе. Эта традиция сложилась в двадцатом веке в зоне умеренного климата. Август – это не всегда только месяц, войны – не всегда широкомасштабные.
Повесить трубку – в этом есть что-то зловещее; словно тайную интригу сплести. Профейн плюхнулся на свой матрац. На кухне сенбернар принялся лакать пиво.
– Эй, а его не стошнит?
Стошнило. Громко и безобразно. Из дальней комнаты пришел недовольный Уинсам.
– Я сломал твой будильник, – сообщил Профейн, уткнувшись лицом в матрац.
– Что-что? – удивился Уинсам. Девушка рядом с Мюррэем Сэйблом сонно забормотала на языке, неизвестном бодрствующему миру. – Где вы были, ребята? – Уинсам стремительно направился к своей электрокофеварке, в последний момент укоротил шаг, вспрыгнул на нее и уселся верхом, вертя ручки пальцами ног. Ему открывался прямой вид в кухню. – О-хо-хо, – простонал Уинсам, словно получил внезапный удар. – Да, мой дом – ваш дом. И где же это вы были?
Харизма повесил голову и зашаркал ножкой в луже зеленоватой блевотины. Сенбернар дрых среди пустых бутылок.
– Где же еще? – буркнул Харизма.
– Малость порезвились, – признался Фу. Мокрый и кошмарный пес заскулил во сне.
В августе 56-го года такие развлечения были любимым времяпрепровождением Всей Шальной Братвы – как в помещениях, так и на улице. Чаще всего забавы принимали форму шатаний в стиле йо-йо. Сомнительно, чтобы это было инспирировано перемещениями Профейна по Восточному побережью, но тем не менее Братва предпринимала нечто подобное в масштабах города. Правило: надо быть в стельку пьяным. Кое-кто из живописной толпы завсегдатаев «Ржавой ложки» ставил просто-таки фантастические йо-йошные рекорды, которые впоследствии признавались недействительными, ибо выяснялось, что рекордсмены были трезвы, как стеклышко. «Пьянь палубная», презрительно отзывался о них Хряк. Правило: на каждом проезде в один конец надо хотя бы раз проснуться. Иначе будет считаться, что время потеряно даром и что его с тем же успехом можно было провести в метро на скамеечке. Правило: ветка метро должна и выходить на поверхность, и уходить под землю, поскольку это соответствует перемещениям йо-йо. На раннем этапе увлечения стилем йо-йо некоторые фальшивые «чемпионы» беззастенчиво набирали очки, катаясь по 42-й улице, что нынче рассматривалось в кругах истинных любителей как своего рода скандальное поведение.
Королем среди них был Слэб. Год назад, расставшись с Эстер в ночь после достопамятной вечеринки у Рауля и Мелвина, Слэб провел весь уик-энд в вестсайдском экспрессе, намотав шестьдесят девять полных кругов. Наконец, в очередной раз двигаясь к центру, он выпал едва живой от голода возле Фултон-стрит и сожрал дюжину датских сыров, после чего заблевал всю улицу, и его загребли за бродяжничество вкупе с нарушением общественного спокойствия.
Стенсил считал все это ерундой.
– Попробуй проделать такое в час пик, – подкачивал Слэб. – В этом городе девять миллионов йо-йо.
В один прекрасный день после пяти Стенсил принял вызов и выбрался из метро, сломав спицу зонтика и поклявшись больше никогда так не ездить. Вертикально стоящие трупы, пустые безжизненные глаза, стиснутые в кучу задницы, чресла, бедра. Никаких звуков, кроме рокота подземки и эха в туннелях. Общая жестокость (при попытках выйти): некоторые начинали готовиться за две остановки, но не могли пробиться и оставались внутри. И все это молча. Ну чем не Пляска Смерти в современном варианте?
Травма: вспомнив об испытанном в метро шоке, Стенсил отправился к Рэйчел, но обнаружил, что она ушла обедать с Профейном (с Профейном?), зато Паола, встречи с которой он пытался избежать, перехватила его, зажав между камином и репродукцией улицы с картины Кирико.
– Тебе следует это прочесть, – и протянула ему небольшую пачку отпечатанных на машинке листов.
Исповедь, гласило заглавие. Исповедь Фаусто Мейстраля.
– Я должна вернуться, – сказала Паола.
– Стенсилу нечего делать на Мальте. – Словно она просила его поехать.
– Прочти, – велела она, – И все поймешь.
– Его отец умер в Валлетте.
– И это все?
Что все? Неужели она и впрямь намерена поехать? О Господи. А он?
Раздался спасительный звонок телефона. Звонил Слэб, приглашал в уик-энд на вечеринку.
– Конечно, – сказала Паола. Конечно, повторил про себя Стенсил.
Глава одиннадцатая
Исповедь Фаусто Мейстраля
Как это ни печально, но для того, чтобы превратить любую комнату в исповедальню, достаточно стола и некоторого запаса письменных принадлежностей. Место само по себе не имеет никакого отношения к нашим деяниям или душевным переживаниям. Есть только комната, прямоугольник пространства, и сама по себе она не имеет ровным счетом никакого значения. Комната просто существует. Мы лишь случайно занимаем ее и обнаруживаем в ней метафору памяти.
Начну с описания моей комнаты. Ее размеры составляют 17 на 11, 5 на 7 футов. Оштукатуренные стены выкрашены той же серой краской, что и палубы корветов флота ее величества во время войны. Комната ориентирована таким образом, что ее диагонали располагаются по линиям ССВ/ЮЮЗ и СЗ/ЮВ. Поэтому из окна и с балкона, расположенных на северо-северо-западной (короткой) стороне, виден город Валлетта.
Вход в комнату с западо-юго-запада через дверь посередине длинной стены. Стоя в двери и поворачивая голову по часовой стрелке, вы увидите маленькую дровяную печку, стоящую в северо-северо-восточном углу, рядом с ней коробки, бочонки и мешки с провизией; далее матрас, лежащий вдоль длинной восточно-северо-восточной стены; в юго-восточном углу стоит мусорное ведро, а в юго-юго-западном – умывальник; окно, выходящее на судоремонтные доки; дверь, в которую вы вошли; и наконец, в северо-западном углу небольшой письменный стол и стул. Стул стоит напротив западо-юго-западной стены, поэтому, чтобы посмотреть прямо на город, надо повернуть голову на 135° назад. Стены ничем не украшены, ковра на полу нет. На потолке, прямо над печкой, темно-серое пятно.
Такая вот комната. Можно еще добавить, что матрас выклянчили в казарме холостых офицеров флота в Валлетте вскоре после войны, печка и провизия получены от ОАБО [213], а стол найден в разрушенном доме, от которого сейчас остались только присыпанные землей камни. Впрочем, какое это имеет отношение к комнате? Из фактов складывается история, а история есть только у людей. Факты вызывают эмоциональные отклики, которых в принципе не может быть у неодушевленной комнаты.
Комната находится в доме, в котором до войны было девять таких комнат. Теперь осталось только три. Сам дом стоит на насыпи возле судоремонтных доков. Под этой комнатой находятся еще две, а остальные две трети дома разрушены во время бомбежки зимой 1942 – 1943 годов.
Фаусто можно определить всего лишь тремя понятиями. Как родственника – твоего отца. Как имя, данное при рождении. А самое главное – как жильца. Как жильца этой комнаты, где он поселился вскоре после того, как ты уехала.
Ты спросишь: почему? Почему я использую описание комнаты в качестве предисловия к апологии? Потому что комната – хотя в ней холодно по ночам даже с занавешенным окном – это оранжерея. Потому что комната – это прошлое, хотя у нее и нет собственной истории. Потому что, как наличие постели или другой горизонтальной плоскости обеспечивает то, что мы называем любовью; как необходимо возвышение, дабы слово
Божье достигло паствы и зародилась религия, так для того, чтобы мы могли обратиться к прошлому, нужна комната, отделенная от настоящего.
В университете, еще до войны и до того, как я женился на твоей несчастной матери, мне, как и многим юношам, казалось, что ветер Величия трепещет у меня за плечами, как невидимая накидка. Маратт, Днубиетна и я должны были составить костяк великой Школы англо-мальтийской поэзии – поколение 37-го года. Эта студенческая уверенность в успехе порождает различные страхи, и прежде всего боязнь автобиографии или apologia pro vita sua [214], которую поэту предстоит однажды написать. Как, рассуждает поэт, как можно писать о своей жизни, если точно не знаешь, когда пробьет твой смертный час? Душераздирающий вопрос. Кто знает, какие подвиги Геракла в области поэзии он еще сможет совершить в годы между преждевременной апологией и смертью? Возможно, его достижения будут столь велики, что самооправдание окажется ненужным. А если, с другой стороны, ничего не удастся свершить за двадцать – тридцать лет прозябания, то каким отвратительным должен казаться такой исход молодым!
Время, разумеется, изобличило всю нелогичность такой постановки вопроса. Мы можем оправдать любую апологию, определив жизнь как последовательное отторжение различных ипостасей. Любая апология – не более чем романтическое повествование, наполовину выдумка, в которой сменяющие друг друга личины, последовательно принимаемые и отвергаемые писателем, описываются как разные персонажи. Сам процесс писания становится еще одним отторжением, еще одним «персонажем» прошлого. Тем самым мы действительно продаем свои души, расплачиваемся ими с историей частичными выплатами. Не такая уж большая цена за ясность видения, позволяющего разглядеть фикцию непрерывности, фикцию причинно-следственных связей, фикцию очеловеченной истории, творимой «разумом».
К 1938 году на сцене появляется Фаусто Мейстраль Первый. Юный властитель, нечто среднее между Кесарем и Богом. Маратт решил, что будет заниматься политикой, Днубиетна учился на инженера; меня прочили в священники. Таким образом, мы втроем воплощали основные устремления человечества, которые должны были стать предметом исследования для поколения 37-го года.
Мейстраль Второй возникает одновременно с твоим, детка, появлением на свет и с началом войны. Ты была нежданным ребенком и потому отвергнутым. Впрочем, если бы Фаусто I серьезно относился к своему призванию, то ни Елена Шемши, твоя мать, ни ты вообще никогда не появились бы в его жизни. Планы нашего Движения претерпели изменения. Мы продолжали писать, но теперь у нас были также и другие дела. На смену поэтическому «предназначению» пришло открытие более глубокого и древнего аристократизма. Мы стали строителями.
Фаусто Мейстраль III родился в День Тринадцати Налетов. Его рождению способствовали смерть Елены и зловещая встреча с тем, кого мы знаем лишь по прозвищу «Дурной Священник». Сейчас я пытаюсь запечатлеть эту встречу на английском языке. В дневниковых записях того времени вместо описания этой «родовой травмы» сплошная невнятица. Фаусто III в большей степени, чем всех остальных персонажей, можно охарактеризовать понятием «нечеловечность». Именно нечеловечность, а не «бесчеловечность», которая означает «зверство», – а звери как-никак живые существа. Нечеловечность Фаусто в основном позаимствовал от обломков, руин, разбитых стен, разрушенных церквей и гостиниц города.
Его преемник Фаусто IV, унаследовавший физически и духовно разрушенный мир, не был порожден каким-то одним событием. Просто Фаусто III достиг определенного уровня в своем медленном возвращении к сознанию и к человечности. Это развитие продолжается и сейчас. Каким-то образом возникали стихи (по крайней мере, одним циклом сонетов нынешний Фаусто доволен и по сей день), монографии о религии, языке, истории, критические эссе (о Хопкинсе, Т. С. Элиоте, о романе де Кирико «Гебдомерос» [215]). Фаусто IV остался «литератором» и единственным из поколения 37 года продолжающим писать, поскольку Днубиетна нынче строит дороги в Америке, а Маратт где-то к югу от Рувензори [216] организует восстания среди наших братьев по языку – народов банту.
Вот мы и подошли к периоду междуцарствия. Никакого движения; единственный трон – деревянный стул в северо-западном углу этой комнаты. Изолированность: разве тот, кто занят прошлым, слышит гудок судоремонтного завода, грохот клепальных молотов, шум машин на улице?
Плутовка память – она наводит глянец и все перекраивает по-своему. Слово, как это ни печально, лишено смысла, поскольку основывается на ложной посылке о том, что личность едина, а душа неизменна. Назвать любое свое воспоминание истиной так же невозможно, как нельзя сказать: «Маратт – университетский циник и сквернослов» или: «Днубиетна – либерал и сумасшедший».
Обрати внимание на это тире: мы, сами того не осознавая, вступили в прошлое. Сейчас, дорогая Паола, тебе придется выдержать поток студенческой сентиментальщины. Я имею в виду дневники Фаусто Первого и Второго. Как иначе нам воссоздать его, если на то пошло? Вот, к примеру, такой отрывок:
Как удивительна эта ярмарка св. Джайлза [217], что зовется историей! Ее движение ритмично и волнообразно – караван уродцев, чей путь лежит через тысячи холмов. Загипнотизированная извивающаяся змея, несущая на спине, словно микроскопических блох, всех этих горбунов, карликов, вундеркиндов, кентавров, телепатов. Двуглавые, трехглазые, безнадежно влюбленные сатиры, мохнатые, как волки-оборотни, оборотни с глазами юных девушек, а может, даже старик с аквариумом вместо живота, в котором среди кораллов кишок плавает золотая рыбка.
Запись датирована, как и следовало ожидать, 3-м сентября 1939 года [218]. Смешение метафор, нагромождение деталей, риторика ради риторики – и все лишь для того, чтобы сказать, что шарик улетел, и в очередной раз (разумеется, не последний) проиллюстрировать занятные чудачества истории.
Неужели мы действительно ощущали себя в гуще жизни? И жили в предчувствии великолепных приключений? «Бог здесь, в малиновых коврах весенней суллы и в рыжих рощах, в стручках сладчайших цератоний, которыми питался Святой Апостол Иоанн на этом острове прекрасном. Руками Господа ухожены долины; Его дыханье гонит прочь дожди; и глас Его направил Павла с благою вестью на нашу Мальту, когда его корабль потерпел крушенье». А Маратт писал:
С Британией мы вместе будем гнать
Врагов от берега отчизны милой.
Благой Господь поможет зло карать
И после Сам зажжет лампаду мира…
«Благой Господь» – теперь эта фраза вызывает улыбку. Шекспир. Шекспир и Т. С. Элиот погубили нас всех. Вот, к примеру, какую «пародию» на поэму Элиота написал Днубиетна в Пепельную Среду сорок второго года:
Ибо я,
Ибо я не надеюсь,
Ибо я не надеюсь остаться в живых[219],
Избежать беззаконья Дворца или с воздуха смерти.
Ибо я могу
Лишь одно,
И я продолжаю…
Больше всего у Элиота нам, пожалуй, нравились «Полые люди». И мы любили пользоваться елизаветинскими фразами даже в разговоре. У меня есть описание одного эпизода, прощальной пирушки, которую мы устроили накануне свадьбы Маратта в 1939 году. Все в сильном подпитии, мы спорили о политике в кафе на Королевской дороге, scusi [220] – тогда она называлась Страда-Реале. Итальянцы еще не начали бомбить остров. Днубиетна назвал нашу Конституцию «лицемерным прикрытием рабовладельческого государства». Маратт ему возразил. Днубиетна вскочил на стол, опрокинув стаканы, спихнув бутылку на пол, и закричал: «Изыди, caitiff! [221]» Эта фраза стала нашим излюбленным выражением: «изыди». Запись в дневнике, скорее всего, была сделана на следующее утро: даже мучаясь от головной боли и сухости во рту, Фаусто I тем не менее мог рассуждать о красивых девушках, джазовом оркестре, галантной беседе. Предвоенные годы, годы учебы в университете, как видно, и впрямь были счастливым временем, а их беседы – действительно «хороши». Они спорили обо всем на свете, а света – во всяком случае солнечного – тогда на Мальте было в избытке.
Однако Фаусто Первый был таким же незаконнорожденным, как и остальные. Во время бомбежек сорок второго года его наследник сподобился на такой комментарий:
Сейчас наши поэты не пишут пи о чем, кроме бомб, которые градом валятся на нас с неба, считавшегося раньше местонахождением рая. Мы же, Строители, как и полагается, исповедуем терпение и силу, но в то же время отчаянно-нервическую ненависть к этой войне, нетерпеливое ожидание ее конца. Вот оно – проклятие английского языка с его способностью выражать все нюансы и оттенки чувств.
Обучение з английской школе и в университете, на мой взгляд, стало своего рода примесью, которая испортила ту чистоту, что в нас была. Раньше мы говорили о любви, страхе, материнстве, говорили на мальтийском языке, на котором мы теперь разговариваем с Еленой. Что за язык! Развился ли он хоть сколько-нибудь – равно как и сами
Строители – с тех времен, когда первобытные жители острова строили святилище Хагиар Ким [222]? Мы говорим на языке, каким могли бы пользоваться животные.
Можно ли на мальтийском объяснить, что такое «любовь»? Как втолковать Елене, что моя любовь к ней сродни моей любви к расчетам зенитных пушек «бофорс», к пилотам истребителей «спитфайр», к нашему Губернатору? Что эта любовь распространяется на весь этот остров, на все, что здесь движется. В мальтийском нет слов, чтобы описать все это. В нем нет слов для передачи полутонов, нет слов для обозначения состояний души и интеллекта. Елена не может читать мои стихи, а я не в состоянии перевести их для нее.
Значит, мы все еще животные. Вроде тех троглодитов, которые обитали здесь за 400 столетий до рождения Христа. И живем, как они, в недрах земли. Спариваемся, плодимся, умираем, издавая лишь самые простые слова. Разве кто-нибудь из нас понимает слово Божье, учение Церкви Его? Возможно, Мейстралю, как мальтийцу, частице своего народа, предначертано жить лишь на подступах к сознанию, вести существование почти неодушевленного тела, робота.
Нас, наше великое поколение 37-го года, терзают сомнения. Должны ли мы просто оставаться мальтийцами – и терпеть страдания, почти не задумываясь, не ощущая течения времени? Или продолжать – постоянно – думать по-английски, чутко реагировать на войну, время, на все полутона и оттенки любви?
Быть может, британский колониализм породил некое новое существо, раздвоенного человека, устремленного одновременно к двум противоположным крайностям: к покою и простоте, с одной стороны, и к выморочным интеллектуальным исканиям – с другой. Возможно, Маратт, Днубиетна и Мейстраль – первые представители новой расы. Какие же монстры придут нам на смену?
Эти мысли возникают в темных закоулках моего ума – mohh, мозга. В мальтийском нет даже слова «ум». Приходится пользоваться треклятым итальянским menti.
Какие монстры? А ты, дитя мое, какое же ты чудовище? Во всяком случае, не то, что имел в виду Фаусто: он, скорее, говорил о духовных наследниках. Возможно, о Фаусто Третьем и Четвертом, et seq [223]. Впрочем, этот отрывок ясно показывает очаровательное свойство юности: юноша начинает с оптимизма, а затем, когда неизменно враждебный мир зарождает в нем сомнение в состоятельности оптимизма, находит прибежище в абстракциях. Даже во время бомбежек. В течение полутора лет на Мальту обрушивалось в среднем по десять налетов в день. Одному Богу известно, каким образом ему удавалось оставаться в этом герметичном убежище. В дневнике об этом нет ни слова. По-видимому, причина опять-таки крылась в англизированной половине Фаусто II – ибо он писал стихи. В дневнике мы находим резкие переходы от непосредственной реальности к абстрактным далям:
Пишу это во время ночного налета, в заброшенном канализационном коллекторе. Снаружи идет дождь. Мрак рассеивают лишь фосфорические сполохи в небе над городом, несколько свечей, взрывы бомб. Елена сидит рядом со мной и держит на руках ребенка, который спит, пуская слюни, приникнув головой к ее плечу. Вокруг нас сгрудившись сидят мальтийцы, англичане в штатском, несколько торговцев-индусов. Все по большей части молчат. Дети, широко раскрыв глаза, прислушиваются к разрывам бомб. Для них это очередное развлечение. Поначалу они плакали, когда их будили посреди ночи. Теперь уже привыкли. Некоторые даже стоят у входа в наше убежище и смотрят на отсветы пламени и взрывы, о чем-то болтают, подталкивая друг друга локтем и показывая на что-то пальцем. Странное вырастет поколение. А что будет с нашей дочкой? Она засыпает.
И затем, без всякой видимой причины, неожиданный переход:
О, Мальта рыцарей Святого Иоанна! Змея истории для всех едина, и не так уж важно, в каком месте на ее спине мы находимся. В этой смрадной дыре мы и рыцари и гяуры; мы – Лиль-Адан и его десница в рукаве, отороченном горностаем, и его манипула на сине-морском и злато-солнечном поле, мы – месье Паризо, одиноко лежащий в открытой всем ветрам гробнице, высоко вознесенной над гаванью, и сражающийся на крепостном валу во время Великой Осады [224], – и тот и другой! Мой Великий Магистр – и то и другое: жизнь и смерть, горностай и лохмотья, аристократ и простолюдин, на пиру, на поле брани и на похоронах мы – это Мальта, одновременно единая, чистая раса и смешенье кровей; лишь недавно мы жили в пещерах, рыбин ловили у речных берегов, камышами заросших, мертвецов хоронили, ублажая их пением и красной охрой, возводили дольмены, святилища и менгиры, ставили камни во славу какого-то бога или божков, устремлялись к сиянию света в andantiльющейся песни [225], и жизнь проживали в кружении веков, полных насилия, грабежей и вторжений, оставаясь едины: кто в глубоких оврагах, кто на Богом спасенном участке тучной средиземноморской земли, кто в храме, кто в сточной канаве или во тьме катакомб – мы остаемся едины, ибо такова наша судьба, или извивы истории, или есть на то воля Божья.
Должно быть, он написал этот кусок уже дома, после налета, тем не менее «резкий переход» налицо. Фаусто II был юношей, погруженным в собственный мир. Это проявлялось не только в его склонности к умозрительным построениям – даже во время затяжного, обширного и в то же время унылого разрушения острова, но и в его отношениях с твоей матерью.
Впервые Елена Шемши упоминается Фаусто Первым вскоре после женитьбы Маратта. Возможно, благодаря тому, что была пробита первая брешь в холостяцком единстве поколения 37 года, которое отнюдь не предполагало поголовного обета безбрачия, Фаусто чувствовал, что теперь вполне может последовать примеру своего товарища. И в то же время продолжал уклончиво и нерешительно двигаться в направлении церковного целибата.
О, конечно же, он был «влюблен». Несомненно. Однако его собственные взгляды на этот счет постоянно менялись, но никогда не совпадали с мальтийскими воззрениями на «любовь» как на санкционированное Церковью совокупление исключительно с целью деторождения и для прославления материнства. Мы, например, уже знаем, как в тяжелейшие дни Осады 1940 – 1943 годов Фаусто пришел к пониманию и претворению в жизнь любви столь же широкой, высокой и глубокой, как сама Мальта.
Закончилась холодная пора, мистраль дуть перестал. Скоро другой ветер – грегейл [226] – принесет теплые дожди, знаменуя начало сева нашей красной пшеницы.
А разве сам я не подобен ветру, ведь даже мое имя созвучно шелесту пьянящего зефира в кронах церато-ний? Я пребываю в междуцарствии двух этих ветров, и воля моя не сильнее легкого дуновенья. Но если на то пошло, то умные, циничные аргументы Днубиетны тоже всего лишь сотрясение воздуха. Его высказывания о браке – даже о женитьбе Маратта – не достигают моих несчастных ушей.