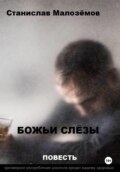Станислав Борисович Малозёмов
Вести с полей
– С праздником вас, любимые наши и дорогие! – дал команду мужикам Чалый Серёга. После чего все достали из карманов хлопушки и трубочки. – Залпом! Из всех орудий! Пли!!!
Раздался грохот, щелчки, хлопки, взрывы средней силы и актовый зал за пару секунд превратился в ад. А до этой минуты все поголовно были убеждены, что нет ни рая, ни ада. Но, оказывается, до фейерверка был натуральный рай, а после него – зловонный, огнедышащий потусторонний ад. Ну, то, что всех женщин засыпало разноцветными конфетти, которые проникли повсюду: в причёски, в декольте, за шиворот красивых платьев и даже в открытые от резкого удивления рты – это была просто милая шалость. А вот фейерверки, работающие от дымного пороха, загрузили актовый зал едким вонючим дымом так плотно, что не кашляли только Маркс, Энгельс, Ленин и лично Леонид Ильич, висевшие в виде портретов в рамках на стенах. Мало того, огонь, извергающийся из трубочек как из преисподней, улетал далеко и высоко. Разноцветные горячие шипящие искры отскакивали от потолка, стен и в свободном полёте поражали всех, кто не успел упасть на пол или спрятаться под стол.
– Шторы горят! – дико закричал директор Данилкин и бросился к одному окну, сорвал шелковую штору и начал топтать её ногами. Валечка Савостьянов пробежал бегом мимо оставшихся пяти окон и тоже сдёрнул шторы. Они пылали так, будто их предварительно окропили бензином. Но хуже было то, что шарики от фейерверка не собирались лопаться, а летали как жар- птицы, натыкаясь на зазевавшихся, неважно реагирующих после выпитого празднующих. Десятерым дамам они прожгли вечерние платья, сделанные из тканей, загорающихся быстро и ярко. Мужики шлёпали всех женщин без разбора по тем местам, где горело. А горело и на грудях, и на задницах, на нежных спинах тоже. В эти минуты праздненство стало слегка напоминать и Содом, и Гоморру, что, впрочем, не смущало никого. Потому, что не до того было. Потом дамы тем же способом тушили первых попавшихся мужиков, на которых тоже огонь дырявил костюмы на неинтересных и интересных местах.
Самым печальным фактом стало исчезновение трёх больших скатертей, которые сгорели дотла, оставив всё, что ели и пили, на голых досках столов.
– Бляха! – изумился Данилкин Григорий Ильич, директор. – Это из чего же их сделали? Как они успели за пять минут испариться? Завхоз! Ты что купил, бляха!?
– Скатерть белая, нетканая ткань. Артикул триста два дробь семь. Цена шесть шестьдесят за штуку. – Доложил Прилепко, завхоз.
Когда выполз в распахнутые окна и продолжал вонять на улице пороховой дым, все сразу увидели друг друга. А ещё – большие прожженные дырья на лицах основоположников социализма и Генерального секретаря партии. А кроме того – закопченные физиономии свои и дырявую одежду. Всё это в другой день могло навернуть слезу на глаза присутствующих, но в этот вечер все были так хорошо облагорожены шампанским, водкой, коньяком и самогоном, таящимся под столами, что народу стало весело. На улице было градусов десять мороза всего, поэтому окна закрывать не спешили. Завхоз быстренько принес три таких же скатерти, женщины снова сделали красивый стол, заиграли гармошки, баяны. А аккордеонист Генка Михалёв от пережитого поимел стресс, поскольку укрывал от огня летучего аккордеон телом своим. Вот так, не отрываясь от инструмента, он и уснул в углу, поскольку и перебрал водки, и меха тягал отчаянно. Потому и притомился.
– Нормально гуляем? – во всю мощь связок голосовых спросил у всех Олежка Николаев. – А, народ?
– Спасибо вам, мальчики! – сказала за всех жена Данилкина Софья Максимовна. – Вы сделали вечер просто незабываемым!
– Спа-си-бо! Спа-си-бо! – вскричал хор женщин на три голоса. Как песню спели дамы благодарственные слова
И понёсся праздник дальше. Полетел как орёл над степью. Мощно, уверенно, красиво. Пели, пили, танцевали, закусывали и отдыхали. Окна, правда, пришлось закрыть. Потным простыть – раз плюнуть. Так прошло ещё часа два.
В сплошном удовольствии от всего запланированного и нечаянного, неожиданного.
А в одиннадцать часов вечера, в самом начале двенадцатого полоснули по окнам острые лучи мощных фар и у порога конторы скрипнули тормоза. Хлопнула дверца и через минуту в дверях появился огромный, нет – очень огромный, занявший полностью весь проем дверной, букет розовых, алых и кроваво-красных гвоздик. Букет вышел на середину зала и незнакомым для многих голосом попросил всех прекрасных дам встать в одну линию слева направо. От неожиданности и думать было некогда. Линейка выстроилась за минуту, смеясь и пощёлкивая пальцами. И вот когда к ногам каждой из милых дам упали по пять-семь гвоздик, тут и обнаружилась личность разносчика прелестных цветов, редких и дорогих. Личностью оказался Игорь Сергеевич Алипов, главный агроном «Альбатроса», возлюбленный Валентины Мостовой. Кирюхиной жены. Они трое уже давненько, до морозов ещё, разрешили все свои любовные и семейные проблемы. Выяснили, что Игорь и Валентина жить друг без друга не в силах, что жизнь её с Кириллом в последние годы – чистая формальность, а сам Кирюха съездил к Алипову на разборку, во время которой и порешили, что любовь сильнее всех преград, а потому Кирилл добровольно уступает ему жену и желает им счастья. Которого сам он и Валентина в семье своей не имели.
– Собирайся, Валя!– сказал Алипов Игорь и распахнул руки с последним букетом из одиннадцати гвоздик. – Я приехал за тобой. Это и есть мой тебе обещанный подарок в женский день!
Валентина выбежала к нему, обняла, поцеловала и под бурные аплодисменты приняла букет. Все про них всё знали от неё и от Кирилла. И были удивленно рады тому, как любовь побеждает даже инстинкт собственника. Потому что Кирилл Мостовой тоже подошел к ним, пожал Игорю Сергеевичу руку, поцеловал жену в щеку, обнял их обоих и сказал от души:
– Хочу, чтобы с тобой, Игорь, ей, наконец, стало счастливо жить. Она всегда хотела радости и счастья семейного. Я тоже. Но судьба, оказывается, назначила нас друг другу для пытки душевной и боли сердечной. Желаю вам счастья!
После этих слов многие дамы всплакнули с радостными лицами, а мужики закурили все и подощли к Алипову. Руку пожали, по плечам похлопали. Одобрили. Заиграли баянисты, все хором запели «Парней так много холостых, а я люблю женатого». Пели и шли на улицу. К «Москвичу» желтому Алиповскому.
Проводили Валентину из совхоза своего.
– Я Кирилл, домой заеду, вещи там сложены уже. Ключ под крыльцо кину.
– Не обижай её! – как положено напутствовал пьяный Мостовой Игоря Сергеевича.
– Не переживай, Кирюха. В гости приезжай.
Алипов тоже сел в машину и «Москвич», покачиваясь на хрупком мартовском насте показал задние габаритные огни цвета красных гвоздик и скрылся за углом.
– Чего, Кирюха, с горя пойдем пить или с радости? – взял Мостового за руку Чалый Серёга.
– А это как карта ляжет, – засмеялся Кирюха. На лице его было крупными буквами написано, что вот как раз сейчас с души его и горба скатываются тяжелые камни. Валуны. А с плеч – так, может, и целая гора.
И уже в полночь началась последняя, ударная часть не репетированного, но хорошо сыгранного спектакля по пьесе двух заграничных дам из далекого прошлого под названием «Международный день борьбы женщин за свои права» или в переводе на современный – «Женский день восьмого марта».
***
Так-то, в общем, ничего сверхъестественного не стряслось. Водки полно было. Пара ящиков. Шампанского тоже закупили года на два вперёд. Мало ли какие непредвиденные торжества вынырнут. Вон, в позапрошлом году комиссия приезжала из главного областного управления. А в ней, блин, две женщины! Ну, вот ведь не было их сроду в таких карающих десантных группах. Пришлось поить водкой. А после неё эти тётки городские два дня трупами лежали в гостинице и проверкой насладиться не смогли по техническим причинам. В Управлении, наверное, решили, что Данилкин нейтрализовал тёток специально, с неправедным умыслом. Ибо дамы были экономистами очень высокого ранга и полёта. Но обошлось. Оставшиеся на ходу четыре мужика рылись час целый в бумагах, запивая изнурительный труд «Столичной» и ничего плохого, кроме хорошего, в бумагах не нашли. Ну, давно это было. Забылось всё уже.
Но спиртное хорошее с того дня стали брать с большим запасом. Оно ж не портится. Ну, и пусть лежит до востребования.
Сегодняшнее торжество всем понравилось. Поели нормально, а попили так вообще замечательно. Подарки дамам по вкусу пришлись. Редкостной красоты и тончайшей работы сервизы фарфоровые как родные подошли к таким же тонким и нежным душам дамским. А пляски, песни, танцы и забавные приключенческие эпизоды по ходу праздника только добавили торжеству остроты и практически городского лоска. Очень нескучный получился праздник, которому, кстати, никто из участников не видел и не желал окончания. Всего хватило бы не просто до утра, а дня на три минимально. И, что самое интересное, из пяти музыкантов выпал всего аккордеонист Генка Михалёв. Настоящие музыканты на праздниках больших всегда становятся самым слабым звеном, поскольку для усиления творческого тонуса допингуют бесконтрольно и безбожно. Выпивают за троих простых людей, не музыкантов, поскольку у них, нетворческих, сила уходит только в челюсти для пережевывания пищи и в ноги, чтоб плясалось. А музыкантам для виртуозного и точного движения пальцев требуется энергия тройная. И она заложена именно в водку. Доказано опытом и какой-то наукой.
В общем, и после полуночи всё гладко шло бы до первых, вторых и самых сонных, третьих петухов. Баянисты переваливались с песни на танец, с танца на
какой-нибудь советский марш, во время которого все успевали выпить, неторопливо, с чувством закусить, поболтать с соседями и быть готовыми к следующему музыкальному номеру.
Вот так бы культурно и шло торжество. Так и гарцевал бы радостный народ в честь милых сердцу и бесценных прелестниц – женщин! Но по неписанному закону большого праздника – дня рождения уважаемого человека, скажем, или свадьбы долгожданной. Или во славу Великого всенародного дня седьмого ноября, когда народ до полусмерти упивался, привычно радуясь случившейся в семнадцатом году революции. Или вот восьмого марта, как сегодня. В эти праздненства срабатывал «закон справедливой пьяной драки». И если таковой не случалось, статус праздника автоматически угнетался и терял высший класс. Драка пьяная, она есть вечный и верный индикатор полноты насыщения народа торжеством. Едой, спиртным, разговорами, песнями и радостью присутствия среди равных по уму и силе духа граждан. Восьмое марта в совхозе имени Корчагина, хвала социализму, не стало унизительным исключением из правил пьяной оравы и нарушением диалектического «закона единства и борьбы противоположностей».
А пошло дело так, что под обворожительное танго, исполняемое тремя баянами, двумя гармошками и гитарой, выкатился из курящей толпы мужичков совсем косой Мишка Закревский. Он с реверансами да витиеватым подходом подплыл к любовнице своей, шалаве совхозной и попутно – жене Олежки Николаева Ольге, схватил её нежно за ручку тонкую и выволок в круг, где вертелись в ритме пар шесть-семь. Поскольку жена Олежкина была на самую малую малость менее косая, чем партнёр, то она довольно элегантно повисла на нём, а он воткнулся всем лицом в её блестящие душистые волосы и оба они слились с музыкой и друг с другом. Николаев Олег, конечно, на пару минут застыл в оцепенении от ослепительной наглости Мишкиной и бесстыдства супруги.
Но потом вышел из транса и, перепрыгнув через стол, метнулся в стройный хоровод, изображающий танец танго. Он, отбрасывая плечами ничего не понявшие пары, достиг нахала и ударил его по кудрявой голове. Но, поскольку драться не умел вообще, то кулачок его лишь слегка прошелся по кудрям Зацепина. Мишка отпустил даму и врезал Олежке Николаеву поддых, после чего Николаев из заступника за свою честь превратился в мешок, который хоть руками молоти, хоть на пол брось. Мишка, похоже, намерился сделать и то, и другое, но не успел. Он увидел, как сквозь толпу мужиков к нему энергично пробивается Валечка Савостьянов. Этот факт вынудил его бросить даму, самого Олежку тоже и начать круговые забеги вокруг примерно двадцати мужчин, чтобы запутать Валю Савостьянова, а потом выскочить в открытую дверь и дать дёру на улицу.
Но Валечка Савостьянов, кандидат в мастера спорта СССР по боксу в полутяжелом весе на суету Мишкину внимания не обращал, а точно просчитал траекторию его метаний и секунд через десять ненадолго оказался точно напротив Зацепина.
– Валёк, мля! – только начал было объясняться Мишка, но мгновенно плашмя рухнул на дощатый пол. Чего пытался сказать – никто так и не догадался. Классический апперкот в исполнении Вали Савостьянова лишил его дара речи и сознания не меньше, чем на пять минут.
– Олежку на стул посадите. Воды дайте, – крикнул мужикам Чалый Серёга. – И Мишаню оденьте, обуйте, туфли на валенки поменяйте. Всё в фойе находится. В гардеробе. И на улицу его. Чтобы дышать начал. Двое кто-нибудь до дома его проводите.
– Всё, дамы и товарищи! – вежливо и громко оповестил зал Артемьев Игорёк. – Кино кончилось. Кина больше не будет. Всем спасибо за прекрасный вечер. Который вот как раз закончился. Ура! Спасибо всем! Женщин от всех нас ещё раз поздравляю и желаю сам знаете сколько хорошего!
– Завтра с утра опохмел и беседы на приятные темы у меня, одинокого странника в этой удивительной жизни. Приходить со своим самогоном и закусем не запрещается! Жду с нетерпением, – очень убедительно крикнул Кирюха Мостовой, уже три часа как холостяк.
– А девушек прошу всех на чай душистый и добрые сплетни ко мне. Я одна буду. Гриша в контору уйдет. И мы отведем души наши нежные женские за беседами на темы горячие, – мягко прошелестела Софья Максимовна. – Жду к обеду. Отоспитесь, детей в детсад да в школу спровадьте. А я пока пампушек ваших любимых напеку.
Мишку одели и обули прямо на полу. Сам он пока двигался тяжело, неловко и без координации движений. Потом подняли, закинули его руки на плечи двум сильным ребятам и они, можно сказать, ушли.
– Ну, так и мы все пошли, – подал команду Данилкин. – Завтра опохмелимся у Мостового до обеда. А в обед милиция приедет. Следователи. Убийства будут раскрывать. А девочки из столовой утром в зале уберут всё.
И народ стал расходиться. И удивительным было то, что ни на одном лице не мелькнуло ни тени печали. Радостными и светлыми были лица женщин, которых так прекрасно поздравили. Мужики тоже шли довольные. Хорошее мероприятие провернули. Красивое! Не стыдно перед прекрасной половиной.
То есть, праздничное у народа было настроение. Хотя шел уже четвёртый час ночи. Девятое шло число марта. Простой будень.
И в серый, обыкновенный, как все предыдущие, день, который уже намекал тускнеющими звёздами о своём прибытии, ни желания больше ни у кого не было веселиться…
Ни смысла.
Глава двенадцатая
***
Все имена, фамилии действующих лиц и названия населённых пунктов кроме города Кустаная изменены автором по этическим соображениям.
***
Утром после любого серьёзного праздника никто из активно отмечавших никогда не поминает его добром. Только лихом. Так как болит всё. Даже ближний к кровати воздух болезненным тухлым пространством висит надо ртом отгулявшего. Корёжится воздух, мутит и окружает он жертву удавшейся гулянки гадким запахом изуродованных водкой и самогоном ароматов колбасы, сыра, селёдки, солёных помидоров и конфет «Грильяж в шоколаде». И внутренне готов ещё ночью весёлый и полнокровно живущий крепкий мужик принять с утра любую смерть лютую от яда беспощадного.
Только бы не истязать организм подлым и душащим похмельем. Но нет в доме яда. Даже крысиного, который сволочи крысы сожрали сами, не думая, естественно, о высшем творении божьем – перепившем раза в три больше лишнего человеке.
Так лежал, угрюмо ожидая предсмертных судорог Кравчук Толян, у которого кроме собаки не было родни. Но собака Нюрка не знала, где заныкан у хозяина самогон на похмелье. Да и в стакан бы не налила, даже если б знала. Не привил Толян вовремя ей этого навыка. Легче было выйти из праздничного ада живым Валечке Савостьянову, Серёге Чалому, Лёхе Иванову, кочегару, Данилкину, директору. Это были добротно женатые ребята, любимые своими женщинами на любой стадии постоянного балансирования между трезвой жизнью и угаром пьяным. Им с утра пораньше наливали сто пятьдесят и дополняли это счастье куском солёного сала. И восставал человек буквально из ничего. И розовел лик его, и возрождался блеск в глазах, означающий тягу к жизни и любовь к жёнам.
Далее он уже лично потреблял ещё сто пятьдесят. Но уже бодро, без занюхивания салом. И шел жить дальше. Кто куда. Потому, что конкретные дела ещё невозможно было осилить. Следовательно, вел их инстинкт к себе подобным, чтобы благородно спасти одиноких друзей, разбазаривших жён или никогда их не имевших.
Первым к Толяну Кравчуку, который уже готов был повеситься, но просто слезть с кровати не смог, прибежал Артемьев Игорёк, который ночевал у Чалого. Ирина, любимая женщина Серёгина, в семь утра их растолкала и каждому сунула в ладони с онемевшими пальцами по полному стакану самогона. Мужики, давясь, неравномерными глотками приняли дозу, пережили резкую встряску организмов, исказивших серые помятые лица и минут через десять вписались обратно. В хорошую свою жизнь. Серёга Чалый снова стал жену и дочку поздравлять с прошедшим днём восьмого марта, подарки, наконец, рассмотрел, которые покупал в лихорадочном состоянии и толком даже не запомнил, чего накупил.
– Сергунец! – Артемьев Игорек обратился к Чалому после того, как тоже повторно поздравил Ирину и Ленку, дочку их. – Пузырь давай. Пойду Кравчука восстанавливать. А ты к Мостовому сходи. Он тоже один теперь. Не доберётся сам до бутылки. Инфаркт может поймать. А нам всем у него собираться в десять.
Чалый достал из шкафа поллитровку и Игорёк побежал к Толяну Кравчуку. Главное, вовремя побежал. Кравчук лежал на боку и его рвало частично на край кровати, а в основном на пол.
– Сейчас, Толик, сей секунд! – Игорёк зубами выхватил бумажную затычку из горла, хватанул первый попавшийся стакан и набрал во фляге кружку воды. -
Давай! Ну, давай! Дыхание задержи сперва.
– Мля! Игорёк! – поприветствовал товарища Кравчук. – Посади меня. К стене прислони.
Артемьев Игорёк поставил всё на пол и с трудом выполнил указание. Кравчук был вдвое тяжелее вообще, а в полумёртвом состоянии весил ещё больше. Так казалось.
Толян ткнулся спиной в ковер на стене и протянул негнущиеся руки. Принял стакан и кружку с водой. Долго прицеливался стаканом в рот и с трудом не промахнулся. Он выпил самогон, содрогаясь в конвульсиях, залил его водой и глаза его на мгновенье выкатились из глазниц, а лицо за то же самое мгновение поменяло три выражения: ужас, смирение и благостный покой.
– Ещё раз, – прохрипел он, подавляя тошноту. – Ещё стакан.
Второй заход прошел глаже. Без конвульсий и гусиной кожи на руках. Кравчук Толян с удивлением поглядывал на болотце собственной рвоты. Глаза, значит, ожили. И уже сделал две неудачных попытки сползти с кровати. Третья, как в сказке, удалась. Почему-то все дела удачно делаются именно с третьего захода. Он поднялся наконец, взял тряпку, намочил под рукомойником и вытер возле кровати.
– Постель потом постираю. – грустно посмотрел на грязный кусок одеяла и часть простыни Толян. – Пошли к Кирюхе.
Выпили ещё по половине стакана и пошли. Народу в трехкомнатной половине дома было уже много. И Данилкин пришел. Да, похоже, давно уже. Валечка Савостьянов с Лёхой Ивановым и Олежкой стол накрыли королевский. Похожий на вчерашний праздничный, но поменьше. Осталось-то много чего.
Пили всё-таки интенсивнее, чем ели. Торт, правда, из конторы брать не стали. Не мужицкая еда это. Но сала с колбасой ещё на полный вчерашний праздник хватило бы.
Ну, и пошло дело. Повеселели все. Ожили. Повспоминали мельком вчерашний вечер, Костомарова поругали вполнакала и даже решили его от пут освободить да приблизить к массам.
– Поди-ка, Игорёха, распеленай охальника, – попросил директор Данилкин Артемьева. – Нехай идёт сюда похмеляться. А то после обеда следователи приедут. С ним беседовать будут. Холода прошли, теперь можно и жену его без проблем искать. Хотят про его последние пару месяцев семейной их жизни получше узнать. Может так повернуться, что под видом покупки шубы уехала она насовсем к любовнику в Кустанай. Или вообще под Калугу от него смылась. В Жуков свой. Жили-то они, сам же я в конторе видел, в злобе какой-то друг к другу. Что стряслось? Почему? Молчали оба. Ну, беги, ладно.
И Артемьев обул валенки, но одеваться не стал и в свитере побежал к Костомарову.
А мужики тем временем перешли с воспоминаний о вчерашнем вечере к глобальным темам. Долго мыли кости Америке за войну с Вьетнамом.
– Вот если бы северные вьетнамцы и в этом году врезали америкашкам так же, как в мае шестьдесят восьмого, то был бы им капут. Представляете, маленький Вьетнамчик надрал задницу великой Америке. Это ж сенсация. Тогда бы Америку и бояться бы никто не стал, – предположил Лёха Иванов, кузнец.
– Да ты думаешь их вьетнамцы так ловко лупили весь пошлый год? – улыбался Чалый Серёга ленивой ухмылкой осведомленного человека. – Там знаешь, сколько наших сейчас Вьетнаму помогает?! Дивизий пять, не меньше. Плюс самолёты. Вьетнам северный – это ж друзья наши. Тоже к социализму идут. Надо поддерживать. Думаю, что в шестьдесят девятом зафуфырят они Америку, надают по мозгам.
Никто, конечно, не знал, что длиться той войне ещё почти семь лет. И народу поляжет там туча целая, десятки тысяч. Поэтому перекидывались на другие международные темы. Так как серьёзные мужики просто обязаны владеть тремя темами бесед солидных: на международные темы, про баб и о работе.
Кстати, было о чём поговорить и какие прогнозы построить. Тут в самой Америке шум стоял – весь мир взбудоражился.
– Это ж как же они не врубаются, что чёрные люди – тоже люди!? – волновался Кирюха Мостовой. – Чего они чернокожим житья не дают, в правах ущемляют?! Вот они и психуют. Жгут там всё. Втихаря белых убивают. Надо негров в СССР всех перевезти и порядок будет в жизни их. У нас-то интернационал. Дружба народов. Да и жить есть где. Сибирь вон пустая стоит.
– А целина? – воскликнул Валечка Савостьянов.– Рук вечно не хватает. Солдат
гонят хлеб возить. Да и на посевную тоже. Армию нашу оголяют. Хоть она, конечно, и непобедимая и так. Но всё равно, напрасно. Чернокожих вон сколько в безработице мучаются в этих США, блин!
– Да чего вы прилипли к Америке-то? Свет клином сошелся на ней? – совсем посвежел Кравчук Толян. Отошел. – Во Франции буза прошлогодняя закончилась? Добились студенты к себе человеческого отношения? Хрен там. И в этом году, подождите, по новой начнется. Демократии все хотят. А есть она только у нас. Но мы ж всех к себе не перевезём. Они ж желают на родине лбом биться об ихних бюрократов и буржуев.
– Да и чехи с прошлого года, после Пражской весны вряд ли успокоятся, – сказал уверенно Олежка Николаев. – Многим наша помощь ихней стране не нравится. А ведь видят, идиоты, как мы тут прекрасно живем. Свобода. Независимость. Мир. Дружба. Всё есть, что надо. Но нет, им наш пример – не пример. Тьфу.
Выпили. Закусили. Помолчали. Обдумывали каждый по-своему. Дело-то важное. Мир во всём мире. А вот, казалось бы, всем понятно это. Весь мир этого хочет. А получилось-то только в СССР.
– Я бы лично поехал помочь нашим хоть во Вьетнам, хоть в Чехословакию, – задумчиво сказал Чалый Серёга. – Только не отпустят же. Здесь дел невпроворот. Счастье себе строить – тоже не мёд глотать ложками. Много задач надо решить ещё.
Верно сказал. Все закивали головами, выпили, закурили и думать начали уже о своей Родине. Как ни жалей заграничных друзей, а Родина зовёт. Силы и душу каждого вложить просит. Ради счастья советского и процветания, ведущего к коммунизму.
Пока думали пришли Игорёк с Костомаровым. Налили им по полной и выпили они.
– Чего бузил-то вчера, а, Сергей?– ущипнул Костомарова за бок Валентин Савостьянов. – Ладно, похмелись хорошенько. Потом расскажешь. Видно, любишь Нинку свою запредельно, раз тебе крышу напрочь снесло.
– Люблю, конечно, – Костомаров выпил. Съел сало. – Любил, точнее.
– Чего это – любил? Уже не любишь? – засмеялся Игорёк Артемьев.
– А где она, чтоб любить её? – насупился Костомаров. – Сбежала от меня, сучка. Денег взяла до отвала и слиняла. Ругались мы последние месяцы. Вот и сбежала.
– А чего вам делить? Чего не жилось? – Олежка Николаев говорил и сало жевал. Потому, что пустой разговор. Никчёмный. – Всё у вас есть. Работа хорошая. А тебя вообще вон – прямой наводкой в агрономы заколачивает Ильич после смерти Петьки Стаценко.
– После смерти, да…– повторил Костомаров и сам себе налил стакан. Выпил двумя глотками. – Сейчас вот следователи приедут, да, глядишь, Нинку мою найдут. Тогда и легче станет. Пойду агрономом. А не найдут – уеду в Калугу.
Так сидели мужики до половины третьего. Мыслили. Обсуждали проблемы мировые и свои. То есть с пользой провели время. И для себя, и для страны. И не только нашей. Вот это и есть – самое дорогое в мужских посиделках. Думать не только о себе. Даже не только о Родине любимой. Но и о мире во всём Мире. Это только советским людям такое дано – мечтать о счастье всех людей на Земле. Вот в чем и радость наша, и сила благородная.
***
Девятого утром директор Данилкин , гонимый сугубо мужским рефлексом послепраздничным, поцеловал супругу Софью Максимовну в розовую нежную щёчку с девичьей ямочкой и ушел похмеляться к Мостовому Кириллу, куда сползалась вся полуживая компания весёлых и подвижных вчера до поздней ночи мужиков.
Кроме Костомарова Сергея. Его тоже приволокли из дома на опохмелку, но весёлым он вчера не был и ничего не праздновал. Его история резких и нехороших перемен в ровнотекущей до поры жизни – отдельная. Вот отдельно её и расскажу чуть позже.
Потому как сейчас – самое время посидеть в женском коллективе, обласканном и ублаженном вниманием, подарками и праздничным столом вчера. Восьмого марта. А всех женщин позвала к себе на утренник с настоями витаминных трав и лично испечёнными плюшками девятого числа, часов с одиннадцати, жена Григория Ильича, директора, Софья Максимовна. Ослушаться её никто не мог, если бы даже и захотел. Такая глупая неосторожность легко могла превратить жизнь любой представительницы прекрасной половины совхоза имени Корчагина в гору проблем. О самой пятидесятишестилетней тёте Соне никто не знал вообще ничего, кроме того, что она сама демонстрировала и сама о себе рассказывала, когда желала.
Поскольку именно она, как Чалый среди мужиков, была абсолютным лидером и авторитетом у женщин, есть смысл коротко рассказать о ней отдельно. Ведь это редкость большая, чтобы из прошлой жизни человека десятками лет никому из окружающих не было известно даже об одном единственном дне далёком. А начала она жить при советской власти уже взрослой. Фактически только с сорок пятого года закрепилась в Тернополе власть большевистская. То есть воспитана она была далеко не по-советски. Польша сделала ей и характер, и правила жизни, и одарила жесткими амбициями, горделивостью непомерной и умом хитрым. И с этими данными ей довольно просто было пристроиться и к польской власти, и к фашистской, а потом и к советской. Как ей это удавалось – странно. В душе советским человеком она так и не стала, но жила как все, только социализм не строила. Дома сидела и на улице появлялась редко. По большим праздникам. Как смогла она похоронить и глубоко закопать давнюю жизнь свою – удивительно. А тётя Соня смогла утаить даже от самого Данилкина то, как в пятидесятом году смылась она от мужа, с которым вместе ходила под следствием за мошенничество. Было у них на тот момент двое пацанов-погодков. Шестнадцать лет одному и семнадцать другому. Муж её служил капелланом в должности епископа при греко -католической церкви западноукраинского Тернополя, который на Галичине, а она пела там в хоре на клиросе.
На западе Украины к католикам советская власть в войну и после неё пока ещё относилась сносно и активно их не душила. А в Тернополе так и вообще их не трогала без вины, попадающей под Уголовный кодекс. Поэтому жили Соня с бывшим мужем вполне раскованно. Однажды случайно сообразили они за деньги предсказывать судьбы детям прихожан и любым другим, желающим своим отпрыскам счастья. Предсказывали и вещали супруги от имени и с помощью иконы Иисуса. Точнее, пользуясь Ликом его в серебряном окладе. В рамке оклада того целая картина была написана красиво и сочно. Христос на ней благословлял малышей. Слова Доброго Пастыря: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное» Соня вышила на старом ветхом и рваном рубище. Вот прятали они с мужем икону да рубище это в мешок и ходили по домам тернопольским.
Дети были у всех. Знать их судьбу хотели все родители. А Соня с мужем держали в руках отдельно икону и рубище, ставили малышей напротив и каждому из них от имени Иисуса определяли кому счастливое существование, а кому никудышнее. Так вот тем детям, которым судьба припасла жизнь неудачную, они читали молитвы и псалмы пели. Потом прикладывали к ребёнку икону и сверху накидывали рубище. Через несколько минут судьба его волею божьей перекраивалась и превращалась в счастливую. Вот за эти процедуры народ тернопольский расплачивался без скупости. Дети же. Святое дело – дать им дорогу к счастью. Народ в большинстве своем был довольно тёмный, малообразованный и Соне с мужем верил. Потому денег у них и прочего добра через три уже года стало столько, что поначалу Сонечка даже перепугалась. Куда их девать-то? Да и тратить вразмашку деньги на людях было опасно. Могли настучать в милицию запросто. А денег всё прибывало. Соня с мужем даже отдельное хранилище сделали во дворе своём. Яму выкопали, деревом изнутри плотно обложили. Деньги и цепочки да кольца золотые и серебренные в жестяные банки из-под конфетных наборов складывали. Опускали их в яму и накрывали сверху крышкой, а потом закидывали землёй со двора, да метлой заметали с разных сторон. И даже самим им совсем не видно было тайника. Листья с деревьев, ветки сухие камешки мелкие равномерно валялись по всему двору. Надежный был тайник.
И жили бы они в таком духе очень долго, но однажды попали по незнанию в дом молодого школьного учителя математики, который был агрессивным атеистом, но докладывать об этом Соне с мужем не стал. Он послушал всю галиматью, которую они несли его семилетнему сыну, с любопытством просмотрел весь обряд, расспросил: кто они, откуда и многим ли помогли найти путь к счастью. Выслушал всё, а утром пошел в МГБ местное (которое ещё не так давно называлось страшно – НКВД) и написал на них заявление, в котором указал, что служители культа занимаются банальным мошенничеством и обманом зарабатывают незаконные денежные средства.