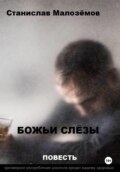Станислав Борисович Малозёмов
Вести с полей
Вот каждый же божий день поранее, сразу вслед за солнцем прибегал на поле Вова Самохин, арендованный у Дутова агроном корчагинский. Июль. С утра двадцать восемь на термометре, дожди через день то моросящие, то ливни с громом и молниями. Всё, в общем, самое благостное для посевов. А мнёт Вова колос, выше колена выросший, трёт его меж пальцев, а пшеница всё молочная. Зеленоватая и податливая. Стирается в кашицу за три прокрутки колоса в ладонях. Ну, допустим, имеет агроном этот результат двадцать пятого июля. И двадцать шестого так же точно прибегает туда же, где был вчера. А там как раз оно – чудо! И золотом стал отливать колосок, и выше на сантиметр стал, твёрже. За ночь всего! Чудо? Природа обожает людям такие сюрпризы подкидывать.
– Ядрёна мать! Ура! – орал двадцать шестого июля агроном Самохин на всю степь, пугая полёвок и спящих между колосьями больших птиц, которых зовут полевой лунь. Он и живет на земле. Летает низко и только когда любовь с луньками крутит. Догоняет. – Пошло дело, попёрло! Ну, красавцы вы мои усатенькие! Ну, милые вы мои, золотые!
Володя Самохин пробежал метров тридцать, исследовал там колосья, потом скачками переместился ещё метров на сто и сел между колосьями. И как только сел, так и пропал из видимости. Не торчала над пшеничным полем его красная пляжная кепка. Исчез агроном. Потому как стебли впервые на поле совхозном выросли почти до пояса. Это на суглинке-то! Тоже, скажете, не чудо? Ну, возможно. Просто землю на полях корчагинских обработали и семя в неё бросили так, как Креченский посоветовал, учёный. Всем учёным учёный. Удобрили правильно, вовремя и тем, чем надо было. Дожди, конечно, помогли. Сжалилось небо.
Сидел Самохин, агроном, на заднице и лущил в ладонь зёрна из разных колосков. Большие были зерна, яркие, светящиеся изнутри янтарём. Набрал пригоршню, прикинул на вес. Тянуло, ну, не меньше чем на двести граммов.
– Эх, ты ж, голубушка моя! – сказал нежно пшенице Самохин Володя. – Моя ж ты радость!
Он встал во весь рост и, поворачиваясь, осмотрел вес золотистый простор. Ветер был слабый и стебли пшеничные раскачивались медленно, отбрасывая по сторонам свет солнечный. Красиво было так, будто поле танец исполняло ритуальный перед агрономом.
– Вот теперь ты никуда не денешься, – строго сказал агроном всем полю. – Давай, расти ещё маленько, а через месяц мы тебя заберём на элеватор. Всё ясно?
Промолчало, конечно, поле, танца своего не прекращая. А и что ответишь? Истину говорил агроном. Да и обидеться тут было не на что. Для элеватора хлеб и рос. Для людей.
– Э-эх! – ещё веселее прокричал Вова Самохин и с размаха забросил всю пшеницу из ладони в рот. Жевал, зажмурясь. Запоминал прелесть свежего вкуса и нежный запах молотых молодыми зубами зёрен. И так хорошо было ему! Ну, прямо как в первую свою брачную ночь со Светкой своей.
Походил он ещё с полчаса туда-сюда, да и рванул в контору. Данилкина посвятить в событие долгожданное, но для директора этого совхоза непривычное, просто оглушительное по силе значимости его.
Данилкин, директор, маялся за столом, проглядывая внимательно бумажки от нового счетовода-экономиста Еркена Жуматаева. Ну, там, сколько чего ушло на посевную – от соляры до семян пшеницы с просом. Нитрофоску экономист посчитал внесённую в почву, порченную и рассыпавшуюся из хилых бумажных мешков. Запасы трёх видов гербицида разложил директору на бумаге и много всего ещё по мелочи. Поэтому бумажек оказалось много, а Данилкин оставался в единственном экземпляре и потому одна всего умная голова его всё равно вспухла через два часа изучения цифири. Он повернулся к шкафчику позади себя, достал из него неполную бутылку водки и стакан. Выпил, занюхал одним из отчетов Еркена-экономиста и стал глядеть в окно, за которым цвели в конторском палисаднике красные и белые мальвы, поворачивались к глазам серебристыми сторонами листья тополя, а за ними по дороге ехал трактор МТЗ-50 с Айжанкой Курумбаевой в кабине и тремя прицепленными трехкубовыми цистернами с водой. Взял Данилкин рацию и вызвал Айжанку.
– А это ты куда направилась с водой, Айжан? – крикнул он в решетчатый микрофон.
– Так на просо поеду, – Курумбаева голосом своим и хрипом сопутствующих радиочастот заполнила кабинет. – Дождь последний полосой прошел. Вроде широкая была полоса, а просо не всё зацепило. С полгектара проса у нас сбоку, в выемке угловой. Дождь его не достал. Полью. Шланг новый, насос Лёха Иванов исправил тот наш старый, мощный. За три часа управлюсь. А то жалко же. Половина гектара отстанет по росту.
– Ну, давай! – прокричал Данилкин. – Вечером заедь ко мне. Тут тебя на два дня хотят на областной конкурс забрать. Будешь пахать десять гектаров на скорость и качество вспашки. Там под Кустанаем горчицу убрали всю. Вот это поле и поднимете. Ещё десять мужиков будет. Женщина одна. Ты, значит.
– Заеду! – ответила Айжанка уже издалека. Скрылась из вида.
Собрался директор еще сто граммов пропустить, но бетонный пол в коридоре загудел внезапно под сапогами с толстыми подошвами и ворвался в кабинет сияющий лицом грязным от пыли полевой Самохин Володя, арендованный у Дутова агроном.
– Ильич! – подскочил Вова к Данилкину, обхватил его длинными руками своими и над полом вознёс. – Есть хлеб! Безо всякой химеры обманной дадим рекорд! Там такой колос, Гриша! Ты сдуреешь от радости! Побежали!
Данилкин ни рот не успел открыть, ни на пол твёрдо опуститься, а уже обнаружил себя на улице, бегущим за агрономом Самохиным Вовой.
– Стой, Вовка! – о чнулся он.– Машина же под задницей директорская. На машине быстрее. Они прыгнули в кабину «волги» и желание побыстрее увидеть и пощупать «большой хлеб» понесло их с помощью хорошо отлаженного двигателя к полям. Туда, где колышась под ветром и зрея под синим небом, ждал их, завороженных жадным предчувствием, новый, почти готовый, сбывшийся наконец за долгие годы щедрый, добрый и близкий урожай.
В кабине Данилкин рацию из бардачка вынул и стал вызывать Серёгу Чалого. Но то ли во дворе он копошился, то ли вообще её забыл и ушел к кому-то из приятелей, а не отвечала Серёгина рация.
– Вот стервец Чалый! – возмутился директор, не особо пряча улыбку. – Я же ему приказал быть на стрёме. Ему надо ехать в райцентр на аэродромчик для кукурузников. Надо самолёт арендовать на орошение гербицидами. Мне Креченский прислал из опытной станции убойные жидкости. Мрёт всё, кроме пшеницы, овса, проса, ржи и ячменя. Муравьи красные, которые корни едят, тоже дохнут. Ну и жуки там всякие…
– Не, жуки выживают. Да от них и вреда-то никакого, – Самохин, агроном глядел в окно на бегущий вдоль дороги по ходу движения бесконечный золотой слиток, не имеющий цены. Нет, его, конечно, снимут с земли, выдавят из него суть, зерна хлебные, и продадут за деньги. Но они, деньги, не цена хлебу. Нет. Цена ему – часть прожитых в труде запредельном жизней трактористов, сеяльщиков, комбайнеров, шоферов. Вот дороже их жизней не бывает никаких денег.
– Григорий Ильич! – ожила рация Данилкина голосом жены Серёгиной, Ирины. – Я его позвала. Он на крыше антенну ремонтирует. Уже бежит. Вот же гад! Прямо с крыши и спрыгнул! Ни дочь не жалко ему, ни жену. Придурок.
– Чалый в эфире, – Серёга дышал тяжело и часто. Бежал. Спешил.
– Возьми грузовик любой на МТМ и дуй на двадцать третью клетку. На просо Мы там с Самохиным будем. Разговор есть.
– Понял. Отбой, – прошуршала совхозная радиочастота и стихла. По сравнению с хрипом рации движок «волги» шелестел нежно, как листья тополя над директорским окном.
– У нас гербицид какой? – спросил Данилкин, хотя всё равно ничего в них не смыслил, а раньше, так и слышать про них не хотел. Кто-то ему из знакомых директоров сказал, что отрава это жуткая. Яд сплошной. На село снесёт ветром – так всё вымрет. И куры, и кошки с собаками. Ну, а люди болеть станут расстройствами кишечными и сортиров в селе на всех не хватит.
– У нас бензонитрилы, амиды, диазины, – Вова Самохин перечислил их по слогам. Знал, что Данилкина ученый Креченский к гербицидам сподвигнул. А так бы опять руками сорняк дёргали или вырезали бы плужком малым по междурядью. Труд, надо сказать, адский. А гербицидом опрыскал хоть с земли из цистерны с распылителем, хоть с «кукурузника». А и отдыхай потом. Кури, пей, жди уборочной. – Нам Креченский дал старинный, с военных времен известный ещё яд. Но надёжнее его нет пока. Придумывают новые. В Германии, в Америке, у нас тоже. Но пока лучше ничего не сделали. Наш формат – это «2,4,5-Т». Классика!
– Во- ло- дя! – взмолился Данилкин. – Уши пухнут! Вот поливай себе сам этой бензо-зиной, а меня химией не грузи. Я географию преподавал. Твоё дело – урожай дать рекордный. А моё – поцелуи принимать от обкома и переходящие знамена красные. Я же простой директор, бюрократ и хитрован. А ты творец! И твоя работа – искусство! Не то что моя. Крутиться как вошь на гребешке. Чтобы и волки, и овцы… Ну, ты понял.
Тут как раз и приехали к просу. Долго ходили. Очень долго. Данилкин раньше просо не сеял вообще. И оно ему понравилось.
– Вот и надо вообще на просо переходить,– хмыкнул он обхватив руками куст из семи стеблей. Вон его сколько.
Самохин сдержанно засмеялся.
– Ильич. Тысяча зёрнышек проса – это максимум десять граммов. А пшеницы «саратовской» – почти семьдесят. Чуешь разницу? Ты ведь тоннаж государству гонишь. Для ассортимента надо, конечно. На двух третях площадей сеем пшеницу. Треть – забиваем просом. И государству разнообразие, и нам общий отчет центнеров по пятнадцать с гектара. Вот тебе и красные знамена!
– Во, загнул – по пятнадцать. Хоть по семь сделай мне. И то уже врать обкому легче. Не так тошнить будет. – Данилкин пошел к дороге. К машине своей. Потому, что вдали уже покрывал хлебное поле дорожной пылью «ГаЗон» Чалого Серёги.
– Ты, Вова, пересаживайся на грузовик и езжай, готовь цистерны и трактора «МТЗ» под опрыскивание твоей гадостью от тридцатой до сорок третьей клетки. А мы с Серёгой пшеницу посмотрим и по самолёту порешаем вопрос. Начнём опрыскивать через неделю.
И вот уже остались они вдвоём на поле. Чалый, конечно, искренне поразился тяжелым колосьям и раннему запаху почти спелого зерна. Полущил с десяток колосков, пожевал зёрна, полежал в промежутке между рядками, куда вместился с натугой.
– А звал-то на кой пёс? – зевнув, поинтересовался Чалый у директора. – К лётчикам я с утра съездил. Договорился на третье августа с семи утра. Надо им только яд отвезти. Заливать они у себя будут. У нас им сесть негде. Бугров много и ям. Да ты ж знаешь уже. Игорёк Артемьев к тебе с докладом в половине девятого прибегал. Так чего звал меня в такую даль, Ильич?
– Ну, давай погуляем, – Данилкин вздохнул и пожевал губами. Соображал – с чего начать. – Проблема нарисовалась, Серёга. Я в милицию звонил вчера. Маловича хотел поймать, спросить, как там следствие. Ни Маловича не было, ни Тихонова. А дежурный мне сказал, что по Костомарову дело ушло в суд неделю назад и сам Костомаров переехал из хором милицейских с кроватью железной и мягкой периной на нары в СИЗО тюремное. Суда ждать. Ты мне говорил, что до суда он не доживёт или я путаю что?
– Как это? – поднялся Чалый и тупо уставился в глаза Данилкину. – Малович при мне тебе говорил, что когда следствие закончат, он статью назовет. Если не «вышак», то ящик коньяка с тебя. Забыл? И он «вышак» бы не стал рекомендовать суду. Обещал. Улыбался. Так же было?
– Ты мне, Серёга, мозги-то не расчёсывай, – разозлился Григорий Ильич. – Это твоё дело было. Твоя забота. Не дотягивать Костомарова до суда. Он там сейчас пасть раззявит и через пару недель доследования тот же Тихонов меня рядом со счетоводом на нары бросит.
– Ну, подожди, – Чалый присел, задумался. – Суд, он нескоро будет. Если неделю назад перевезли его, то судить будут самое раннее восьмого-десятого августа. Покумекать есть время.
– Так давай, шевели рогом! – закричал Данилкин. – И встань! С директором говоришь, сука, не с щалавой в баньке!
– Чего ты, Данилкин!? – Серёга поднялся, набычился и навис над директором. Он на две головы был выше. И в плечах шире на полметра. – Ты, мля, два трупа организовал, а у самого ручки беленькие? Хрен тебе! Ты, сука, убийца главный. А они – просто идиоты жадные и трусливые. Станцевали под твою дуду двое. Замочили с перепугу и по дури своей пьяницу и бездельника. Место себе прочистили. А ты зажухал, что этот упырь Костомаров тебя теперь за собой потянет. Так тебе же сказал Малович по-русски, что на хрен ты им не нужен. А ОБХСС и фамилии твоей не помнит, не то, чтобы тебя за приписки на зону кидать. У тебя и проверок девять лет не было.Ты светлый весь. Аж прозрачный. И чего ты, падла, дергаешься? Я тебя подводил когда? Я, бляха, только перед народом грудь гну колесом. Но твоё добро помню. Ты меня от всей моей прошлой мрази отмазал, отмыл и в люди бывшего бандита вывел. Паспорт чистый, следов отсидок нет. Делишек моих прошлых не знают тебе благодаря. И я потому на улице грудь выкатываю, а перед тобой я холуй твой и должник. Это я говорю. Чалый Сергей!
– Ну, хорош тебе, остынь, – Данилкин испуганно отшатнулся. Я ж не к тому. Не напоминаю ничего плохого. Я сам по уши в дерьме. Да, это мои убийства.
Это мы всё с моей Сонькой придумали и рассчитали как провернуть. Петька Стаценко – сволочь мужик был. И агроном никакой, и человек – параша. Он же понимал, падаль, что никто нам новых технологий не разрешит и техники современной не даст. Денег нет ни у нас, ни у страны. Нет, подай ему безотвальные плуги и он тогда урожаями всех придушит. А не дашь – застращаю тебя, Данилкин, и под расстрел подведу за приписки и вредительство. По-старому я для него был типичный враг народа. Стрелять таких! И он бы добился! Мне ждать надо было? Спрашивать: Петя, ну, когда там мне лоб зелёнкой натрут? Я, Чалый, сволочь, конечно. И Сонька моя – ещё та тварь. Она, честно говоря, грохнуть Стаценко руками Костомаровых, жадных и злых, придумала. И по полкам мне все разложила, по нотам расписала. И как приписки грамотно делать, и как убить этих…И Костомарова как убрать потом. Но она ж баба моя. Жена. Мне, может, её сдать?
– Дурак ты, Гриша, – Чалый покрутил пальцем у виска. – Мы с тобой, конечно, явления не обычные. Ты ангел и чёрт в одном теле. И я тоже. Жить давай дальше. Бог нам простит, если он есть. А если нет – сами искупим. Много дел хороших надо сделать. Вот мы и сделаем. Да и сейчас вкалываем за пятерых, сопли не жуем. Тебе вверх надо ползти. А мне укрепиться над порядочными людьми и козлами, как справедливому и самоотверженному, честному их пастуху.
Э! – Данилкин похлопал в ладоши. – Ты сейчас аплодисментов заслуживаешь. Чалый – это символ справедливости и доброй силы. Так оно?
– Ну, нехай. Тебе видней. Ты начальник, – Серёга подобрел. – Слушай меня, Гриша. Кроме нас с тобой и твоей Софьи никто ничего не знает про темное наше прошлое. Да? Да! Давай не рвать ноздри друг другу. Давай хорошие дела делать. Полезные. Вот то, что Костомарова, убийцы и создателя фальшивок по урожаям в живых не будет – это лучше для общества или хуже?
– Так, оно ж ясное дело-то, – отвернулся Данилкин.
– Тогда я до орошения полей отравой сгоняю в Кустанай, – потянулся Серёга Чалый. – Отвезу передачку Костомарову. Узнаю статью и точнее, когда суд. А потом вызову одного вертухая знакомого. Ты мне, Гриша, рублей пятьсот найди до отъезда. Это как раз для вертухая масло. Подмажем, он нам и поможет.
– Главное, чтобы Костомарова судить не успели, – глядя вдаль, сказал тускло Данилкин, директор.
– Ну, вот и порешили. Дальше живём, – Чалый пошел с поля. – Поехали домой. Обед уже. Есть охота.
– Поехали, – Данилкин наконец расслабился, улыбнулся.– Может ко мне? У меня борщ сегодня. И бифштексы. А?
– Да кто ж откажется на халяву хорошего борща похлебать! – обнял Серёга Чалый Данилкина.
Софья Максимовна настороженно встретила мужиков. Не понимала пока, чем разговор у них закончился. Куда вывел. К дружбе с единством или к розни с враждой. Данилкин её предупредил, что сегодня с Чалым решат по Костомарову. И вообще – кто кому кем был и кем стал. Или всё по-прежнему осталось. Очень важная, решающая много главных вопросов сразу, должна была состояться беседа.
Но вгляделась в глаза их, уловила спокойствие душевное у обоих и мысленно выдохнула. Значит, поладили и сплотились окончательно в бедах, горестях и радостях. А раз так, то и жить можно дальше, хоть и в муках внутренних от зла своего, не в меру сотворенного, но и позволять душе отстраниться от мерзких дел своих и помыслов. Потому, что хорошего и светлого, считала тётя Соня искренне, было у неё и у мужа в сто раз больше. Да и в Чалом тоже.
Через полчаса Софья Максимовна уже кормила их. А уж водочку они выпили за дружбу и успех общего дело сами. Без посторонней, даже самой заботливой помощи.
Утром Серёга Чалый заправил «волгу» директорскую хорошим бензином на МТС. Чтобы гладенько тащил его в город мотор. Да и поехал в тюрьму. В СИЗО. Официальное название тюрьмы можно было выговорить и запомнить только на трезвую голову, и то – если ты хотя бы семь классов окончил.
«ГУ "ИСПРАВИТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УК-161/2 УПРАВЛЕНИЯ КОМИТЕТА УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПО КУСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ"» – вот так оно и было обозначено на серой пластине, привинченной слева от решетки, которая служила дверью для приходящих на свидание к зекам. Основные ворота для машин-«зековозов», стальные, с дверью для своих, были вбиты в высокий каменный забор, над которым крепко держались двойные витки бесконечной «колючки», вьющейся по периметру огромного тюремного двора. Если стоять возле забора трёхметрового, то тюрьмы и не увидишь. Отойти надо. Лучше на другую сторону улицы Киевской. Тогда просматривалась вся картинка. Длинный колючий серый забор и довольно высокое здание с маленькими окнами, затянутыми как паутиной решетками в мелкую клетку. За дверью стоял солдатик при красных погонах с буквами «ВВ» и карабином «СКС». Открывал он всем, кто шел в помещение для свиданий, поднимая тяжелую щеколду и открывая решетку ровно на столько, чтобы человек мог боком в дырку проскочить. Откидывая щеколду, он, тем не менее, по инструкции интересовался, к кому движется посетитель и напоминал, чтобы он сначала прочёл внутри комнаты большой плакат с правилами встречи с заключенными и передачи в отдельное окно «гостинцев» для своего сидельца.
Чалый Серёга до этапирования в колонию шесть лет назад отмучился в СИЗО и «крытке» почти полгода. Суда только три месяца ждал. И потому не стал он сразу ломиться в комнату свиданий а пошел за угол в магазин и накупил много всяких приятных для зека продуктов. Чаю пять пачек, сигарет «прима» – десять, пряников, сахар, конфеты, молоко и ряженку в бумажных слоёных «пирамидках» по три штуки. Потом обошел весь тюремный квартал вокруг, имея при обходе в голове странные мысли. Ему почему-то казалось, что никогда раньше он тут не был и всё ему не знакомо и странно. Видимо, так хотелось на тот момент Серёгиной памяти, пытавшейся отдельно от хозяина своего, без спроса просто вычеркнуть из биографии Чалого и время, в стенах серых проведенное, да и вообще всё, связанное с насильственной несвободой.
Он засмеялся и сам не понял почему. Размахивая «авоськой» с продуктами он подошел к стене неподалёку и, накопив во рту побольше слюны, с огромным удовольствием, больше похожим на приступ никому уже не вредящей мести, плюнул на неровную, плохо побеленную и укрытую слоем грязной пыли стену. А уж тогда с лёгкостью на сердце пошел к калитке решетчатой.
– К Костомарову я. Только перевели в СИЗО из УВД. Камеру не знаю, – сказал он солдатику, и скоро уже стоял перед длинной решеткой, отделяющей вольных от невольных и подозвал дежурного надзирателя.
– Чё надо? – лениво приблизился к решетке старший сержант с кобурой, нанизанной на ремень.
– Я сидел здесь, – не здороваясь процедил Чалый сквозь зубы. Он знал как надо разговаривать с прислугой тюремной. – Кореша тут заимел из ваших. Старлея Маркушина. Из третьего взвода. Кликни мне его. Скажи – Чалый зовёт Серёга.
И он сунул за решетку кулак. Старший сержант прислонился боком к решетке и подставил под кулак ладонь. Чалый опустил в неё пять рублей, сложенных вчетверо и сержант ушел.
– Порядки старые. Жизнь прогрессирует, а местами ни хрена не меняется. – Чалый шмыгнул носом и отошел к стене. Ждал недолго. Сбоку открылась тяжела дверь и объявился в коридоре старлей Гена Маркушин. Подошел, обнял Чалого. Серёга тоже его стиснул радостно.
– А капитана так и не дали? – похлопал Генку по плечу Чалый. – Жлобы в вашем ГУИНе сплошные. Ты ж давно заслужил.
– Да я, Серёга, тут одного босяка два года назад помял крепко. Он тут, сука, барыжил внаглянку. Марафет ему передавали через одного нашего. Да ладно, хрен бы с ней, с «дурью». Шаби сам, травись, твоё дело. Так он тут, мля, торговую сеть раскинул как на воле. Лавешки стриг с фраеров и жил не хуже смотрящего. Ну, я его попросил по-людски сперва. Так он меня, борзота, дурканул, как ефрейтора с вышки. Пообещал, что лавку прикроет, а сам просто способ торговли поменял. Простые честные фраера с тоски-то на марафет подсели. Даже те, у кого срок год всего. Это ж калеки, считай. С кичи откинешься, а марафет уже не бросишь. И живи потом, майся из-за козла этого. Ну, я его и помял как надо. Мне строгач, отпуска лишили и звание придержали. Во, мля! Пытался бродяг неопытных от анаши упасти. Хорошее хотел дело сделать.
Генка Маркушин легонько матюгнулся и улыбнулся.
– Да ништяк всё. Получу ещё. Ты-то сам как? Где? Что делаешь? По одёжке вижу – где-то в хорошем месте маза идет у тебя. Да?
– На целине. Тракторист в совхозе Корчагина. Передовик, бляха! Ну и как бы пастух у пацанов наших. Типа бугор, – заржал Чалый. Оглянулся: не слышал ли кто его дурацкого смеха. Нет. Люди своим заняты были. С сидельцами разговаривали через прутья чугунные.
– А чего пришел-то? – Спросил Генка Маркушин, взводный командир.
– Ну, вот передачку отдай Костомарову. Знаешь его?
– Знаю, – старлей взял авоську. – Он в СИЗО. Камера номер девять. Суда ждёт.
– А чё ему корячится? Как следаки дело подписали? Под какую статью? Не в курсе? – взял его Серёга за пуговицу. – Гаденыш ещё тот. Чуть меня и директора за собой не потащил. Еле увернулись.
– Да знаю я всё. Дело читал. Наш взвод эту камеру держит тоже. Ты что, меня позвал, чтобы я ему передачку отнёс? – улыбнулся Генка.
– Ты отнеси. Привет от Чалого и от директора передай. И узнай, главное, по какой статье его прокатили. И суд когда. А потом и поговорим.
– Какой базар!? – сказал старлей и ушел, размахивая авоськой.– Щас. Пять минут и я обратно буду.
Чалый в киоске рядом с магазином «Советский спорт» купил и развернул, читать начал. Только первые строчки прочел, быстрым шагом подошел Маркушин Генка с пустой «авоськой».
– Он тебя видеть хочет. Его выведут через пять минут. А статья у него двадцать вторая по УК пятьдесят девятого года КазССР. Исключительная мера наказания за особо тяжкое. Два трупа. Вышка, короче. Суд девятого августа.
– Чалый! – крикнул из-за решетки знакомый голос.
Серёга увидел Костомарова. Узнал, но с трудом. За прутья держался обеими руками худой мужик, плохо побритый, с серым лицом и тусклыми глазами.
– Здоров, Сергей, – подошел к нему Чалый. – Вот, пришел навестить. Привет привёз от народа и от Данилкина лично. Как ты?
– Девятого августа суд, – прошептал Костомаров. – Иду по расстрельной. Что ж обманули вы меня, а? Данилкину передай, что по расстрельной я один не пойду. Понял? Так и скажи. Доследование будет. И, раз он так со мной, то и я ему не брат родной. По той же статье и пойдет. Он меня заставил. И пусть докажет, что не заставлял. Так и передай.
– Ну, чего скурвился раньше времени? Тебе сказали – вытащим. До суда вытащим, – Чалый ладонью по горлу провел. – Сиди. Жди. Первого-второго августа заберут тебя обратно в УВД в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. И там найдут ошибку в следствии. А ты через неделю в совхоз поедешь. Снимут с тебя обвинение. Ошибка следствия. Усек?
– Не кинете? – взмолился Костомаров. – Выручай, братан. Ноги вам лизать буду. клянусь.
– Ну, ты иди пока. И жди, – Чалый пожал похудевшую серую костомаровскую руку. – Иди.
– Пошел, – оторвал его от решетки конвойный.
– Генаха, пойдем на улицу. На пару слов, – Серёга потянул старлея за рукав.
Они зашли за угол серой стены. Чалый достал из кармана деньги.
– Здесь пятихатка, Гена. Больше, сам знаешь, у бедняков не бывает даже на нужные дела, – Чалый протянул деньги и глянул Маркушину в глаза. – Надо, чтобы девятого он на суд не попал. Очень надо, Гена.
– Ну, надо, так надо, – старлей сунул деньги за пазуху под гимнастёрку. – Ты езжай. Сюда не приходи больше. Мусора вам сами позвонят. – Давай. Рад был видеть тебя в порядке. Пока.
Они пожали руки и разошлись.
Серёга гнал «волгу» безжалостно. На душе было паскудно. Смурно и тоскливо было в душе Серёгиной. Он ехал и всё думал: отчего так мерзко на сердце? Вроде всё сделал. Да и стоил того Костомаров. А душа всё одно ныла.
Проскакивали очень уж быстро справа столбы, отмеряющие километры. Но, жаль, не существовало ни столбов, ни других мерок, которые определяют точно и однозначно – по совести ты поступил или плюнул на неё так же смачно, как на старую грязную тюремную стену.
Глава двадцать четвертая
***
Все имена и фамилии действующих лиц, а также названия населенных пунктов кроме г.Кустаная изменены автором по этическим соображениям
***
Какой приятный месяц август. Дожди в начале его отпуск неоплачиваемый брали у неба на пару недель. Ухитрившись как-то за июль и ливнями прикинуться, и затяжными, нудными, похожими на осенние, моросями. А то и тихо шуршащими по крышам струями крупными, зато в сопровождении страшных громов и ослепительных каракулей молний.
В августе сбоку от дорог на улицах «корчагинского» совхоза вздымаются потрескавшиеся бугорки, а из трещин этих выглядывают почти белые части грибов шампиньонов. Никто их сроду не высаживал и грибницу никто не возил из подлесья возле недалёких старых деревень. И кто такую радость подбрасывал каждый год в августе, какая такая природная аномалия их производила, никто не знал. По степным суровым меркам только чертополоху положено было процветать здесь. Ну, резак, курай, кермек да мох бурый приучили народ к тому, что это украшение улиц и жизни вообще.
А чуть выбежишь из посёлка к простору поближе, так там, если не соваться в посевы, а ходить сбоку от клеток – степной гриб. О! Это произведение самых одарённых сил природы. Шляпка сантиметров под тридцать в диаметре. Ножка – не толще дамской ручки. Не пахнет совершенно, но в жареном виде аромат его пряный со сладеньким оттенком заставляет прохожих направлять нос туда, откуда вылетает запах этот, обозначающий изумительный вкус. Застынет прохожий, обалдеет от зовущего к себе духа грибного, и начинает вдруг понимать нюхающий, что не жить ему больше без этого запаха, как курильщику анаши без «косячка». И бежит домой прохожий, и хватает ведро пустое, с которым уносит его почти наркотическая грибная «ломка» в степь, где степных гигантов на десятки посёлков хватит. Если не ночью прихватил его на улице аромат из чужих домов, то и он вскоре вернётся с грибами степными в ведре, за пазухой под майкой, да и под мышками ещё. И будет у него в семье пикантный ужин. Так как жена и дети гриб жареный едят с луком и перцем, а сам он освежает блюдо стаканом-другим домашнего самогона. В общем, всё описанное – лишь малая крошка от большого удовольствия, которое приходит под ручку с августом.
Ну, в первую очередь – это наслаждение от борьбы с вредителями высоко уже колосящихся злаков. В это время как раз тянет к ним ото всюду всякую заразу. Ползающую, бегающую и живущую в земле, прямо вокруг корней.
Человек всегда побеждает, если, конечно, он не дурак и с палкой за вредителями полей не бегает и страшным матом их не пугает. А действует по науке, которую знает грамотный агроном. В период схватки с нечистью, поля губящую, агроном становится в хозяйстве генералом, командующим послушной армией рядовых бойцов в битве за урожай. Так вот в августе, чтобы злак дозрел без приключений до большого, тяжелого колоса, гнущегося под весом почти спелых зёрен, агроному надо провести операцию «гербицид- пестицид». Первый акт этой приключенческой пьесы играется через пару недель после рождения всходов. Он обычно скромный по размаху и тратам ядовитых растворов. Но зато августовское наступление – это полновесная война с заразой. И если вдруг окажется, что агроном или с силами не собрался, или вообще забыл про гербицидную «скорую помощь», то его и наказать могут. Лишением премии волей директора совхозного и фингалами вокруг глаз – усилиями товарищей и соратников по труду.
Погибший Стаценко Пётр, интеллигентно говоря, хрен клал на ядохимикаты. Он к августу после холодной зимы и переполненной трудами весны разгонялся до сочинения огромного количества жалоб на директора, которые посылал почтой в верха советские и до запивания грусти от бесплодной борьбы с начальством многими литрами самогона. Потому кроме земли-неудобицы мешали урожаям всякие вольные и непуганые вредители.
Вот арендованный у Дутова, «царя» из «Альбатроса», Володя Самохин был не просто агрономом, а грозой корневой гнили, сусликов, полёвок, гусениц всяких и жуков. Они его боялись и так до смерти. Выйди он во пшеничное поле, да крикни молодецким голосом грозным:
– А ну, изыдь нечисть вся с хлеба, проса и овса, да сгинь-пропади!
И все сорок три клетки ожили бы и восстали мощными колосьями из-под гнёта вредительского. Но мегафон-матюгальник в совхозе был только у Данилкина, который орал в него лично и не давал никому даже подержать. А голосом вопить стеснялся Самохин, агроном, поскольку голос нужен был ему
для выступлений на собраниях, где он рассказывал о победе научной агрономии над безмозглой надеждой большинства на то, что всё и так обойдется.
Вечером пятого августа он снарядил десять тракторов с прицепленными трехкубовыми цистернами, из которых торчали вентили и шланги с распылителями. Перед цистерной на деревянной плашке был привинчен насос. Он и гнал ядохимикат через распылитель на ниву хлебную. К трактору прилагался, естественно, тракторист, а к цистерне – женщина. Потому как она, в отличие от грубых мужиков, распыляла яд аккуратно, скрупулезно, не отвлекалась на разглядывание летающих кругами кобчиков и не пила на ходу самогон.