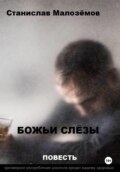Станислав Борисович Малозёмов
Вести с полей
– Знаю. Хорошая, добрая женщина, – сказала искренне Леночка.
– Верно говоришь,– Дутов внимательно и долго глядел ей в глаза. После чего взгляд переместил на портрет Карла Маркса и сказал прямо, как на партсобрании. – Дружить со мной будешь? По-взрослому. Полюбовников и разврата у нас по большому счёту нет в стране, но если мужчина и женщина нравятся друг другу, они в виде исключения вспоминают, что это, занимаются этим и кроме того дружат. Вот я тебе нравлюсь?
– Да, – твёрдо сказала девочка Леночка. И не врала. Дутов ей очень нравился. Это был просто идеал мужчины. Мечта, а не мужик.
И с того дня у неё пошла другая жизнь, которую Фёдор Иванович развернул на сто восемьдесят градусов. Для неё он построил четыре теплицы, она со всего совхоза собрала на тепличную работу самых симпатичных девчонок и они под руководством Алипова Игоря за год сделали в них маленький рай. Всё, от редиски до помидоров, огурцов и всяких цветов было у совхозных трудяг и летом, и зимой. Дутов привез из тамбовской области эшелон прекрасной земли, которой хватило не только на теплицы, но и на огороды в каждом дворе, да ещё на посадку разных деревьев в совхозе, хоть и стоял он практически наполовину в хорошем природном лесочке. В оазисе степном.
А Леночка на всё время стала единственной любовницей директора Дутова, о чем знали все, включая жену Нину Игнатьевну. Леночка соперницей ей не была. Муж из дома не ушел бы, даже если бы приказали из ЦК КПСС. Заботился он о семье, где было ещё два сына почти взрослых, изо всех сил и с желанием чистым. И она эту слабость Феде простила сразу как узнала. Значит мужику нужно и тело молодое и душа. Она нутром чувствовала, что необходима была ему юношеская страсть, которая и семью не оскорбит и в работе тяжелой силы обновит. А потому просто предупредила его всего парой слов.
– Разлюбишь семью – уедем с пацанами.
– Нет,– взяв её за руки, жестко произнес Федор Дутов. – Не разлюблю. И девочка эта у меня любовница, а не любимая. Любимая – ты. И дети. Не бойся ни за меня, ни за себя и ребят, ни за Ленку. Не опозорю никого. И сам не осрамлюсь.
Так и продолжили жить. Леночке он построил аккуратный деревянный домик неподалёку от своего терема двухэтажного. Поработала она ещё три года в теплице, а потом пошла в клуб художественным руководителем, где заведующей была Нина Игнатьевна, жена Федина. И жили они в ладу все, и странно было это всё, необычно и противоестественно. Но уж как стало, так и было.
В общем, доложил директор Дутов жене, что решил вечерком попарится и пошел ещё засветло в баньку деревянную, такую чистую и пахучую сладким ароматом скоблёного дерева, вениками разнообразными и пивом, которое Фёдор Иванович и пил, и на каменку лил. Дима Огнев, управляющий делами банными, несмотря на зверский мороз расчищал лопатой двор от лишнего снега и попутно носил колотые дрова в кочегарку на обратную сторону домика. За баней он ухаживал как за собственной машиной, если бы она у него была. То есть, любовно. Возвеличил его в чин банного распорядителя Дутов из комбайнеров. Дима приехал в пятьдесят седьмом из Воронежа по путевке, но среди комбайнеров смотрелся инородно. Он был природным организатором. Талантливо проводил любые мероприятия, от свадеб до крупных совхозных праздников. Умел общаться с народом из высоких сфер без подхалимажа, но так тонко, что заезжие комиссии, которые директор поручал ему сопровождать и обслуживать, расставаясь, крепко жали ему руку, хлопали одобрительно по плечу и благодарили за всё, что он для них делал. Потому и определил его Дутов хозяином бани, места, где всё должно быть похожим на недолгое, но все же – счастье.
– Димыч! – сказал тихо директор Дутов, не заходя за ограду. – Мы с Ленкой часов в девять отдохнуть придем. Топи хорошо. До ночи тут будем. Пиво в холодильнике?
– Двадцать бутылок, – Огнев Дима воткнул в сугроб лопату и поднял одно ухо на шапке.– Там же балычок, сервелат, яблоки, конфеты, шоколад, коньяк.
Шашлык жарить?
– Не… Ленка не любит же. А я просто не хочу. Ты лучше ей лимонаду бутылки три принеси из чуланчика, да охлади маленько. В девять будем уже, – директор постучал ногой по ограде. Дерево издало странный звук, похожий на щелчок курка ружейного, незаряженного. – Дутов стукнул еще раз, хмыкнул и пошел в домик к Леночке Лапиковой. Она ещё не знала, что сегодня банька. С шоколадками и физическими любовными нагрузками.
***
В те же девять часов вечера, когда хозяин всего, что есть в «Альбатросе», Дутов Федор Иванович, откупорил первую бутылку городского «Жигулёвского», а Леночка Лапикова пошла в парную разогревать и без того горячую кровь, караван тракторов обогнул совхоз «Енбек» с подветренной стороны, чтобы звук моторов не разбудил население, и пошел прямо на скотофермы. Фары уже выхватывали их белые длинные тела из синей от холода тьмы, хотя проехать надо было ещё полтора километра. Доехали всё же. Встали полукругом. Уперлись фарами в раскрытые широкие ворота фермы. По всему засыпанному соломой цементному полу лежали, поджав ноги, коричневые мёртвые коровы, покрытые сверху тонким слоем инея, который всегда появляется в мороз на медленно остывшем теле. Серёга Чалый закурил и пошел внутрь. За ним потихоньку двинулись все остальные. Кроме Марата Кожахметова. Он сел на корточки и, глядя в снег возле валенок, водил большим пальцем в рукавице вокруг ног, оставляя на твёрдом как кирпич насте почти незаметную царапину.
– Ой, ;асірет! Біз ;азір ;алай т;рамыз?!! – взвыл он внезапно как волк в степи. Тонко, протяжно и с жутковатым надрывом. Он долго кричал, одни и те же слова, упав на локти и уткнувшись шапкой в твердь снежную. Потом крик его превратился в стон, затем в свистящий хрип. Он поднимал голову, бросал мутный взгляд в ворота, смотрел страшными глазами на коров, которые лежали плотно – одна к одной, а некоторые успели навалиться сверху на умирающих, но ещё чуть тёплых соседок своих и охладевали с ними вместе.
Видно было, что не метались они по стойлам и по свободной площадке за своими стойлами. Они, судя по не разбросанной ногами соломе, тихо ходили по ферме, мычали, наверное, прислонялись друг к другу, собирая последнее тепло тел в одном месте, а потом становились на колени. И, уже умерев, падали на бок. К ним подходили ещё живые, чувствуя уходящее, но всё-таки тепло, ложились на них и вскоре замерзали.
– Что Марат кричал? – спросил Валечка Савостьянов у молодого парня-казаха. Видно, работал тоже здесь. Откуда он вынырнул, из какого не освещенного оледеневшего угла фермы, никто не заметил. Парня трясло, бежавшие изо рта слюни застыли белыми твердыми извилинами. Такие же ледяные тонкие полоски спускались от глаз к подбородку. Лицо его было почти синим, а руки он держал, раскинув в стороны. Будто обнять кого-то хотел.
– Ой, горе! Как же мы теперь жить будем?– парень перевел Марата с большими перерывами. Рот не слушался его, открывался плохо и звуки получались рваные, срывающиеся, застывшие. Как всё вокруг.
Толян Кравчук его обнял, приподнял и понял что парень вряд ли будет стоять сам, если его опустить.
– Чалый! – сказал Толян и глазами показал на замёрзшего скотника.– По-моему…
– Быстро его в мой трактор! – рявкнул Серёга. – Вдвоем с Игорьком отнесите на сиденье. Мотор зажмите на большие обороты. Отойдет. Там жарко будет.
Так, Марат! Горе есть и обратно его в счастье уже не перекуешь. Кончай убиваться. Дело надо делать.
Он стал ходить между трупами, примерялся к воротам, прикидывал всевозможные траектории для тракторов, которые должны были задним ходом по очереди въезжать в двое ворот, прицеплять к тросам трупы, причем минимум по пять. Потом надо было волочь их ещё два километра, там сваливать в кучу, поджигать, ждать, когда тела сгорят и после этого засыпать их снегом. Много было работы.
– А баранов сколько? В кошарах ворота такие же? – крикнул Игорёк Артемьев Марату. – А свиней тракторами заберём? А кур как возить?
– Овец с баранами и кур возить будем в моих санях. По-другому хрен получится, – Валя Савостьянов обошел за Чалым коровник и его длинная фигура появилась в проёме облитых светом ворот. Фигура, колеблясь всем контуром в пробитом фарами ледяном холоде, быстро удалялась к трактору.
– Так у меня, мля, тоже сани есть! – крикнул контуру Валечки Лёха, заведующий МТС. – Тоже пойду на кошары и курятники. А вы, кто без саней, таскайте коров.
– Бензин у кого? – Спросил Чалый, не отводя глаз от бывших ещё вчера живыми коров. Он поймал себя на мысли, что больно душе его не потому, что больше мяса в «Корчагинский» поставлять будет пока некому и ещё неизвестно, когда замена найдется. Сегодня, наверняка, не только в «Енбеке» скот помёрз. А заныло внутри от самого зрелища страшного. И от того, что народ «енбековский» обречён теперь уже стопроцентно на голод и нищету. – У кого бензин, мать вашу!?
– Я взял пять канистр, – отступив на шаг от разъяренного Серёги, крикнул Кравчук Толян.
– У меня три, – Лёха попытался загибать пальцы в рукавицах. Посчитать хотел. Не получилось. Не гнулись рукавицы. – А, нет! Четыре даже! Четыре канистры.
– Ну, погнали тогда, – Чалый Серёга посмотрел на Марата. – Подгоните ещё один трактор для тебя, Марат.
Зинченко Андрей повез Марата на МТМ за трактором. А Чалый с ребятами начали делать жутковатую работу. Сначала трактор заезжал задом к ближним коровам, Серёга Чалый с Кравчуком делали по пять петель на двух тросах, накидывали петли на один рог и одну ногу. Затягивали. На двадцатиметровый трос увязывалось таким способом три коровы. В общем один трактор мог утащить шесть коров. А их было, как пересчитал Серёга, сто двенадцать.
То есть, работы много. До утра – точно.
– Ладно. Начали, – сказал он торопливо. – Ты вези прямо от ворот два километра. Я пошел в свой трактор. Парнишка, который у меня лежит в кабине, покажет где снег разгребать, куда трупы сваливать и жечь. А там и Марат с Зинченко подключатся. Погнали.
***
В общем, всё досконально больно мне описывать. Да и вам читать не захочется.
К шести часам утра всё свезли в одно расчищенное место. На мертвых коров с трудом набросили восемьдесят мёртвых свиней и, что уже полегче было, овец и кур. Зрелище того процесса было настолько тяжким, что делали мужики всё не глядя ни на трупы, ни друг на друга. А когда издали посмотрели, перекуривая, на гору мёртвых животных и птиц, то Игорька Артемьева вырвало, да и Кравчука тоже. Марат Кожахметов зашелся в последней истерике, падал на снег, катался, кричал что-то на казахском и, лёжа на спине, больно и долго бил себя кулаками в грудь.
– Всё. Кравчук, Игорёк, канистры тащите. Мои вот. Рядом, – Чалый пошел по кругу, поливая гору трупов снизу вверх. Через полчаса бензин кончился, потому что облили всё доверху.
Перед тем как поджечь все ещё раз присели в кружок. Закурили.
– А вот почему их нельзя было на мясо пустить? Они же не от инфекции какой подохли. Они же здоровые были. До весны всем бы хватило мяса, – Игорёк Артемьев произнес это сам себе, не трогая никого.
Э-э, р;;сат етілмейді, – мрачно сказал Марат. – Нельзя, джан. Когда они вот так долго помирают, а им же не понятно отчего, то они боятся. Ужас у них. Я точно не знаю, но старики говорили, что у них от страха какой-то яд выделяется. Когда режешь – они не успевают так долго бояться, хотя чувствуют конец. А когда подыхают и мучаются, яд будет в крови, нельзя кушать.
Серёга Чалый поднялся, подошел к горе трупов, зажег и кинул спичку на край. Потом обошел с четырех сторон и всё повторил. Через пять минут огонь сумасшедший поднял высоко над собой тяжелый ледяной воздух и разбросал его в стороны. Стало жарко. Запахло палёной кожей, шерстью горящей и вспыхивающими как новогодние бенгальские огни перьями.
– Они будут долго гореть, – сказал Андрей Зинченко. – Вы езжайте. Мы потом сами снегом завалим.
Марат Кожахметов и Андрей подошли к каждому, всех обняли, прижались на секунду к мужикам и пожали руки.
– Вам спасибо друзья, – сказал Марат и отвернулся. Плечи его затряслись и на фоне пламени трепещущего, с жадностью пожирающего трупы, казалось, что Марата какая-то сила наклоняет и тоже тянет в пекло. Андрей Зинченко подскочил и оттащил его от этого адского, всеми богами проклятого костра и места, где сгорали с трупами животных и надежды людей на нормальную жизнь.
Чалый с Олежкой Николаевым в обнимку медленно и тяжело пошли к своим тракторам. Устали. Остальные потянулись сзади, оглядываясь иногда на огромный огненный шар. Серёга открыл дверцу и потянул за плечи парня, который отогрелся в кабине и выжил.
– Ну, пацан! Скажи что – нибудь. – Чалый потряс его легонько и пригляделся к его глазам. Чистые, без мути были глаза.– Постучи сильно ногой об гусеницу. Больно ногам? Руками постучи. В пальцах побаливает?
– Больно.– Ответил юный скотник.– Спасибо вам! А то я чуть не помер, наверное. Ладно, побегу я. Недалеко мне.
– Повезло. Не обморозился до костей. Быстро беги и ртом не дыши.– Чалый похлопал его по спине и слегка подтолкнул.– Домой прибежишь – ничего не рассказывай. Завтра утром председатель сам приедет и всё объяснит.
– Жаксы. – Сказал парень и побежал, раздвигая своим тонким телом тёмную, леденящую кровь мглу.
Домой «корчагинские» ехали долго. Как-то не получалось быстрее. Да и не хотелось. Через десять километров Чалый, а вслед за ним и остальные, остановились, Вылезли из кабин, встали на гусеницы, не сговариваясь, и посмотрели назад. Думали, не видно будет погребального костра. А он вознесся ещё выше к небу. Так высоко, что ещё немного – и он языком своим сытым, оранжевым с голубизной, лизнет благодарно пятку какого-нибудь из многочисленных богов. В знак благодарности за такой щедрый, истинно божеский подарок. За ледяной, убивающий всё холод и за такой невероятно богатый и вкусный ужин.
-Тьфу, ты, мать твою, мля!– психанул Серёга Чалый, который как раз именно это и подумал про богов и огонь.– Жизнь, сука! Падла грёбанная!
И караван тракторов пошел дальше, подминая под себя траками гусениц проклятый нечеловеческий мороз. Давя его насмерть, разрывая на мелкие комочки, распадающиеся в пыль.
Поехали они уже в другую жизнь. Где будет мало еды и мало верных надежд.
Где только одно надо будет суметь сделать хорошо, правильно, без ошибок и паники. Но сделать обязательно.
Выжить.
Глава восьмая
Названия всех населенных пунктов кроме города Кустаная и фамилии всех действующих лиц повести изменены автором по этическим соображениям.
***
Холод-убийца гулял по просторам целинным, почти по всей кустанайской области до 25 февраля. За месяц с небольшим хвостом все в округе смогли обменяться горестными вестями о своих потерях. То же самое произошло и в других целинных и старых сельских районах. Уже к середине февраля Кустанай почувствовал небывалый с двадцатых годов продовольственный крах. Исчезло почти всё, что зимой привозили на городские склады из колхозов и совхозов. Запасы осенние даже в жуткие холода никто не экономил. Картошку, лук, другие овощи продавали так же бодро, будто припасено их было лет на десять. Ну, они в первую очередь и кончились. К удивлению мало понимающих в сельских делах горожан. Почти никто никогда и не думал о том, сколько и чего запасли на зиму. Но отсутствие редьки, лука и картошки народ перенёс без особых страданий. Что-то малыми дозами привозили с Урала и Черноземья. Просто теперь за картошкой надо было стоять в довольно большой очереди. А вот от этого с конца сороковых годов народ напрочь отвык. В магазинах всегда было всё, кроме двух недолгих промежутков, когда почему-то хлеб стали печь рывками. То пекут, то нет. Приходилось стоять в очередях. А в начале шестидесятых даже талоны давали на белый хлеб. В них было указано, сколько тебе положено белого конкретно на твою семью. Большая семья – могли три булки сразу дать. Маленькой доставалась одна на день. Черного и ржаного хлеба народ мог закупать, сколько желал.
Но к мясу отношение у населения было особенным. Есть оно в доме или нет его – это был скорее психологический фактор, чем пищевой. Народ чувствовал некую ущербность и нервозность если, имея деньги, он не мог есть мяса. При нехватке хлеба и овощей люди просто тихонько поругивали власть и в основном на продавцах срывали недовольство своё, а вот исчезнувшее с прилавков мясо, которого было навалом всякого к пятидесятым годам и аж до шестьдесят восьмого года, людей оскорбило. Недовольство в шестьдесят восьмом выражали без тормозов, громко и грубо. Хрущёвская оттепель к свободному словоизлиянию приучила, а Брежнев почему-то эту расслабленную гайку не закрутил и народ выражений не выбирал и о каре за тявканье на правительство не думал. Хотя, в отличие от деревенских, за отсутствие мяса городской народ зиму бешеную не трогал, а клял правительство. По размышлению народному: власть виновата была всегда. Ну, может, только кроме чисто личных эксцессов – жена ушла, муж бросил, дети придурками растут.
В общем, так вышло, что голода вроде бы никакого не было, но избалованному за последние двадцать лет населению хотелось, чтобы всё быстренько стало – как было. И от того в городе обнаружились у народа злость и отвращение к власти. Ничем особым население это не выражало, но разговоры на кухнях и между соседями создали тогда в Кустанае напряженность. Она почти физически чувствовалась в магазинах, автобусах, а особенно на базаре, где частники стали продавать мясо втрое дороже. Они были рады. И животных сумели дома спасти, и получать за килограмм стали прекрасно. Это хорошее настроение крепко удерживалось даже от трёхэтажных матов покупателей, которые хоть и материли продавцов и весь белый свет, но мясо брали.
***
А вот деревня была не просто потрясена трагедией зимней. Ужас бегом бегущего к людям голода и полное отсутствие надёжных возможностей восстановления хозяйства добила народ из совхозов и колхозов. До конца ледяного зверского холода все «корчагинские» получили со склада по пятнадцать полукилограммовых, «военных» банок тушенки на семью. Одиночки – по семь банок. Должно было хватить. В обкоме уверенно сказали, что двадцатого февраля зверь успокоится. Остальное на собрании Данилкин, Копанов, Алпатов и Серёга Чалый, не занимавший никакой должности, но имеющий общественный вес, равный директорскому, решили отдать в «Енбек». Директор Данилкин, когда Чалый пришел к нему утром после захоронения скота и птицы, узнав о том, как его лучшие люди жгли померзший там скот, достал из сейфа бутылку водки. Он налил Чалому сто граммов, а остальное выпил сам. Через полчаса Данилкин, директор, плакал как ребенок. Но не потому, что теперь «Енбек» не будет привозить мясо. Он натурально плакал от горя, которое раньше ещё, без водки, больно царапнуло его по сердцу. Водка только вытащила из него наружу искренние чувства, раненые трагедией у соседей. С председателем Адильбеком Кожахметовым он дружил. Охотился с ним, рыбу ловил, о жизни и экономике болтал часто, на свадьбе сына его, Марата, гулял.
– С Валечкой Савостьяновым и Игорьком ты, Серёга, отвези Кожахметову тонну тушенки. Им хватит точно до двадцатого. А мы оставшейся обойдемся.
Дутов из «Альбатроса» звонил, картошки обещал завтра привезти пять тонн.
– Я с Игорем Алиповым разговаривал,– Чалый почесал в затылке. – Так агроном пообещал с дутовского разрешения нам закинуть девять туш говяжьих, замороженных. Зерна на мельницу завезти два грузовика наказал. Сала свиного, в бочках засоленного – аж пять штук. А бочки на двести кило у них. Но это не весь приказ его. В «Енбек» он то же самое уже завтра повезёт. Только поменьше. Народу в «Енбеке» – не как у нас.
– А про замёрзшую скотину он откуда знает? – спросил профорг Копанов.
-Олежка Николаев ездил к нему. Они ж земляки. Да друзья ещё. С одного двора вылупились,– Чалый Серёга закурил и поинтересовался у всех. – Хоть Дутов и молодец-мужик, но всех в округе он не прокормит. Где будем еду брать теперь? Какие у кого мысли?
И тут началась такая длинная и эмоциональная дискуссия, что просидело собрание, размахивая руками и почесывая лбы, часа четыре. Зато всё решило и назначило ответственных за ликвидацию продовольственного облома. Главным ответственным определили, естественно, Чалого Серёгу. Что он воспринял достойно, с уверенной улыбкой.
– Мы, бывает, на бога неизвестного никому больше надеемся, на КПСС поднебесную, что для народа одно и то же, Когда вкалываем и самогон пьём от радости бытия, мы, бляха, вообще о других не вспоминаем. Иногда конкурентов материм для успокоения. А надеяться надо на самих себя, хороших и умных, да на добрых людей. Про добрых людей-то кто из нас вспоминает? А? Когда самим хорошо? Никто. Как вроде и нет их. А тут – бац! Обгоняющий нас во всём царь местный Дутов, который хрен кладет даже на обком партии, засылает нам жратвы фактически до весны. И «Енбеку» отваливает в достаток как раз.
Он кто? Да царь местный. Глыба каменная. Лик суровый. Но это человек с доброй душой и чистым сердцем. Он добрый внутри, а не снаружи. Это главное. И таких мы найдём не одного на землях ближайших, не попавших под мороз долбанный. Доступно разъяснил?
– Тебе, Чалый, надо в обкоме работать. Секретарём. Людей к вершинам вести! -
засмеялся Алпатов Виктор, парторг.
– Сам бейся в секретари, – тоже засмеялся Серёга. – Я не из кресла, с земли поведу. Не к вершинам. Нам там делать нечего. А добрые дела делать. Нужные для всех.
На том и разошлись. Разбежались, точнее. По такому холоду бегом еще не страшно перемещаться. А Серёга бежать не стал. И так целыми днями на холодрыге этой сдуревшей. Привык, наверное. Потому он медленно домой пошел. Бумага у него была. И хотел он сначала подумать, а потом и записать четкий план. Проще – сделать правильные расчеты по спасению своего совхоза и соседних хозяйств от нехороших, гибельных перспектив.
– Ничего, – думал он, слушая глухой треск наста под валенками. – Пока ты не в могиле, значит ты живой. А раз живой сам, то и другим жизням подмогни в трудный час. От этого тебе только сил добавится, душа порадуется и разума прибудет.
Умный он был, Серёга Чалый. И умелый. И не боялся ничего. На нём только корчагинское хозяйство держалось при живом-то директоре. Потому, что разум его был и уравновешен, от природы богат и гибок. Но природа-мама щедрая. Наплодила таких «серёг» всюду понемногу. Вот с ними и выдерживал народ всё, то ли чёртом, то ли ещё какой нечистью затеянное.
***
Семнадцатого февраля у Дутова Федора Ивановича после обеда ни с того, ни с сего вдруг открылось замечательное, почти лучезарное настроение. Поскольку мужиком он был суровым, даже свирепым снаружи, то природа компенсировала этот нюанс (для положенной человеку гармонии) очень доброй, мягкой и отзывчивой душой. Знали это в совхозе все, но никто никогда о нежной романтической натуре его и душевной потребности помочь даже мухе
в трудной ситуации, и меж собой не говорил. И, не дай бог, самому Дутову открытым текстом в глаза. Романтизм и глубокая доброта были его тайной великой, которую он сам охранял как пограничник рубежи любимой Родины.
По делам и поступкам вся его добрейшая суть была так прозрачно видна, что любили и даже обожали дядю Федю не только свои, целинники. Он был крут, но берёг каждого и за своих мог очень больно заступиться, если обижали напраслиной. А и деревенские из колхоза, к которому прилепился «Альбатрос», при случае искали помощи от Дутова, хотя и свой председатель был не дурак. Правда, пил крепко. А с пьющего заступник, как из дерьма пуля.
Вот когда Федор Иванович был совсем один и накатывало на него то природное, что заложили мама с отцом, люди простые, сентиментальные и жалостливые ко всему сущему. Оно, по их мнению, очень кособоко управлялось Господом Богом. Хотя и продолжали родители верить в милость Божью, да с этой верой и померли оба с разницей в два месяца. За год до отъезда сына на целину. Накатывало на директора Дутова озарение. Он видел будущее. Причем, только в радужной оболочке. Всем будет одинаково хорошо и легко жить, всё будет процветать и приносить радость, не будет зла, зависти жадности и предательства. А только дружелюбие останется у каждого к роду людскому и искренняя любовь к любому труду.
Семнадцатого февраля за директорским столом в конторе ему вдруг стало тепло на душе и радостно. Он как штопор вник вглубь сути своей и ему увиделось как в кино, что бегает народ совхозный по центральной площади, радуется, в снежки играет и песни поёт весёлые. Предчувствие редко подводило Дутова. Поэтому он набрал по прямой связи, проложенной только в «Альбатрос», секретаря обкома партии, который отвечал за производство и общественную безопасность.
– Что, Федя, соскучился? – засмеялся в трубку секретарь. – А я сам собирался тебе звонить часика через два. И как ты угадываешь, что есть новости? Ведь поэтому звонишь?
– Добрый день, Филиппыч! – смехом и ответил Дутов.– Давай, радуй!
– Короче – двадцать четвертого последний день мороза. Будет сорок четыре.
А ночью пойдет циклон с юго-востока. Снег небольшой и ветерок слабый. И подскочит температура сразу до двадцати пяти.
– Да иди ты! – воскликнул Фёдор Иванович.– Вот прямо враз да до двадцати пяти? Политбюро ЦК КПСС постановил?
– Я вот завтра Кунаеву позвоню и твою иронию про Политбюро передам, – продолжал смеяться секретарь. – Пойдешь работать на овощную базу переборщиком несортовой картошки.
Ну, похохотали они так ещё минут пять, потом Дутов ещё раз уточнил прогноз, попрощался по-дружески с Николаем Филипповичем и пошел домой. На душе было хорошо. Радовалась она приятной новости. Неделю всего оставалось потерпеть. Чепуха.
Дома было полно народа. Жена, молодые ребята из клуба. Обсуждали что-то из подготовки к областному конкурсу самодеятельных драматических театров.
Леночка Лапикова, бессменная и единственная с пятьдесят девятого года любовница дяди Феди, вместе с женой Ниной втолковывали наперебой артистам юным и взрослым какие-то тонкости сценической ходьбы. Нина знала, потому что просто была актрисой на родине, в Тамбове. А Леночка с семнадцати до двадцати лет, до комсомольской путёвки на целину в Жуковке своей, которая на Брянщине, тоже была артисткой народного театра «Эффект» в Жуковском районном Доме культуры. Жила она там просто так после школы, ничего не делала. Купалась летом в Десне, загорала, играла круглый год серьёзные роли и собиралась поступать в московский театральный институт имени Щукина. Так ей советовали подруги. Но путёвка комсомольская на целину, о которой громко и часто оповещало с пятьдесят шестого года радио Брянска, перешибла тягу к театру. Потому, что жизнь крутнулась иначе, чем от неё ожидалось. Надо было просто скрыться с глаз населения небольшой Жуковки, но только не в театральном институте. Она получила заветную бумагу, которая зашвырнула её в голую степь кустанайскую, в палаточный городок, а он быстро превратился в прекрасный совхоз «Альбатрос», где она и прижилась. И была у неё куча ухажеров в совхозе. Как и в родной Жуковке. На родине малой она – красивая, высокая, белокурая и фигуристая, да к тому же, не дура совсем, была целью номер один почти для всех созревших пареньков. С одним в девятнадцать лет она, основательно подпоенная шампанским на каком-то дне рождения, закономерно упала в койку, после чего своевременно забеременела. Но паренёк быстро свалил к родственникам в Белоруссию, Леночка с рыданиями сделала аборт в жуковской больнице, но не удачно. Долго болела, хотя врачи местные её всё же вылечили. С неприятной, правда, оговоркой по поводу детей, которых она, к сожалению, иметь не будет никогда. Вот Леночка и ухватилось за путёвку в неизвестность, потому как в родном городке провинциальном жить молоденькой девчонке, которую по пьянке обрюхатили и тут же бросили, оставаться было нельзя. К ней автоматически прилеплялось клеймо шалавы, а ехать в Москву, да ещё в театральный, где нравы у парней и девчонок были совсем разнузданные, Лапикова Леночка побоялась. Родители и подружки убедительно её отговорили. И при всей красоте своей да изящной привлекательности имела Леночка такой рваный шрам на душе, который ухитрился притупить природный инстинкт и приглушил плеск гормонов. В «Альбатросе» сколько ни клеились к ней разные ухари из комбайнеров, трактористов, бывших зэков и шустрых ребятишек, сбежавших от жен и алиментов, не поддалась она никому. Теперь она боялась не аборта, а заразы какой-нибудь. В больнице перепугали. И до директора Дутова, и все последующие годы – кроме него никого больше ей и не хотелось, и не требовалось.
Дутов постоял в холле, послушал деловой щебет молодёжи и густой, бархатный голос жены Нины, да пошел в свою комнату.
Минут через пять прибежала Леночка, поцеловала его в щеку с разбега и доложила, что с десятого марта бригада уезжает в Кустанай на конкурс. Целую неделю её не будет.
– Не выдержу! – театрально воскликнул Дутов. – Сойду с ума. И будет у вас чокнутый директор. А у тебя долбанутый любовник.
– Ну, Федя! – взмахнула большими ресницами Леночка Лапикова. – Сколько прошу тебя! Любовник – обидное слово. Ты возлюбленный. Любимый.
– Иди, Ленка. Потом поболтаем. Занимайтесь пока. А я почитаю. С морозами этими почту привозят два раза в неделю.
Она снова поцеловала его небритую щеку и ушла, кокетливо изогнув ручку в прощальном жесте.
Да… – сказал Дутов, вложив в короткое слово это все воспоминания о последних двадцати пяти годах. Они прокрутились в уме его как киноплёнка при ускоренном десятикратно режиме.
***
Он родился и очень быстро вырос в древнейшем селе Горелое. Это рядом с Тамбовом прямо на речке Цна. И тридцати километров не набегает от города. Его построили на месте ещё более старинных поселений аж в тысяча шестьсот каком-то году и всегда на этой земле растили хлеб. Гореловцы были прирожденными хлеборобами, садоводами и огородниками. Все новые поколения занимались тем же, что и предыдущие. Горелое при советской власти стало зваться колхозом «Верный путь», а название воодушевляло трудящихся. Федя Дутов к земле относился как к маме родной и к двадцати пяти годам умел всё.Было это уже после войны.А вот о войне Фёдора Дутова я расскажу вам позже.Отдельно.Так вот, после войны он не просто агрономил, но для верности поступил в институт имени Мичурина
в городе Мичуринске. Не выезжал из своей области. И через четыре года стал настоящим агрономом. Да таким грамотным, сообразительным и настырным, что его через одну уборочную сразу сделали главным агрономом колхоза «Залив Челновой». Потом ещё три года помотало его по области. И всюду он был главным. Хотели даже директором поставить, но отказался Дутов. На земле ему славно работалось. В свои годы молодые он стал не просто любимцем областного начальства. Его тамбовцы и в Москву возили как породистого коня редкого – напоказ начальству Всесоюзного масштаба. А Дутов Федор производил впечатление не только умениями и достижениями. Это был здоровенный, под два метра, плечистый мужик с мощной грудью и кулаками, похожими на пятикилограммовые гири. Он умел остроумно говорить, уважительно спорить и настаивать на своём, не пригибался перед большими авторитетами, ничего у них не просил и весь его облик говорил о том, что мужик этот – могучий и правильный. И расти бы ему до очень больших людей, которые парятся в больших кабинетах с пятью телефонами. Но он научился уходить от соблазнительных предложений незаметно и ловко, как умная рыба сходит с крючка. Поэтому Федор Иванович никого не обидел отказом а, наоборот, ходил в лучших друзьях. И вот как-то раз в тамбовском театре, куда затащил его приятель из обкома партии, познакомился Фёдор на банкете после спектакля с актрисой. Звали её Нина Игнатьевна Бурцева. Дутов, за всю жизнь имел интимные дела всего с двумя женщинами. Ну, по уважительной, конечно, причине: почти всегда был в поле и времени на женщин не имел. Поэтому чувствовал себя дурачком колхозным рядом со статной актрисой, разговаривающей бархатно и красиво, ведущей себя элегантно, но зазывно. Они долго говорили о чем-то далёком от театра и хлебных гектаров, он острил, она откликалась искренне. А перед тем как расходиться пригласила его на премьеру новой пьесы через месяц. После спектакля они не остались на банкет. Пошли гулять по Тамбову. Шофер Дутова ехал метрах в пятидесяти позади и не знал, не предполагал даже, что через месяц он будет больше её водителем, чем Дутовским. Федор Иванович, погуляв вечер с Ниной Бурцевой, выяснил, что с пьяницей мужем она рассталась два года назад и тут же предложил ей выйти за него замуж. Пока они добрели до её дома, и согласие было получено и день свадьбы назначен. Поженились. Она жила в Тамбове и играла захватывающие роли, а Фёдор делал большие урожаи. За два года такой семейной жизни, когда она приезжала раз в неделю в колхоз, а он раз в неделю – в Тамбов, усадила их судьба как-то на скамейку возле какого-то музея и там она объявила, что увольняется из актрис и переезжает домохозяйкой в колхоз к Дутову. Потом у них родились подряд два пацана- погодка. Росли они здоровыми, как все в деревне. В школу пошли через семь лет в один класс, хоть Витька был младше Кольки на год. В колхозе директору школы и в голову бы не пришло отказать Федору Ивановичу. Так и жили. Ровно, гладко. А вот когда ему стукнуло тридцать четыре, вызвали Дутова в обком. К самому первому секретарю. Там сидели ещё двое. Заместители заведующего отделом сельского хозяйства ЦК КПСС. Потрепались сначала неформально, с лёгкими матюгами, предназначенными для сближения мужского и обозначавшими простоту отношений, взаимоуважение и доверие. После чего за чаем ребята из Москвы объяснили ему, что на целине сейчас очень нужны такие знатоки земли и людей, как он, Федор Дутов. И потому должен он ехать в марте следующего, пятьдесят седьмого, на кустанайщину, на пустую землю целинную, поставить там совхоз и сделать его образцом для подражания всем хлеборобам Союза и, ясное дело, целины. Отказаться было нельзя. Нельзя и всё. Без объяснений.