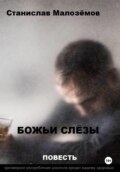Станислав Борисович Малозёмов
Вести с полей
– Вот же, бляха, жизнь! – хлопнул себя по коленям Чалый Серёга. – Ладно, давайте, заканчивайте. Соберёте всю тварь и в яму её. Притоптать. Придавить. Закрыть брезентом с захлестом от рва на два метра. И придавить брезент досками. Это чтобы летуны нам его не обрызгали. А то не радость будет курам, а верная погибель.
– Сделаем, начальник, – засмеялся Валечка Савостьянов, который, оказывается, машину давно оставил и с мужиками тела саранчи месил в яме. А никто его, здоровенного, и не заметил.
– Эй, народ! Кошмар кончился, – крикнул вдаль Данилкин. – Идите к нам. Домой поедем.
– Разбудим Ипатова сперва. Во! – поднял палец Чалый. – Пусть он всех смажет, чем надо, от укусов. Кабы заразы никакой не было.
– Это ты верно сообразил, – сказал Самохин Володя, глядя на уже подходящую, потрёпанную и искусанную, изможденную толпу молчавших тысяч работяг, которые сделали большое, государственной важности дело. Но только вряд ли они об этом думали. А точнее – не думали об этом вообще.
Тяжело и хмуро возвращались бойцы. Завтра им надо было прийти сюда снова и собрать брошенное уже после победы оружие. Небо над головами их, ещё пять минут назад черное, за несколько секунд стало светлеть. Край Земли отметился тоненькой полоской карабкающегося на небо солнца. Вся тысяча мужиков, женщин и детей, покалеченных в сражении с врагом, каждого из которых по отдельности щелбаном можно было прикончить, остановилась, не договариваясь. Светлевшая высь подсказала им, что вот только сейчас он могут узнать, чем завершилось дело их рук. Искусанные, поцарапанные, ободранные от частых падений на бегу во тьме кромешной, запыхавшиеся и покрытые слоем гадкой слизи они все разом повернули тела свои лицом к полю боя. А не было поля. На полтора километра вперёд видели люди только голую землю, в которую весной бросали семя. На ней, земле этой, ещё утром стояли колосья по по пояс. А сейчас, в полутьме, поодаль друг от друга ползали давленные ногами и разбившиеся об тазы и корыта маленькие злобные враги. Жалкие их остатки.
– А ни хрена они не смогли толком! – радостно закричал кто-то с правого фланга, прямо от высоких золотистых, радостно встречавших рассвет, не тронутых колосьев. – Вон он хлебушек! Вон сколько!
Все захлопали в ладоши, глянули ещё раз на погибшее поле и умирающих на нём малочисленных врагов, развернулись и побрели к машинам.
– Во, мля, как! Во как! – почти причитал на ходу уставший и побитый саранчой Артемьев Игорёк. – Взяла наша! Как положено.!
Только распихались люди по грузовикам, только потушили шоферы фары и бросили в кузовы горячие прожекторы, тут и рассвет дернулся на востоке розово-желтой полоской. И верхушка солнца оторвалась от горизонта. Оторвалось от Земли солнышко и как огромный воздушный шар степенно поплыло к небесам
– А ты говорил, не успеем, – засмеялся Чалый и стукнул тихонько Самохина по плечу огромным кулаком.
Дурак ты, Чалый, и балабон! – в шутку обиделся агроном.– Это ж Данилкин говорил.
А вот говорил ли так директор – хрен теперь докажешь. Он же отдельно уехал. На «волге». Туз потому что, бугор, член райкома партии.
А вместе с рассветом с востока, прямо из-за горизонта выплыли два «кукурузника» АН-2 и пошли курсом на корчагинские поля.
– Вот зальют они сейчас полюшко «карбофосом-500», тогда и придет полный и окончательный шиздец и саранче, и опаскам нашим. И будем мы, я вам всем говорю, купаться в золоте богатого урожая, – торжественно произнёс Самохин, агроном.
Но все промолчали. Ответить-то было что. Просто сил не осталось.
Победа, как правило, всегда забирает силу тела.
Но всегда укрепляет силу духа.
Глава двадцать шестая
Повезло всей целине, развалившейся на сотнях тысячах гектаров к востоку от Кустаная. С начала почти и до последних дней августа через день-два падали на пшеницу с просом и овсом разные дожди. Ливни с громом и молниями, да кроме них – обычные хлёсткие, сделанные из медленных крупных капель, и затяжные моросящие. Не осенняя мелкая сыпь, конечно. Нормальные плотные дождики, стартующие с утра до ночи следующего дня. За десять минут быстрого хода от МТМ до конторы, метров пятьсот всего, работяга без зонтика от такой воды с неба вынужден был под конторским козырьком раздеться до трусов, вылить из сапог часть дождика, отжать носки, штаны с рубашкой. А только после этого идти в стены руководящего органа. Ходили в контору по разным делам многие механизаторы кроме женщин, которые оголяться принципиально не желали. И если бы шмотки мужики не отжимали, то по конторским коридорам сотрудникам пришлось бы перемещаться на надувных лодках или вообще вплавь.
Данилкин, директор, в дожди сидел за столом возле окна, покрытого извилистыми ручейками и думал о хорошем, заставляя своё воображение показывать ему поля совхозные. И прямо-таки физически чувствовал он, как тоненько потрескивает земля под каждым колосом, пропуская стебель из земли на воздух. Ввысь. И становился больше колос, и тяжелела его золотистая голова с усиками, да увеличивались, с трудом помещаяя в свои гнёзда янтарные зёрна. Так ориентировало директора Данилкина его воображение на щедрый урожай, теперь уже точно неизбежный.
Вова Самохин, агроном, в сухие дни катался на собственном мотоцикле «Ковровец-175Б» по меже и все клетки до одной аккуратно инспектировал. Где-то он сам пересыпал лишку удобрений, на гектаре, не более. Там пожёг он корни и колоски на этом гектаре. Ну, саранча успела-таки сожрать всего, правда, два гектара. Быстро её согнали и вытравили. Смогли это сделать нечеловеческим рывком в атаку на эту гадость и с помощью хорошей реакции лётчиков. Где-то, конечно, и удобрения с гербицидами не шибко помогли. На голимых суглинках да на многовековых солонцах. Там тоже далеко не пышно колыхались на ветру колосья, но были они всё же повеселее, чем до появления агронома Самохина.
Так сам Данилкин, директор, заключил после личного путешествия по своим полям. Хорошего агронома дал Данилкину «альбатросовский отец родной» Дутов Фёдор Иванович. Мастера дал. Володю Самохина директор не хвалил специально. Чтобы тот не заматерел раньше времени и сам не вознёс себя до Олимпа, где живут боги и полубоги. Но рад был Данилкин несказанно. Только на одиннадцатый год увидел он поле родного совхоза примерно таким, каким его показывают в киножурнале «Новости дня» из зоны Черноземья российского и украинского.
За неделю до массовой уборки, до пятого сентября, агроном принёс ему в кабинет бумажку с расчётами. Там он вычислил, что из четырех с половиной тысяч гектаров «порченными» оказались только четырнадцать. То есть, почти ничего. Средний урожай по всей площади наклёвывался сумасшедший по корчагинским меркам – шестнадцать центнеров с гектара. Семь тысяч тонн с хвостом. Ну, если вычесть жидковатый хлеб с неудобиц, то шесть с половиной тысяч – точно. Данилкин раз пять перечитал Володину бумажку, когда агроном ушел, потом долго сидел, подперев подбородок кулаками, смотрел в одну точку на стене и перелистывал в памяти горькие и стыдные десять прошедших лет целинных. И пшеницу хорошую не могли они всей толпой выдавить из земли, и приписки свои воскресил директор в мозге. Бесстыжие, воровские, за которые он сам и многие кроме него получали ордена с медалями и переходящие красные знамена передовиков. Петра Стаценко, агронома-неудачника, пьяницу конченного вспомнил, смерть его ужасную. Костомарова вынула из души память, помершего в тюрьме по желанию Данилкина. Как живую увидел он вдруг и утопленную Костомаровым собственную жену.
Участие проклятое своё и Софьино во всех смертях увиделось как через стекло увеличительное. И так дурно сделалось Данилкину, директору, через час после неожиданного и глубокого обзора прошлого, что достал он из шкафа бутылку водки и выпил её к вечеру, не прерывая раздумий. Потом откупорил ещё одну, но осилить смог только сто пятьдесят. Не полезло больше. И только тогда совершенно механически он выбрался из- за стола и мелким неверным шагом с горем пополам спустился с лестницы, да почти наугад двинулся к дому своему. Прилечь.
Софья, жена, ничего не сказала. Постелила ему в его комнате на диване, раздела и уложила. И Данилкин до утра уже не просыпался. Он что-то бормотал, иногда во сне матерился, временами кричал что-то вроде: «Я не хотел, я не при чём!». Но в остальном всё было в рамках и, спустив мыслительную горячку, уснул он через часик мертвецким тяжелым сном.
А рано утром агроном Самохин Вова позвал из дома Чалого Серёгу, Потом они вдвоём обошли Кравчука, Олежку Николаева, Валечку Савостьянова и Лёху Иванова. Договорились, что они позавтракают, да возьмут на МТМ комбайны и пойдут по крайним межам поля, по самому окаёму, а там на свал скосят пшеницу по кругу на пятистах гектарах. Это чтобы с послезавтрашнего дня, с начала массовой уборки, все начали косить уже напрямую, на обмолот. Так им легче будет и на поле зайти, и шоферам на машинах по стерне первые десятки тонн забрать от комбайнов будет удобнее. Не помнут колосья.
Ну, мужики завтракать не стали, взяли туески с собой, забрали комбайны свои и разъехались на весь день.
Данилкин не проснулся и к десяти, чего с ним не было в последний десяток лет. И Софья Максимовна, передумав будить его, пошла в магазин за сахаром и ванилином. Пампушки пожелала испечь к ужину. По дороге её догнала жена Олежки Николаева Ольга.
– А! Оленька-лапушка! – поздоровалась с ней тётя Соня. – Ух, ты, ладненькая моя, чудненько Господом нашим сотворённая! Как живёшь, милочка? Что за радости твои, печали какие?
– Откуда радости-то, тёть Сонь? – Оленька Николаева подхватила Данилкину под руку и прижалась тесно. – Обрыдло всё. Жизнь моя поганая осточертела!
Нагулялась – во! Аж тошнит уже. А после разговора с вами, весной ещё, много думать стала про судьбу свою сволочную. Когда за Олега выходила, считала, что он тютя-размазня симпатичная. Не более. Спрячусь за него, за деньги его и жить буду, как хочу. Ему сказала перед свадьбой. А он, дурак, согласился. Ну, и жила, как сказала. Как сучка с вечной течкой. Ну, вы ж знаете всё. А вот после беседы с Вами месяца через два дошло до меня, что ни радости мне нет от того, что все мужики на меня кидаются, ни удовольствия. А любовь, собака такая, есть! Вы не поверите – к этому самому «тюте», который оказался настоящим мужчиной! Ни в Мурманске своём таких не видела, ни здесь. Сын вырос без меня практически. Я всё шалавилась. Девять лет уже пацану. На него похож повадками, силой душевной. Как жалко, блин!
– Чего жалко-то, голубушка? – глянула на неё снизу с улыбкой Софья Максимовна. – Что муж у тебя – мужчина стоящий? Что сына без тебя фактически вырастил? Что отличник производства, один из самых надёжных мастеров? На все руки, кстати. Комбайнер, тракторист, щофер, слесарь, сварщик… Или себя жалеешь, лапушка?
– Да я вот недавно-то и осознала. Было мне, как вы говорите, откровение свыше, – Ольга тихо заплакала. – Что люблю я его. Только его. Испугалась даже. Замуж ведь без любви шла. А тут вон как вывернулась. Что ни подумаю – так всё о нём. И не могу без него. Не гуляю налево полгода уже. А он и не притрагивается ко мне. За год поцеловал один раз в щёчку. На день рождения.
– Он тебя любит, девочка моя славненькая! – Софья Максимовна остановилась и повернула Ольгу к себе лицом. – Мне ребята говорили. Чалый. Савостьянов. Игорёк Артемьев. Чего им врать-то? Он сам им сказывал, что любит всем сердцем, но не знает, как тебя оборотить в семью полноценную.
– Да? – шепотом спросила Ольга. – Так и говорил?
– Ну, милочка ты моя славненькая. Именно так, – тётя Соня остро глядела Ольге прямо в зрачки. – Помоги мужику. Он ведь думает, что ты и раньше не любила, и сейчас не любишь его. И гордость у него заслуженная мужская. Выпрашивать любви не станет.
– Так что делать-то мне теперь, тётечка Сонечка, дорогая?! – судорожно вцепилась Ольга в короткий рукавчик креп-сатинового с горошком платья Данилкиной. – Я хочу, чтоб он стал мне мужем, а я женой не по штампу из ЗАГСа. Любви его хочу. И свою мечтаю ему отдавать. И сыну…
Ольга отошла в сторонку, достала платочек из кармана и, уже не стесняясь, зарыдала от души и безудержно, постоянно вытирая глаза и щёки.
– Знаешь, где он сейчас? – подошла к ней Софья Максимовна.
– Откуда? – не переставала тереть платком глаза Оленька Николаева.
Данилкина подумала немного и попросила её постоять, подождать. Зашла в контору, в кабинет мужа, взяла рацию и нажала на кнопку вызова.
– Самохин! Самохин! Отзовись, это Данилкина.
– Самохин на частоте! – отозвался Вова, агроном, хрипло.
– Николаев Олег где сейчас?
– Косит на третьей клетке, – Агроном подумал секунд пять. – Да это ж прямо рядом с совхозом. Они все обкашивают на свал по краям поля.
– Рядом с совхозом – это где будет поточнее?
– Ну, если по улице Островского к полю идти, то прямо на него и наткнётесь. А на кой он Вам, тёть Сонь? – Самохин тактично покашлял. – Я могу его сам вызвать. Куда его направить?
– Нет, Вовочка, нет, голубок, пусть косит. Не отвлекай. Спасибо, миленький!
Данилкина вышла из конторы. Ольга сама подошла к крыльцу и ждала. Уже не плакала.
– Ты возьми молока бидончик у меня дома в холодильнике, – сказала тётя Соня. – Молочко из деревни Викторовки. От бабушки Пашутиной. Сегодняшней дойки. Внук бабули по утрам Грише привозит. Он у меня любитель молочка. Да и я не отстаю.
– И? – удивилась Оля.
– И иди вниз по улице Островского до поля. Там Олег на свал косит по кромке поля. – Данилкина повернула её лицом к своему дому и подтолкнула. – Пусть он молочко пьёт. А пока будет пить, скажи, что любишь его, жить без него не можешь и хочешь ребёнка. Девочку. А я в это время помолюсь за вас.
– Так у нас же есть ребёнок. Сын Сашка, – оглянулась на ходу Николаева.
– Глупенькая ты дурочка! – махнула руками тётя Соня. – Иди и делай, как я сказала.
Николаев заметил жену издали, развернул комбайн и подъехал туда, куда она щла. Остановился. Спрыгнул. Слева от комбайна торчала стерня и валки пшеницы. Ровные. Золотистые. Справа продолжали расти нетронутые ещё высокие, по пояс, колосья. Там он ещё не косил. Олежка подошел к краю поля и сел на траву. Ждал.
– Привет, Олежек, – тихо сказала Оля. – Молоко вот. Деревенское. Сегодняшнее.
– Привет, – Олег Николаев поднялся, взял бидон и задумчиво стал пить крупными глотками. Выпил почему-то сразу почти литр.
– А чего случилось? – он утер рот рукавом сатиновой полосатой рубахи.
– Ничего, слава богу, плохого, – Ольга поставила посудину на траву. – Пойдем поговорим?
– Ну, тут и говори, – не понял Николаев Олежка. – На фига ходить куда-то?
– Мне на ходу легче высказаться будет, – Ольга взяла его за руку и повела за собой.
Шли они медленно, рассекая коленями густые заросли пшеничных колосьев. И если бы кто видел со стороны, то видно было, что говорит она одна. А Олежка молча смотрит то на неё, то вниз, на землю, мимо хлебного золота. И если бы наблюдал за ними кто, то увидел бы он такую картину:
От кромки травяной в пшеничные заросли унесло их незаметно далеко за километр. Они остановились, смотрели в глаза друг другу и говорили неслышное совсем. Говорили и говорили. Потом обнялись и так долго стояли, слившись в одну неразделимую фигуру. Дул легкий ветерок, солнце пыталось поскорее доползти до зенита, а суслики и полёвки бегали хаотично, нарушая естественное волнение высоких спелых колосьев, которые не могли сопротивляться движению маленьких животных и клонились временами не в ту сторону, куда их направлял ветер.
И, наконец, слившиеся в единую форму тела, тронутые и размытые лёгким маревом от испаряющейся с поля влаги, исчезли. Если бы кто-то глядел всё же со стороны, то он мог догадаться, что эта слившаяся из двух тел фигура осторожно, но страстно упала, подминая собой мягкие стебли, что утонула она в море хлебном, пшеничном. Надолго.
Но никого вокруг не было. Только, может, птицы, порхающие над колосьями, могли подглядывать за тем, что происходило внизу, под стеблями. Но и птицам некогда было разглядывать подробности. Они были очень заняты, птицы. Столько над пшеницей летало мушек, мотыльков мелких и вкусных стрекоз, что к соединившимся в единое целое мужчине и женщине им совершенно не было ни малейшего интереса.
***
Пятого сентября Данилкин прибежал в кабинет в семь утра. Почему – он даже понять не успел. Ноги сами принесли, не подключая к своим быстрым движением голову директорскую. Сел за стол, автоматически набрал номер обкомовского заведующего отделом сельского хозяйства на отдельном красивом телефоне с гербом СССР под диском. Самое смешное, что заведующий, Морозцев Николай Сергеевич, снял трубку. Удивились, похоже, оба. Потому, что секунд пять никто не сказал ни слова.
– Морозцев, – с едва уловимым оттенком изумления сказал наконец Морозцев.
– Фу, ты! – засмеялся Данилкин. – А я просто позвонил, на всякий случай. Приветствую, Николай Сергеевич. Доложиться звоню вот…
– А домой ночью слабо было позвонить? – тоже развеселился Морозцев. – Я бы тогда до рассвета на работу пришел. У меня тут хорошо, в кабинете. Ковры. Диван кожаный. Кондиционер БК в окно воткнули. На хрена – не понял. У меня всегда и так прохладно. Жил бы здесь, да семья не одобрит. А чего звонишь-то в семь часов? Поля твои кто-то украл до последнего колоса? Или другая беда какая?
– Ну, беды, слава КПСС, нет пока. Тьфу, тьфу, тьфу! – переключился на серьёзную интонацию Данилкин, директор. – А сам чего на работе? Ночевал что ли там?
– У меня крепкая семья! – отпечатал в воздухе слова Морозцев.– Это я коров пастись выгнал на рассвете и прямо из парка культуры пошел ваших докладов ждать.
– В парке пасёшь? – Данилкин, директор долго смеялся.
– Ну, да. Вместе с коровами первого секретаря травку дёргают,– Завотделом развеселился.– Зато потом газоны косить не надо. Городу – экономия средств на покос.
Посмеялись ещё минут пять. Отдохнули.
– Я через час массовую уборку начинаю. За десять дней управлюсь. Но есть «но»!
– Чего такое? – насторожился опытный Морозцев. Кожей почувствовал, что сейчас у него Данилкин начнёт что-нибудь выпрашивать.
– Урожай у меня в этом году повышенный. Не буду заранее тебя, Николай Сергеевич, травмировать цифрами, но скажу только, что большие намечаются цифры. А косить такой урожай я буду впервые. У меня агроном новый. И вот как он, стервец, выжал из земли такой могучий хлеб, я пока сам не понял. Ну, блин, просто волшебник какой-то, а не агроном! Но вот косить-то и нечем такой урожай. Мы прикинули. Надо минимум двадцать четыре комбайна. Напрямую буду косить почти всё. Процентов двадцать на свал. Так вот мне бы ещё восемь-десять комбайнов сейчас – и на тебе, Родина, корчагинский трудовой рекорд! А у меня их всего шестнадцать. Подгони комбайны, Сергеич, оттуда, где косить позже начнут. С севера области. А? Не останусь в долгу-то. Ты меня знаешь.
– Гриша, я во лбу почешу, конечно. Но без стопроцентной гарантии. Сейчас. Повиси на проводе. Я по другому телефону в один совхоз звякну.
Данилкин затих. Прислушивался. Но разговор Морозцева с кем-то почти не слышен был.
– Короче так, – сказал заведующий отделом. – Ящик армянского с тебя. Пусть десять твоих орлов едут сегодня же в «Знаменский». К Курдюмову. Заберут комбайны на двенадцать дней. Потом обратно пригонят.
– Два ящика, Коля!!! – воскликнул Данилкин, директор. – С пятью звёздами на наклейке. Вот удружил. Проси и ты у меня, что хочешь!
– А ты спой мне что-нибудь на английском! – продолжал резвиться Морозцев. – Из « Битлз» чего-нито, например.
– Вот после уборки в баньку приедешь ко мне – спою и на французском, и на японском, – Данилкин радостно улыбался. Добыл комбайны! – У меня первач есть такой ядрёный, что после бутылки на двоих мы с тобой и на хинди петь будем!
– Ну, поймал на слове! – сказал Морозцев. – Давай, до встречи в баньке твоей!
– Всё, обнимаю тебя, Сергеич. Выручил. Ну, счастливо!
Данилкин вызвал по рации Чалого, сказал, чтобы он пока не косил, а шел собирать десяток мужиков и сразу чтобы отправил их в «Знаменский» за комбайнами.
Вошел довольный Вова Самохин, агроном.
– Вас народ внизу ждёт. Комбайны, грузовики построены. Все ждём сигнала к началу!
– Пологи на кузова новые взяли? Застёжки крепкие? Зерно не просыплете?
– Всё новое, – Самохин глянул в окно. – Вы идите к народу, а я поеду на ток. Проверю транспортеры. Должны были валы смазать с утра. Лопаты для подбуртовки посчитаю. Должно хватить. Ставлю на бурты и на склад тридцать два человека. Двадцать шесть – женщины.
– Женщины – это хорошо. Они аккуратно подбирают и переворачивают зерно не в размашку, как мужики, а нежно, ласково. – Данилкин надел на лысину кепку и пошел говорить слова напутствия комбайнёрам и водителям.
– Насчет соляры вы тоже не волнуйтесь, – шел с ним рядом Самохин Вова, агроном. – Федор Иваныч дал в кредит ещё пятнадцать тонн к нашим двадцати. Так что, всё оружие в руках. Заряжай-стреляй!
Пока Данилкин говорил простые, смешанные с патетическими слова, настраивающие на безупречный труд, сбоку к нему подобрался потихоньку Серёга Чалый. Дождался пока директор произнесёт магическую последнюю фразу «Вперёд, орлы! С нами Бог и КПСС!», после которой все завели движки, надымили на площади – хоть противогаз надевай, да разъехались по своим клеткам.
– Тебе, Гриша, Самохин ничего не говорил про дороги на ток? И на центральную трассу, по которой сразу в город свозить зерно будем? Наши склады столько не примут. На улице пшеницу тоже долго буртовать нельзя. Дожди могут выскочить неожиданно. Так что, на городской элеватор прямиком должна каждая вторая машина уходить.
– А что дороги? Сухо вроде, – Данилкин вопроса такого не ждал.
– Садимся в твою «волгу» и едем смотреть стёжки-дорожки.
Чалый бегал до этого. Мужиков собирал. Мокрые были у него и волосы, и рубаха на спине.
Прыгнули они в красивую машину и на скорости рванули вокруг полей, а потом до тока, и от него – к трассе.
Осень пришла дружелюбная. Тёплая, светлая. Небо голубое, высокое как летом, а под ним золото. Если прищуриться, то колосьев не увидишь, а в глазах будет отражаться невероятных размеров золотой слиток, ценнее которого могла быть только сама жизнь крестьянская. Поскольку именно она, сложенная из тысяч отдельных, простых незамысловатых жизней, слиток этот благородный, самый нужный всем людям, и отлила. С зимы, считай, начала его лить и вот только к поре, когда начинает трава жухнуть, закончила. Отлила драгоценность. Говорят, что на настоящее золото в слитках нельзя глядеть долго. Глаза будут болеть и рассудок смутится. На золото колосьев, стоящих миллионами перед любым, кто пришел на поле, смотри, сколько вытерпишь. Кроме света бледной с переливами охры, матового и тёплого, доброго, ничего не излучает колос хлебный. И никакой неприятности глазам, а душе с разумом – только радость. Невыразимая не то, чтобы словами, а даже и симфонией классической, Шостаковичем, допустим, написанной. Глядел Данилкин в окно машины на щедрый плод земли и сил людских молча, без улыбки. Потому, что слёзы наворачивались, неуместные в присутствии сурового мужика Чалого, для которого мужская слеза – глупость несуразная, бессмыслица и стыд-позор.
Но Данилкину, директору действительно хотелось плакать. Может от радости, которую несёт в себе золотое пшеничное море. Может от грусти, таящейся в мыслях о будущем, изменений в котором Данилкин уже совсем почему-то не хотел.
– Стоп. Приехали, – Серёга резко затормозил, скинув всю пыль от задних колес на капот и переднее стекло. – Пойдём походим. Вот тебе типичный участок дорог наших. Пройдем метров пятьсот и ты, Ильич, поймёшь, что такой урожай, который мы сегодня получили, возить по этим дорогам – преступление. Хоть какой полог накрывай, а процентов двадцать растрясётся на колдобинах и сожрут наше богатство мыши с сусликами. Но мы же теперь приписывать ничего не будем, да, Ильич? Реального зерна тут сейчас – на три плана. Не жалко, если рассыплем в пыль третью часть?
– Бляха, мать твою! – пройдя сто метров, тихо сказал Данилкин. – А Самохин, агроном долбаный, где глаза свои потерял? Он не видел ухабы эти, что ли? Или ему по хрену? Он же арендованный. Срок у нас мотает. Чужие это для него и поля, и дороги.
– Не…Вова молодец. Не гони на него, – Чалый наступил левой ногой в яму и правую пришлось в колене согнуть. – Он своё дело на пятёрку с плюсом сделал. А это, Гриша, наш с тобой прострел. Я ж помощник твой? Или не я? Так вот если я, то дай мне по башке. Это мне надо было сшурупить в июне ещё. Когда сухо стало и ямки все закрепились на земле. Блин!
– И чего теперь нам делать? – ахнул Данилкин, директор. – Уборку задерживать нельзя. Мы и так за десять дней не сладим с таким урожаем.
– У нас три грейдера. Ну, к трактору одно лезвие приспособим. Есть одно за кузней. Четыре будет, – Чалый смотрел в небо и прикидывал. – Чтобы сегодня до утра дороги выгладить, надо ещё пять лезвий. Где взять? Где, бляха, их брать?
Данилкин пошел в машину, достал рацию.
– Самохин! Самохин! Данилкин на частоте. Ответь. Приём.
– Я Самохин, – проскрипела рация.
– В «Альбатросе» сколько грейдерных машин?
– Девять, – крикнул Вова, агроном.
– Пять штук на два дня выпросишь у Дутова? Горим. Дороги в ямах. Потеряем зерна – страшно сказать сколько. Гладить надо все дороги прямо сейчас.
– Понял! Отбой. Через пять минут я на связи буду. – Рация Самохина пискнула и притихла. Он по другой уже говорил. С Дутовым, наверное.
– Это ж надо как мы прокололись! – Данилкин схватился за голову и начал ботинком пинать ямки, поднимая пыль и кусочки сброшенной ветром на дорогу травы.
– Да не паникуй, Ильич, – Чалый сел в траву. – Подождем маленько.
– Шеф, Самохин на связи, – прохрипела рация.
– Ну! Ну, что, а! – Данилкин губами чуть ли не влез в решетки на панели.
– А едут уже. Пятеро. Машины новенькие. Грейдер будет как заграничные дороги. – Самохин помолчал и добавил.– Дядя Федя сказал, чтоб Вы их заработком не обидели. И если ремонт, то за Ваш счет.
– Так это ж само-собой! – радостно закричал Данилкин, директор. – По высшему разряду оценим помощь. Спасибо, Володя. Пусть они едут к четвертой клетке. Мы с Чалым здесь. Тут всё и объясним.
Чалый поднялся.
– Ты, Гриша, встречай грейдеры, а я быстро сгоняю на МТМ. Своих подгоню сюда же. С этого места и разъедемся. А за тобой я быстро вернусь.
И Чалый улетел пулей. Данилкин даже не догадывался, что его служебный автомобиль может так плавно скользить над ухабами на хорошей скорости.
Ну, в общем обошлось всё. За ночь все дороги привели в божеский вид и по ним можно было ходить с ватерпасом, уровень проверять. Дороги стали ровными как стол у Данилкина в конторе.
…Прошло четыре уборочных дня, после которых все руководители и рядовые убедились наконец, что за такой урожай всем не стыдно будет и перед самими собой, и перед Казахской ССР в целом. Прямо-таки потрясающим и неописуемо богатым был и пшеничный объём, да и просо с овсом тоже шли щедрым валом.
В день пятый директор инспектировал ток и склад.
– Стул принесите мне из буфета, – попросил он Нинку Зиновьеву. Нинка лопату воткнула в бурт и убежала. Через пять минут Григорий Ильич сидел между двумя транспортерами и снизу глядел на взлетающие с обеих лент навстречу друг другу золотые россыпи. Крохотные слитки в полете задерживались на секунды и рушились на гору таких же кусочков золота. Никаких других ассоциаций полёт янтарных зёрен с ленты на бурт у Данилкина не появлялось.
Он сидел на самой середине проёма между двумя лентами транспортёров, внизу сидел, задрав голову. Небо было голубым и прозрачным почти до начала бесконечности. Концов лент он старался не видеть. А ввинтил взгляд точно в то место где, раздаваясь вширь, сталкивались, производя шелест, похожий на глухой звон благородного металла, миниатюрные слиточки золота. Они светились янтарём в бликах солнца и голубизне небесной, эти маленькие крупицы и солнца, и неба, и раскрошенного золота. Зёрна пшеничные. Они ссыпались на горку таких же слиточков, сдвигая их вниз. А сверху уже валился следующий драгоценный поток, наплывал на успокоившиеся золотые дробинки и приводил их в новое движение. И оно создавало иллюзию самостоятельного перемещения живых существ, очень нежных, светящихся изнутри так, будто сумели они задержать в себе по малой частице лучей осеннего солнца.
Очень не повезло тем, кто никогда не видел воздушного плавания в голубизне проникшего в воздух перед буртом неба. Эта картина могла затмить красотой своей любую из работ лучших классиков живописи. Поскольку здесь художником была сама природа. А равных ей в искусстве живописном нет на Земле никого, не было и никогда не будет.
Так глубоко ушел в себя, созерцая прекрасное видение, Данилкин, так плотно слился он с чудом, подаренным землёй, на которой ему довелось жить, что не заметил, что рядом с ним и позади стоят все буртовщицы, Серёга Чалый и Валечка Савостьянов. Все они молчали, слушая шелест падающих зёрен и глядя сквозь слой слетающих с транспортёра пшеничных золотых точек в голубую бездну.
– Кхе! – осторожно, но довольно громко разбил тишину Чалый, чем вывел из транса всех, включая Данилкина, директора.
– А?– произнёс Данилкин и с трудом оторвав взгляд от пшеничных золотинок, перевел его на Серёгу.
– Проблема у нас очередная, – сказал Чалый смурно. – Сейчас мне на рацию сообщил Лёха Иванов. Он сказал, что на телефон МТМ звонили из воинской части. Из Алма-Аты. Сказали, что там задержка у них в косовице вышла по причине дождя беспрерывного. Теперь дня четыре их машины будут возить зерно на элеватор. Комбайны только сегодня смогли поднять скошенные на свал валки. Значит, у нас грузовики будут только через неделю. В лучшем случае.
– Ё-ё-о! – закричал Данилкин, испугав буртовщиц. – Только этого не хватало. Наших машин хватит только на треть урожая. Остальное чем возить? Ну, твою же мать!
– У меня есть мысль, – сказал сзади Валечка Савостьянов.
– И что? На твоей мысли возить в Кустанай будем? – Данилкин поднялся и, держась руками за голову, пошел в степь.
– Ну чего он психует? Хорошая мысль у меня, – Валечка Савостьянов обиделся и отвернулся.
– Ну, говори. Сопливишься, как девушка. Где берём машины? Двадцать штук! Где? – Чалый Серёга развернул Валечку лицом к себе и держал его за рукава.
– В городе берём, – Савостьянов наклонился к уху Серёгиному.– Забыл про Ивахина из автоколонны семьдесят пять тридцать четыре? Он тебе сколько денег должен год уже?
– Тысячу двести рублей. На «москвич» занимал, – вспомнил Чалый Серёга.