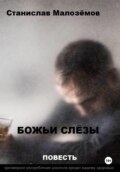Станислав Борисович Малозёмов
Вести с полей
Нина на целину не хотела. Она и так сделала жертву – переехала из театра на деревенскую кухню.
– Лады, – сказал муж. – Покупаю тебе с пацанами квартиру трёхкомнатную в центре Кустаная. Это хороший город. Там и театр отличный, музеев полно, магазинов, да и люди, говорят, хорошие в основном.
– Ну, будешь опять раз в неделю машину за мной присылать,– Нина Игнатьевна оживилась. – И ребята на каникулах в деревне отдохнут. Тоже хорошо. А я, может, в театре буду играть. Тоже здорово.
Пришел март пятьдесят седьмого и они уехали. Дутов всё сделал, как наметили. В драмтеатре, правда, пока места не было. И Нина пошла в театр народный, которым руководил тогда очень приятный человек и киноартист в ссылке. Из-за злоупотребления водочкой, конечно. Но хороший артист. Мотренко Валерий Иванович. И прижилась в театре Нина Бурцева. И было ей интересно и душа её
не пострадала от таких кардинальных жизненных перемен, которые за короткое время после свадьбы-женитьбы пронеслись как заготовленные с рождения, но зажатые до поры пружиной, которую Управляющий судьбами людскими однажды резко отпустил.
И вот сидел в шестьдесят восьмом году сорокашестилетний, здоровый, умный мужик, командор натуральный, значительный и обожаемый всеми. Сидел он в своей комнате на втором этаже своего деревянного терема, думал и никак не мог сложить кубик к кубику события своей странной и необыкновенной личной жизни. Нина – очень преданная, порядочная женщина, которая шла за ним хоть куда и ни разу не сказала слова против, хотя была не обделена разумом и едким острым словом. Добрая, милая женщина. Но не могла она не то, чтобы полюбить, даже влюбиться толком за то короткое время, которого хватило, чтобы связать с ним жизнь навсегда. И это было не просто удивительно. Это выходило за рамки разумного поступка. Но жила она с ним уже долго. Ну, что значит жила? Приезжала на неделю, он к ней ездил на пару дней. Семейная жизнь в исковерканном виде. Но у Нины Игнатьевны было всё, что надо и не очень. У пацанов, выросших к восемнадцати годам почти с отца ростом и телосложением – тоже. Сам он, хоть и жил вольно, за всё время супружества не изменил ей ни разу. Не любитель был Дутов по бабам бегать и охмурять. А вот Леночка Лапикова – это молния. Она, молния, никогда не ищет именно тебя. И ты к ней не бежишь, радостный. Но если вы встретитесь, то сердце твоё сожжёт она мгновенно. Вот именно это и произошло. Он не искал такую, не думал о том, что жены ему не хватает и нужна любовница. А случайно встреченная на току девушка с лопатой, полной тяжелого зерна, как током пробила и душу его и всю суть.
Теперь оставалось только понять, почему они дружны, жена и любовница? Они ведь по всем законам жизни должны ненавидеть друг друга, а заодно и виновника, то есть его, Дутова Фёдора Ивановича. И силился вникнуть, постичь это невообразимое директор Дутов. Даже коньяка полстакана выпил для активизации разумения. Но не помог коньяк. И помочь не мог. Потому, что для понимания и тут, как в сельском хозяйстве, нужны знания. И вот в хозяйстве своём он знал всё. А в тонкостях отношений женщин с мужчинами и жен с любовницами был он необразован и туп как самый тупой угол в геометрии.
***
Нина Игнатьевна Дутова в основном жила городской жизнью. И Кустанай ей нравился. Играла в театре народном, но забегала довольно часто и в областной драматический. У неё там за первый же год образовался приличный набор подруг и друзей. Даже место в шестидесятом году освободилось. Был такой момент. Одну актрису забрали в московский театр имени Маяковского, которым в двадцатых годах руководил сам Мейерхольд. Она улетела на повышение, обалдевшая от восторга, а Нине режиссёр сказал.
– Давай, переезжай. Будешь три главных роли репетировать. В них она работала. И две новых дам. На следующий сезон выпустим пару новых спектаклей. Не тяни, перепрыгивай. Долго ждала, а всё всегда приходит внезапно и нежданно.
Но Нина Игнатьевна отказалась. Сжилась с народным театром. Там не платили, но деньги ей и не нужны были. Точнее, денег у неё всегда было много. Федя давал столько, что она его даже уговаривала притормозить. Девать-то всё равно некуда. Всего в избытке. На еду только. Так для неё много денег и не надо. Отдавала почти всё сыновьям. Они себе велосипеды спортивные купили, лыжи профессиональные, дорогие, одежду заграничную, магнитофоны и транзисторные приёмники. Ну, и много чего ещё. Молодым всегда всего побольше требуется.
Прислал как-то, вроде бы в шестьдесят первом году, летом ранним муж машину за ней. Во вторник. Вечером. Неожиданно. Она всегда по пятницам ездила в «Альбатрос».
– Что-то случилось, Федя?– через ступеньку долетела она до второго этажа и рванула на себя тяжелую дубовую дверь.
Федор Дутов лежал на диване в нарядном свитере и в выходных брюках. В них он в город ездил. В обком. Рядом столик стоял на колёсиках. Блестящий, со стеклянной крышкой и зеркальной полочкой под ней. Всё, что было на столике отражалось в зеркале и стол казался переполненным. В тот раз на столике стояла бутылка армянского коньяка, ополовиненная, рюмка одинокая и резанный кружочками лимон да корзинка с конфетами. Сбоку от стола валялась точно такая же бутылка, уже выпитая. А на окне ждала, похоже, очереди своей и третья.
– А! – не вставая констатировал муж. – Приехала. Садись. Буду плохую правду рассказывать.
– Зачем столько выпил-то? – Нина Игнатьевна налила в рюмку и выпила сама. Плохую правду совсем трезвой слушать непросто. А после рюмки – полегче будто. – Обманываешь меня? Давно чую, что да. Но на кой чёрт тебе выливать мне на голову помои, Федя? Живу себе. Не знаю ничего. И злобы потому нет во мне, и непокоя. Пей уж, раз начал. И помолчи. Пусть у тебя внутри болит. У одного. Сам же себе эту боль придумал. Ну да. Живу далеко, приезжаю редко. Ты тоже. Но ты ж мужик огромный. И силу тебе всю некуда девать. Работа работой, а для своей-то жизни собственной ласки от пшеницы да копоти тракторной нет никакой. Да, Федя?
– Я три года молчал и теперь задыхаюсь. – сел на диване Дутов, упёрся ногами в столик, который тут же откатился по ковру на метр. – И раньше тяжко было, а сейчас что-то лопнуло во мне. Вчера буквально. Наверное, совесть порвалась окончательно на клочки мелкие. Не могу дальше так жить. И по-другому тоже не могу. Вот оно как вылупилось-то всё. Пропади оно пропадом. Как клоун живу. То одну маску надену, то другую. Бляха-муха…
Федор Иванович обхватил голову обеими руками, растрепал волос, подтянул столик и налил рюмку. Конфету развернул.
– А кто она? – спросила жена тихо и спокойно. Сняла шубу. Повесила в шкаф на плечики. – Ваша, колхозная? Совхозная, извини. Молодая, ноги длинные и в башке как в степи – ветер и пустота до горизонта. Угадала?
– Частично, – Фёдор Иванович налил, выплеснул в себя, не морщась. – Наша. Ноги длинные. В голове порядок.
– Любишь? – Нина села рядом и руками повернула голову его к себе. Чтобы глаза встретились.
– Нет. Люблю я тебя и пацанов наших. И буду любить до смерти, как бы у нас всё не повернулось. – Он вздохнул: – А с ней я три года уже почитай как. И хорошо мне, и худо тут же. Я не люблю её. Нет… Нет, не люблю. Она младше вдвое. И не охмуряла она меня, не липла. Даже не видела меня до того, как я сам случайно наткнулся на неё возле зерносклада. Нина, я не знаю, что это. Как называется – не знаю. Не любовь, не страсть. Но без неё не могу уже. И без тебя не могу, без сыновей. Решай теперь.
И он в два захода опустошил бутылку, съел конфету, потом лимон. Он кислющий кружочек желтый разжевал как колбасу. Без выражения на отекшем грустном лице.
– Решай, Нина. Как скажешь, так и будет.
– Ну, я не скажу, чтобы ты кого-то бросил. Меня, например с детьми. Её, например, с длинными ногами и порядком в голове.
– Как это? – Дутов, покачиваясь, встал и стал сверху смотреть на жену напряженно и губы его почему-то задрожали.
– Да никак. Мне хорошо с тобой и сыновьями. Ты моя стена. Щит и меч. Ты -хозяин жизни. Своей, нашей, твоих людей, народа совхозного. Да и сам ты нас бросить не желаешь.
– Никогда, – В левом глазу Фёдора, в уголке, образовалась прозрачная, горячая на вид капля. – Я давно хотел сказать тебе всё. Но не пришлось до поры. А сегодня обломался. Думал, выпью побольше и повинюсь. Вот. Делай теперь что хошь с виной моей.
– А где она, как найти мне твою лю… Ну, молодуху твою?
– Вот за нашим домом сразу. Тоже деревянный. Только маленький. Будь что будет, но поставить всё это кривое прямо просто насущно требуется, – проговорил, путаясь в словах, Федор Дутов и как стоял, так и рухнул на диван лицом вниз. Поворошился малость, да заснул, продолжая бормотать во сне невнятицу вперемежку с глубоким храпом.
В дверь, за которой укрывалась любовница мужа, Нина постучала обручальным кольцом. Звонко на морозе откликнулась золоту мёрзлая доска дубовая. Как короткая автоматная очередь. Открылась дверь быстро и на пороге Нина увидела высокую, красивую белокурую девушку в трикотажном линялом трико и больших домашних тапочках с белыми шариками, пришитыми к верху. Девушка вздрогнула, от потрясения открыла испуганно рот и отшатнулась назад так резко, будто это не жена Фёдора Ивановича пришла, а как минимум баба Яга из страшной сказки.
– Пустишь? – не здороваясь, сказала Нина Игнатьевна спокойно, мягко. – Или на морозе тепло познакомимся?
– Да что Вы! – Леночка распахнула дверь на весь проем и от тихого бархатного голоса Фединой жены дрожь в ней не сразу, но пропала. – Конечно! Проходите. Меня Леной зовут. Раздевайтесь. Вот тапочки ещё одни. Очень мягкие. Заходите, Нина Игнатьевна!
Так вот познакомилась Нина Игнатьевна с Леночкой Лапиковой. Просто, без неприятных взглядов и нервных эмоций, напряжения и неловкости. Только когда Леночка Лапикова дверь закрывала, сама испугалась, увидев свою руку. Пальцы всё ещё дрожали так, будто у неё температура под сорок. Леночка видела её издали не один раз и уже имела предположение, что жена Федина – человек прямой и разумный. Да и Димка Огнев, управляющей развлечениями, отзывался о ней по-доброму.
– Артистки все сволочи в принципе. И дуры конченные, – сказал он.– А Дутовская жена – категорическое исключение. Есть в ней и мозг, и душа честная.
Леночка помогла ей раздеться, проводила к креслу возле деревянного столика, принесла с кухни термос, чашки, шоколадки и яблоки на подносе.
– Любишь Федора? – спросила просто. Нина Игнатьевна, глотнув чая.
– Не знаю я… – отвернувшись к окну, выдавила из души Лапикова Леночка. – Не знаю. Честно. Наверное все же – нет. Но жить не могу без него. Он для меня как для слепого поводырь. Я познакомилась с ним в пятьдесят девятом. Вернее – он со мной. Прислал на ток человека и передал, чтобы я пришла. Я пришла. И после этого без него уже не жить мне. И уехать потому не могу домой. Из Брянска я. Музыкальную школу окончила. Фортепиано. Танцевала в самодеятельности. Потом захотела в театральный поступать. В Москве. Потом напоил меня один на празднике и использовал. Аборт сделала. Рожать не могу теперь. Оттого и на целину поехала, что клеймо на мне. У нас не принято так. А с клеймом тем – не жизнь в Брянске. Провинция. Девушки должны соблюдать себя и жить замужем. А кто шалаву замуж возьмет? Хоть ни до ни после в Брянске не было у меня никого. А здесь…Я только через полгода поняла, что Фёдор Иванович – это мой ангел-хранитель. Не любовник, а возлюбленный ангел-хранитель пути моего по жизни. Простите меня, Нина Игнатьевна.
И Леночка Лапикова зарыдала так горько и безудержно, что уронила из руки чашку с чаем. Чашка издала хруст тонкого фарфора и раскололась на много частей.
Нина Игнатьевна долго думала, глядя на девушку и в пол, по которому продолжал лужицей разливаться чай. Думала, думала, да и заплакала. Тихо. Беззвучно, освобождая в душе место то ли для жалости, то ли для милости. Почему-то никакой неприязни к любовнице мужа не имела она, но даже поразиться этому не успела.
– Знаешь… – Нина Игнатьевна взяла Леночку за плечи. – Не говори никому, ему тем более. – Но мы ведь тоже с ним поженились без любви. После банкета. И для меня он тоже честный, порядочный и единственный ангел-хранитель. Правильно ты сказала. Нет у меня зла к тебе. Не обижай Федю. Он – стена наша каменная, за которой не страшно ничто.
Она надела шубу, шаль, погладила Леночку по голове и ушла. Федор Дутов спал. Она вышла на улицу из своего дома, как из больницы, где ей вкололи лошадиную дозу транквилизатора. Всё вокруг и в ней самой замедлилось и уснуло. Перед ней и мимо неё медленно, как во сне, шла жизнь. Чья жизнь, куда шла и где в это время была сама Нина Игнатьевна, не чувствовалось и не понималось. Сознание было таким лёгким, что взлетело над ней высоко и парило, не понимая, куда опуститься и к кому вернуться. Отреагировала она только на очень резкий, летящий к ней пулей звук. Инстинктивно повернулась в ту сторону, откуда его несло. Там, в ограде банной увидела Диму Огнева. Он самозабвенно колол дрова.
– Димка, а шофер наш где? Вот здесь же машина стояла.
– Да вон же! – Димка показал пальцем и улыбнулся. – Тут и стоит.
Нина с огромным удивлением обнаружила, что она и находится-то рядом с «Волгой». Шофер сидел в заведённой машине и читал книжку.
Она вздрогнула и сознание слетело с неба, вернулось к хозяйке. Открыла Нина Игнатьевна заднюю дверь и на всякий случай очень медленно и осторожно села.
– Поехали в город, Ваня.
– А и поехали! – Ваня на неё смотреть не стал, только глаза к небу поднял и успокоено выдохнул. Потом довольно улыбнулся и сказал: «Сто восемнадцатая». Страницу запоминал.
И машина, пробивая фарами откуда-то возникший туман, быстро выскочила к окружной дороге, к трассе – «Альбатрос – Кустанай».
– Шефу скажешь, что я уехала, потому как спектакль завтра. И не забудь дословно передать. Ваня! Дословно! «Всё остаётся как было. Жизнь продолжается».
– Жизнь продолжается! – эхом повторил Ваня, улыбнулся и прибавил газу
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Все имена и фамилии действующих лиц, а также названия населенных пунктов кроме города Кустаная изменены автором по этическим соображениям.
***
Казгидрометеослужба народ обманула не в первый раз, но в феврале шестьдесят девятого ошибке прогнозистов так обрадовались все, что готовы были и подарками их задарить, и на руках кидать к небу целый день, или всех наградить орденами и золотой звездой Героя социалистического труда. Метеорологи в итоге разнообразных их версий по ходу жизни окончательно наметили смерть морозам аж на пятое марта, но уже двадцать четвертого февраля задолго до сумерек вдруг темнеть стало на вольной природе. Облака сросшиеся побежали ускоренно с юго-востока, скобля задубевший снег лёгким, едва прохладным ветерком, а потом и тучи фиолетовые поползли, а округу всю завесило туманом. Да таким, что народ, перемещающийся с рабочих мест по домам на обед, не понимал, куда идёт. Добирались до родимых хат, включая седьмое чувство и прочие инстинкты. Правда, никто не промахнулся мимо своих калиток, но зрелище было непривычное.
Не было раньше вот именно таких непроницаемых туманов, когда руку вытягиваешь, но пальцев своих уже не видишь. К вечеру туман стал похож на чёрную накидку, которой укрываются фотографы, когда заряжают плёнку в фотобачок. Сквозь неё не проглядывались ни лампочки в окнах, ни звёзды с луной. Не говоря уже о торопливо несущихся по домам разнообразных трудящихся из конторы и прочих тёплых мест. В холодных никто больше месяца уже и не появлялся.
Так вот, каждый понимал, что вокруг него много людей, но никто никого не видел. Потому разговоры на бегу велись деловые, но обрывистые.
– В натуре теплеет! – радовался бывший зек и нынешний местный клоун, который нигде не числился трудящимся, но вкалывал за троих везде, где надо было именно вкалывать. Ну, вы поняли, что это Артемьев Игорёк. Я потом о нём побольше расскажу. Он того стоит. Но сейчас не время. Сейчас надо рассказывать о радости, мучительно ожидаемой всеми. Которая, однако, как и всё самое хорошее, объявляется всегда сюрпризом, внезапно и как бы из-за угла.
– С юга тянет теплом!– восторгался голос Олежки Николаева.
Серёга Чалый, невидимый, но бегущий побыстрее, говорил только два слова, которые нравились всем.
– Пронесло, мля!
– Пронесло! – подхватывал самое точное определение конца ужаса народ.
– Пронесло, сука! Дышло ему в нюх, Ледовитому океану! Это он нам послал смерть ледяную, падла! – сравнительно нежно орал вдогонку уползающему как змей хладнокровный морозу дикому Толян Кравчук.
– Бляха! Я привык в трёх штанах ходить, в трёх свитерах и тулупе! Хожу, бляха, ноги не сгибаю. Как водолаз, мать его! – веселился Валечка Савостьянов. – А теперь в одних штанах и фуфайке я и работать не смогу. И уволит меня Данилкин нахрен. Пойду тогда на трассу милостыню сшибать у шоферов.
Все хохотали и понятно было, что много людей в тумане копошится, домой торопятся. Спешат все своих домашних обрадовать потеплением. Они-то не знают. Потому как в минус сорок семь без крайней нужды даже на крыльцо никто не выходил. Женщины, дети за месяц сидения в четырёх стенах аж пожелтели на лицо.
– Вот обрадуются-то жёны! – ехидно крикнул Кирюха Мостовой. – Шалавиться по теплу куда интересней, чем в дубак!
– Эй!– вставил парторг Алпатов Витёк, который дом свой чуть не пропустил. Чудом угадал, что свернуть надо. – Ты там не обобщай, Мостовой! Свою вон перевоспитывай, а чужих не марай.
– Я её убью, суку! – уже из-за своего забора пригрозил Кирюха вполголоса, чтоб Валентина не услышала через окна.
– Может ты и Стаценко Петюню ножичком в горло ткнул? – заржал Артемьев Игорёк смело. Потому что Кирюха всё одно его в туманище таком не догнал бы.
– Ладно, разбежались молча. Дома сейчас у всех дел будет невпроворот, – Чалый Серёга ради объявления привлекательного даже остановился. – Завтра всему совхозу целый день, если натурально потеплеет, приводить жильё в порядок! Собак на улицу, лишние дрова да уголь – по сараям, окна раздраить, бумагу снять. Кошму с дверей. Ну и по мелочам всё в норму привести. А я завтра к Данилкину забегу, перетолкую с ним как нам послезавтра на площади праздник тепла отметить. С водочкой, закусочкой и гармошками!
– Ура!!! – прямо-таки пропели все, кто бежал ещё, да и те, кто уже во дворах своих двери искал.
– По цепочке всему совхозу передайте! – Чалый тоже добрёл да своего штакетника. И казалось ему, что в доме темно. И крыльца он, как и все, не видел. Но нашел-таки дверь, ввалился в коридор и громко порадовал жену и дочь.
– Всё, Ира! Всё, Ленка! Выжили! Живём дальше! Тепло пошло!
Поужинал он, отдохнул час на диване и пошел на кухню к окну. Фонарик взял. Он ещё не отклеил бумагу от стёкол. Ещё порваться может бумага. А вот завтра таять на стёклах начнет, тогда и снимет. Он подышал в угол стекла и фонарь пробил дорожку света к градуснику. Было уже минус тридцать один.
– Ё-ё-о! – воскликнул Чалый Серёга как пацан, которому на день рождения обещали подарить лобзик, а принесли большой взрослый велосипед с фарой и переключателем скоростей. Жена тоже разглядела температуру из-под его плеча и аж прослезилась. Было от чего.
Весь следующий день, когда уже с утра было минус двадцать шесть и туман высшие силы зараз сдули с совхоза, все увидели друг друга во дворах. Люди носились из домов в сараи и обратно, нацепляли ошейники на собак, привыкших за месяц к глупой человеческой жизни в комнатах. Они отдирали кошму и снимали со стёкол защитницу бумагу, лезли на чердаки и выгоняли оттуда ещё не веривших во спасение своё всяких птиц и птичек, догадавшихся пережить страшный холод в соломе. Все мужики целый месяц взбирались с утра по лестницам к чердачной двери и кидали вглубь крошки хлебные, зерно из мешков, которые успели занести в тепло, картофельную кожуру и остатки от утренней каши, перловой да ячневой. Ну и в соломе птицы что-то своё, только им понятное, находили.
Они, вылетев из чердаков, соединились в большую тучу крылатую и разномастную, громко и радостно каркали, скрипели, пищали и чирикали над домами. Они тоже были рады и жизни, оставшейся у них, и только птицам доступному предчувствию весны.
А после дня хлопот домашних по сортировке всего спасённого пришел обещанный день праздника народного. Этот день был одинаковым во всех хозяйствах целинных, измученных заключением под стражу зверем-морозом.
И в тех, которые потеряли много или почти всё. И в тех, к которым милостивой оказалась природа. Да, может, вовсе и не в природе милость была, а в людях ума побольше да возможностей, которые позволили укрыть, утеплить, спрятать и уберечь. Да, собственно, умные, но бедные хозяйства сразу стали безусловными жертвами холода запредельного и судьба их замёрзла, закоченела вместе с погибшим скотом, птицей, зерном и овощами.
И, конечно, радость людей из разрушенных морозом деревень, сёл и колхозов не была лучезарной. Пить – все в первый теплый день пили. Гуляли на всю катушку и пели самозабвенно. Но одни от радости чистой, а другие от горя с примесью противоестественной радости и призрачных надежд на возврат к прежней хорошей и сытой жизни.
В «Альбатросе», где не случилось ничего, самой грустной бедой был факт обморожения ног одним из совхозных сторожей. Он просто не уберёгся в одних толстых носках и валенках, обходя с берданкой важные объекты. Но в своей же больнице его за месяц выходили и ступни отрезать не стали. Хотя и мелькала у врачей такая мысль.
Корчагинцы самогон хлебали усердно, с упоительным восторгом. Они носились по площади с бутылками, закуской в снятых шапках, с гармошками, баянами и гитарами, сбивались в кучки, разбегались и снова примыкали к другим группам. Женщины пили меньше и потому пели складно, собравшись в случайный хоровой состав, танцевали под баян и аккордеон. С ними рядышком на бешеной скорости кругами носились дети от трех лет до десяти, кидали снежки, которые стали получаться из обмякшего снега. Они метали снежные шарики куда попало, в себя, в хмельных взрослых и просто в никуда. И вот это всё напоминало то ли ликование во здравие Нового года, то ли случайную встречу долгожданной, но неожиданно приплывшей красной девицы-весны.
До поздней ночи не увядал тонус гульбы. И уже ближе к двенадцати трое женщин подперли собой первым директора Данилкина и отволокли его домой. После чего Чалый Серёга, выпивший, может, не меньше прочих, но «державшийся в седле» как непобедимый гусар, объявил громко:
– Хана, братья и сёстры! Перепугали уже до смерти мороз уползающий. Он уже бегом побежал. Ну, а, стало быть, и нам пора. Спасибо всем, кто помогал совхозу зиму выстоять! И тем, кто мысленно был с нами и вдохновлял – тоже поклон в пояс! А теперь пьём отвальную в куче, да по домам. Завтра уже дела начинать надо.
Собрались все в огромный гурт с бутылками, женами и детишками. Чокнулись все со всеми, кто имел бутылки самогона в руках. Да так, что звон стекла и в «Альбатросе», может, услышали. Хряпнули по последней из горла, пообнимались напоследок и расходиться стали.
– Николаев, Савостьянов, Кравчук, Мостовой, Лёха Иванов и Игорёк Артемьев завтра утром к девяти приходят в кабинет к Данилкину, – Чалый утер пот со лба. – План обмозгуем. Надо мирную жизнь в русло вставить. Завтра решаем первую задачу – долгосрочное обеспечение народа едой. Есть вопросы?
– Ты так всегда толкуешь, что нет не только вопросов. Даже ответов нет, – захохотал Артемьев Игорёк.
Через пятнадцать минут площадь стала пустой. Две собаки столовские бегали. Доедали оброненное. И ветер таскал по площади потерянные тонкие женские шарфы, пробки от бутылок и конфетные фантики.
Праздник кончился, горе стерлось самогоном и весёлыми песнями. Снова простая, не тяжкая и не легкая, а обыкновенная продолжилась жизнь.
***
Артемьев Игорёк достиг крыльца своего дома почти по-пластунски. Хороший был самогон у самых разных людей. Своего Игорёк на праздник не принёс. Мало у него оставалось дома. Три бутылки. Остальное выпили с бригадой добровольных спасателей вскладчину за месяц страшного холода. Надо было по-новой гнать. Но сахар кончился. Бражку он за время тридцати двух дневной беготни и разъездов не успел поставить. Дома ночевал редко. Поэтому праздничный выпивон Артемьев заглотил на халяву, хоть и не любил дармовой способ жизни. Но не отказываться же от всеобщего восторга, который без самогона и попроще будет, и скучнее.
– Верну потом, – размышлял Игорёк, подползая к крыльцу. – Приглашу всех во двор к себе, брезент расстелю и тридцать пузырей поставлю. И нахрюкаются они до корней волос. Скажу, что на родину уезжаю. В родимый городок Клин. Вроде как меня там берут помощником зама председателя горсовета по хозяйственной части. И оклад дают аж двести рублей.
На этом мысль его оборвалась, потому как кто-то с двух сторон резко поднял его за воротник телогрейки и поставил на ноги.
– Сюдой зекай, босяк! – справа проглядывалась в темени рожа Колуна, бандюгана приблатненного из города Горького. Он после отсидки за гоп-стоп сначала в Горьком покрутился, а потом подальше от приглядывающих за ним «мусоров» сквозанул в тихое место, в Клин. Там с Игорьком по случаю скентовался, с ним и на целину соскочил. Игорьку самому тоже надо было подальше спрятаться. Нашустрил он драками да своим отточенным мастерством «ширмача» однажды аж на пять лет общего режима. Отсидел три и вернулся в Клин. Там к нему «краснопёрые» и «ноги» приставили и пригляд организовали. Вот они с Колуном призыв на целину и поняли для себя как прыжок в «могилу», где никто уже никого не раскапывает.
– Чё тебе, Колун?– успел спросить Игорёк и тут же отловил чувствительный даже для очень пьяного удар в скулу с другой стороны. Там стоял, держа его за воротник Васька «Сизый», домушник из того же Горького, которого Колун письмом вытащил пять лет назад сюда, в «Корчагинский».
– Значит что-то запамятовал я с этими работами на холодах. Раз они сам пришли, – слегка протрезвел от удара Артемьев Игорёк.
– Ну, чё, Топтун? – рванул его за ворот «Сизый».– Зачушканил мазёвую кентовку нашу, баклан!? Чё за канитель косячишь помимо круга дружбанского?
– Когда я косячил да мутку лепил, вы чё, брательники! Кто меня на отрицалове дыбнул хоть раз? Пошто мне правилово предъявляете?
– Ржавьё куда ныкнул, баклан? – приблизил к Игорьку лицо своё порезанное в молодости Колун.– Ты ж не серый шнырь, чтоб киксовать. Ты ж в Клину своём угловым был, тебя вся босота и бродяги за фуфлыжника не держали. Ты ж козырный фраер, не гопота. А щас форшманулся перед нами как чушок! А, Топтун? Где ржавьё и цацки с последней кустанайской ходки?
– Да на хазе всё, – утер слюни Артемьев, имевший погремуху Топтун среди блатных. Слюни брызнули на подбородок после удара в челюсть. – И то, что на бану притырили, и бобы с кассы потребсоюзовской лавки, и рыжики с ювелирного. Захотите весь выхлоп дербанить, так всё в мешочке. Я ж не вкупился, что вы сразу после колотуна захильнёте рамсы наладить и филки по понятиям продербанить. Как мы после скачка добакланились, так и есть. Я ж вам не шняга и не сявка ссученная. И рыжие на месте, и хрусты… Всё, чё подрезали, всё в ажуре. Чего бы мне жухать?
– Считал хоть? Там лавэшек хоть косарь корячится? – « Сизый» отпустил воротник.
– Там два косаря бобосами да котлов рыжых – ещё на пять косых. Цацки- сплошные брюлики – косарей на пятнадцать, – Игорёк Артемьев протрезвел почти. – Кому-то, может, это алтушки корявые, а по мне так всем хватит, чтоб жихтарить так, чтоб весь нос в марафете и лет пять галюнок не пустел.
– Ты в мороз-то чё делал? – успокоился Колун.
– Шниферил да тучу держал, – пошутил в масть Игорёк. Блатным понравилось. Заулыбались.– Чё я делал? Ливер давил, мантулил как проклятый с корешами. Деревню свою спасали. Ваш дом тоже утеплили, стёкла заклеили, соломы на чердак бросили, угля пять мешков под двери поставили. Колхозу соседнему скот помогали похоронить. Замёрз у них скот целиком. Глухо. Сегодня вон, когда ушел мороз, директор разрешил всем хутарнуть от радости до отрубона. Я счас оттуда и полз. А вы чего отфилонились?
– Да нам на людях поменьше бы рисоваться, – «Сизый» засмеялся. – Мы в самый мороз по ширме ходили в Кустанае. Лохи замерзли. В автобусах лопатники не могли поглубже в карманы утоптать. Ну, мы там и держали садку почти месяц. Потом горчили и гужевались в городе с бродягами местными. Приехали позавчера.
– Тут про нас и так какая-то сука парашу пустила, что мы припухали у хозяина. Вроде как фармазоны мы бывшие. Ещё, не приведи бес, подставят под фигу,– Колун высморкался и плюнул под ноги. – А нам счас мусора, флейши из штемповки кустанайской, как тесак на горле. Кича нам ломится за дела последние. Ладно, пошли, раздербаним да сбарабаем своё – как наездили. По равной лафе на каждого делягу.
Они ушли в дом, Игорёк подкинул в печку немного угля и достал бутылку самогона, стаканы к ним и рыбу сушеную. Занюхивать. Закуски не было. «Колун» взял журнал «Советский экран» и зачитался. «Сизый» открыл поддувало, закурил и дым пускал в него. Наверное, чтобы Артемьеву спать было легче. Без отравы табачной. Потом Игорёк, «Топтун» в воровском миру, достал из под шкафа кочергой мешочек холщёвый, длинный и пухлый. Расстелил на столе покрывало с кровати, поскольку не имел скатерти, и высыпал всё, что было в мешочке.
С минуту все сидели молча, притупев от увиденного. Вроде бы знали – что украли. Но всё вместе, ссыпанное в сверкающую серебром, бриллиантами, золотом, изумрудами и ощетинившуюся бумажными деньгами кучу, впечатление произвело даже на самих кушарей, удачливых воров. Долго разбирали всё, раскладывали по кучкам, деньги пересчитали и отложили отдельно. Наконец, через час примерно все было поделено по мазе, то есть без обид друг на друга и без «отвода». Честно, значит.
– Тут не вздумай барыг искать, – сказал «Колун». Предупредил Игорька: – Поедем втроём в город. Там все кишки сольём. Брюлики, рыжьё. Барыги есть надёжные. А хрусты тратьте, но колган включайте, не сорите бобосами, внимание не привлекайте. Сейчас лягашей переодетых кругом полно. Заставляют их начальнички в злачных местах майданщиков да ширмачей с фармазонами петрить да вязать там же. Забожитесь!
– Сука буду! – откликнулся Игорёк Артемьев.
– Лягавым буду! – утвердил клятву «Сизый».
На том и разошлись. Мужики всё распихали в карманы. Игорёк сложил остаток в мешочек, сунул под шкаф, выпил сто граммов самогона и лёг спать. Но не уснулось сразу-то.
Он долго думал. Было о чём. Так и заснул. В думах.
***