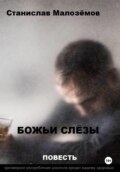Станислав Борисович Малозёмов
Вести с полей
– Мы же с ней железно договорились уже много лет назад – жить в одной хате но отдельно. И без этого дела. Не хватало мне в эту помойку нырять. – Олежка Николаев задумался и притих минут на пять.– И ведь прекрасно жили. А тут, бляха, натуральное изнасилование корячится. Преступление, строго говоря. Лет пятнадцать может получить. Любой суд даст. Или это её кто-то специально надоумил. Просто заставил меня совратить. А я без женщин-то живу в кайф. Туз тузом! Вот ты, Серёга, что думаешь? Это она на спор с кем-то такие фортеля выделывает? А?
– Я пойду сам с ней перетолкую, – Чалый пошел, оделся, сказал чтобы Олежка кантовался на крыльце и его ждал.
Через пять минут он вернулся с хитрой мордой.
– Да поговорил я с ней. Не хочу, говорит больше шалавиться, а мечтаю теперь любить и телесно услаждаться только с родимым мужем. Я, говорит уже две недели без мужика. Забыла как ноги раздвигать, блин! Две недели! Первую ещё терпела. А когда вторая пошла – чую, говорит, что даже через силу не могу ни под кого прилечь, кроме как под законного мужа. А он от меня бегает! Ты, говорит, Чалый, настрой его на меня. Я женщина страстная. Он-то не помнит уже. А ты, говорит, намекни. Пусть повспоминает как до свадьбы мы куролесили. Кровати ломались, блин! Если он со мной не переспит, или я с ним, то пойду и повешусь. Так сильно его хочу! Ну, Олежек! Да отдери ты её как сидорову козу и живите, как все семьи.
Вскочил Николаев, забегал по двору в трусах и калошах, заволновался.
– Нет! – истошно пищал он, нарезая круги. – Я лучше на МТС кузнечными ножницами отхреначу себе хрен нахрен! Но не могу я с ней. Да уже и не только с ней. И даже по пьяне не надо бабу мне. Это кто-то науськал, Ольку! Точно говорю!
– А! Так тут же всё ясно как в азбуке для первого класса. Ну-ка, пойдём со мной. – он вынес Николаеву свитер свой, штаны брезентовые, сапоги и носки старые. Олежка их надел и видно его не стало. Чалый подвернул на нём всё,что подворачивалось, и Николаева уже можно было увидеть. Даже узнать. – Чё я сразу-то не допёр?!
– А куда ломимся-то рано утром? Неудобно же, – вяло сопротивлялся Олежка Николаев.
– К тёте Соне Данилкиной, мля! – Серёга стал весело смеяться. Да так заливисто, что птицы с собаками конкуренции не снесли и заткнулись. – Она ж Нинке Завьяловой нагадала, что Нинка начнет охмурять Ипатова, врача нашего. Нинка говорила мне, что заставила Софья Максимовна её иголку бросить сверху на групповую фотографию нашу. Фотографировались на празднике урожая. Иголка воткнулась в Ипатова. Нинка посмеялась тогда. Она Ипатова в упор не видела и как мужика не воспринимала. Ну, врач и врач. А потом вдруг неизвестно какой силой постепенно стало её, дуру, к Ипатову тянуть, глазки стала ему строить, фигурой кривляться и титьками перед ним махать. Он и клюнул. Сейчас любовнички – никаким лекарством не разольёшь. И водой тоже. Это тётя Соня Ипатову свинью подложила в виде Нинки. А потому, что Гриша Данилкин Соню свою стал к Ипатову ревновать. После того, как он ей аппендицит вырезал. Вот она и сбросила с себя Гришин глаз дурной. Освободилась от предположения. Жене только Ипатовской не ляпни. Вот, чую я, Олю твою она тоже обработала. Девки рассказывали, как на посиделках у Сони ругали Ольку твою. Прорву заштопать советовали. И мужиков ихних не трогать. А то пришибут. Вот добрая тётя Соня и вернула шалаву твою в семью, к законному мужу. Может, свечку ей на голову ставила и заклинала. Может, иконой махала перед носом. Софья Максимовна у баб наших – все одно, что Генеральный секретарь ЦК КПСС у коммунистов. Только намекнет бабе, что ей делать, как та бежит и делает. Как заколдованная.
Они подошли к калитке Данилкиных.
– Я тоже иду? – страшным шепотом спросил Николаев Олежка.
– Не. Тут жди. Я быстро, – Чалый Серёга нажал на звонок. Открыл сам Данилкин и Серёга исчез за дверью.
Через десять минут он вышел, потягиваясь и глуповатая улыбка гуляла по мужественному его лицу.
– Соня её позвала две недели назад и поработала с ней своими методами, которые она привезла сюда. Старинными методами бабок-ведуний, уральских вроде, доставшимся ей от собственной прабабки. Ну, за два часа обновилась твоя Оля. Как пуля вылетела из обоймы шалашовок дешевых и стала верна только мужу. Тебе, значит. А ты брыкаешься. Оле от этого худо стало через неделю. Тело-то её в определенных местах не получало привычного и надобного. Если бы так пошло и дальше, то Оля твоя или с ума бы соскочила, или связала бы тебя, спящего, да изнасиловала.
Николаев Олежка вздрогнул всем телом и голову на грудь уронил.
– Делать-то чего теперь?
– А уже нормально всё, – Чалый улыбнулся. – Она в свою комнату зашла со стаканом соли и свечкой. Через десять минут потная вся вышла. И говорит:
– Раз не прижилось, то пусть снова будет, как было.
– Спасибо, Серёга. Должник я твой вечный. Спас ты меня от неудобицы и трагического развития событий. Значит, будет гулять как гуляла и от меня отстанет?
– Соня сто процентов дала, – Чалый похлопал Олежку по спине. Иди смело домой.
Зашел Николаев в хату, а жены и нет там уже. Убежала куда-то. Точнее, к кому-то. Скорее всего. Если так, то жизнь Олежкина снова втиснулась в своё уютное русло, по которому уже сорок лет текла его разнообразная, но сугубо пуританская жизнь. Не пришла Оля и ночевать. Да три дня подряд. Чем окончательно убедила Олежку, что счастье есть.
Историю с Олежкой Николаевым я не придумал. Мне в шестьдесят девятом году, когда я неделями жил в Корчагинском, собирая информацию для статей в областную газету, рассказал сам Серёга Чалый, у которого я жил весь срок командировочный. Причем много раз за семь лет. И в повести моей это единственный человек, которому я не изменил ни имени, ни фамилии, ни судьбы.
***
То, что в лесу раздавался топор дровосека – это просто полная тишина и безмолвие в сравнении с тем, какое неповторимое и неподражаемое буйство сотен разных звуков, света и цвета, искр, похожих на салют, взлетающих высоко и уносимых ветром то в яркий день, то в тусклое утро или глухую ночь предпосевной или предуборочной кампании. Самый естественный для социалистического хозяйствования, родной с первых же недель после революции, Великий и Непобедимый никакими силами небесными советский аврал, был самым прогрессивным и надёжным способом существования всего, что делалось во имя и ради любимой Родины и всемогущей власти народа.
МТС и МТМ в Корчагинском за десять дней до начала посевной шестьдесят девятого года напоминали со стороны центр вселенной, где полностью сконцентрировалась всесильная энергия космоса, куда сплыл со всех обитаемых созвездий самый разумный разум, куда неведомые благодетели Земли спустили уникальную, чудесную ловкость и умение рукам обыкновенных работяг, которые всю зиму только пробки бутылок открывали неказистыми до поры пальцами. А в роковые часы и минуты, отбрасывающие как весеннюю грязь из-под колёс улетающие в прошлое быстрые дни, приближая посевную с такой скоростью, что ни в одной стране мира никакие тренированные рабочие не смогли бы в первый её день сказать:
– Всё готово, товарищи командиры-начальники! Всё сделано по высшему классу из всего, что было и из всего, чего вовсе не было!
Советский характер, социалистическая трудовая общность и волшебная сила
идей марксизма-ленинизма позволяли сделать из ничего всё, из никого – всё, причём, так добротно, что дай людям на эту же работу в сто раз больше времени и материала, хуже бы получилось. Диалектическая оправданность тяги нашего народа к авралу, к преодолению непреодолимого и свершению рядового, обыденного для советского трудящегося героизма именно в состоянии полной безысходности – это драгоценное клеймо, поставленное на социалистическую действительность калёным драгоценным металлом. Таким драгоценным, какой может быть только у Великой коммунистической партии.
Ни днём, ни ночью, ни утром и вечером не останавливались станки, пылали раздутые мехами от всей души угли в кузне, звенели молоты по наковальням, шипели паяльные лампы, трещали искрами электроды электросварок, визжали пилорамы, стонали электродрели и скрипели, сдаваясь гаечным ключам, огромные крепёжные болты. Люди падали от перенапряга, кого-то рвало от передозировки разнообразными ядовитыми дымами, ранились в кровь руки, от усталости скрючивались и немели пальцы, темнело в глазах и к некоторым на время прилетали потусторонние галлюцинации.
Но всё это, со стороны буржуазных стран глядя, казавшееся диким, глупым, нерациональным и противоестественным, было нашей формой правильной героической жизни, которая к началу утвержденной сверху трудовой кампании выводила измотанный, побитый, обожженный и похудевший народ к полям, которые ждали и были беззаботно уверены в том, что завтра с утра они заполнятся всем, великолепно подготовленным к труднейшей работе в жутких грязях, топях, промоях и прочих ужасах весенней суглинистой и солончаковой целинной земли.
Возможно, самой земле этой и не нужны были жертвы человеческие и ежедневные подвиги, преодолевающие всё. Но советские люди без подвигов и полной выкладки последних сил своих жизнь свою трудовую считали бы унылой и недоброй.
Но что хорошо – ни жизнь сама, ни власть могучая, никогда таких печалей своему народу не доставляла…
Глава шестнадцатая
***
Все названия населённых пунктов кроме города Кустаная, имена и фамилии действующих лиц изменены автором по этическим соображениям.
***
Природу никто не оповещал о том, что первое апреля – день у людей особенный. Обманывать надо в шутку всех подряд, хохмы всякие друг другу подсовывать и розыгрыши. У природы от высших сил задание на все времена года и на день любой одно было – всё делать всерьёз, как положено и определено тысячелетиями. Потому первое апреля текло ручьями по улицам, топило снег солнцем почти горячим на просторах полевых, создавало повсеместно грязь непроходимую и выковыривало из млеющей под тёплым ветерком земли ростки серых, крепких стволиком травинок.
А население дурило друг друга изощренно. С яркой весенней выдумкой и добротным целинно-полевым деревенским юмором.
Игорёк Артемьев не стал мелочиться, а запустил с утра пораньше в народ достоверный, услышанный по радио сразу после гимнов приказ о присвоении совхозу Корчагинский звания города в связи с огромными трудовыми успехами, о начале строительства в совхозе пятиэтажных домов, завода шампанских вин и фабрики по производству мягких игрушек на тысячу рабочих мест.
– Как же я не слышал такого? – поразился Данилкин. – И обком партии молчит. Не совсем, конечно. Про посевную каждый день раз десять долдонят. Но насчёт фабрики и завода шампанских вин ничего подобного не намекали. Закрутились сами перед севом. Забыли. А ведь это переворот в нашей жизни! Нет, революция! Буду пробиваться к заворготделом. Уточнить надо, когда нам готовиться. Видно, после посевной уже.
– Я раньше гимнов проснулся!– кричал Кравчук в толпе обсуждающих новость возле конторы. – Первый даже слышал наполовину, но потом, правда, в сортир побежал. Мог пропустить.
Все остальные проснулись позже и в новость почему-то поверили легко.
– Давно пора, – жарко радовалась Нинка Завьялова, продавщица. – У нас как раз почти тысяча баб. Ну, вместе с мужиками, которые как бабы. Не хуже нас, то есть. Задолбалась я за прилавком танцевать перед каждым. А тут какое благородное дело нам дают! Детишкам радость доставлять. Белочек шить, зайчиков и, наверное, слоников. Это ж какая прелесть для всех – не в грязи по колено шастать, а под люминесцентными лампочками сидеть на мягких стульчиках и выкройки рисовать!
– Хрень всё это, – мрачно сказал Валечка Савостьянов. Он, похоже, тоже помнил про день смеха. – Артемьев ляпнул эту чушь и на МТС пошел. А там его насмерть бочкой от бензовоза пришибло. Лёха Иванов её тельфером на тросу снимал, а Игорек как раз под ней шел. Трос оборвался. Старый был тросик. И… Сейчас Игорёк в морге на вскрытии, а завтра хороним. Так что, никому никуда не уезжать.
Женщины заплакали. Мужики закурили.
– Закопаем с почестями, – сказал Олежка Николаев. Видно, не вспомнил про народный праздник. – Он хоть и придурок, но зимой, в холод жуткий много хорошего сделал для людей. И вообще – работал Игорёк на любом фронте, не жалея себя. Я в «Альбатросе» оркестр закажу и венки хорошие в городе.
Было ещё много всяких разных хохм и небылиц, в которые все вляпались, как в правду. В основном подкидывали их Чалый, Савостьянов и Кирюха Мостовой. Шутки и розыгрыши были беззлобные и все принимали их всерьёз. Ни с кем ничего не случилось, но верили все обманам смешным не потому, что в Корчагинском подряд – одни дураки лопоухие. Нет. Никто просто не вспоминал так быстро, что первое апреля должен быть обдурёж сплошной, народом придуманный и им же узаконенный. Потому, что в головах у каждого был колом всажен роковой и неизбежно набегающий на совхоз день пятого апреля. Первый день посевной. Всё, что происходило до её начала, сметалось на второй, пятый и десятый планы. Про первоапрельский непорочный обман вспоминали чаще после работы, поздно вечером. А многие не успевали воскресить его в памяти по причине круглосуточной сварки, резки, ковки, перетаскивания и укрепления деталей, что доводило до полного исступления и ничего в головы не лезло, кроме желания успеть к утру пятого числа и хоть раз за пару дней прикорнуть где-нибудь в уголке на полчасика
Игорёк Артемьев помогал всем подряд на МТМ, бегал раз десять в магазин за водкой для механиков, видели его все, но про то, что завтра его надо хоронить, никто уже и не помнил. Много забот поважнее было. Успеть вовремя начать посевную – одна забота, вместившая себя как матрёшка все остальные, попутные
К двенадцати дня Айжан Курумбаева привезла на собственном ГаЗ-69, подаренном обкомом за труд ударный, экономиста-счетовода из райцентра. Его отдали на посевную пока. А если понравится он Данилкину, а ему – Данилкин, то и пусть живёт в Корчагинском. Райцентр не против, счетовод – тоже.
– Еркен Жуматаев, – пожал новый счетовод-экономист руку директору. Раньше они не виделись. Айжан постояла минут пять в дверном проеме, убедилась, что лицо Данилкина просветлело и озарилось удовольствием, да потихоньку и ушла.
– Да… – произнёс Данилкин ласково. – Очень, очень рад! Как же тебя отпустили к нам, Еркен? Ты ведь в райсельхозуправлении – фигура! Один из самых-самых!
– Ну, не то, чтобы уж прямо так, – стал смущаться Еркен. – Но, вроде, не жаловались. Так ведь там я – рядовой экономист. А тут буду главным, да?
– А как же! – воскликул Данилкин. – Самым что ни на есть главнейшим!
И дом мы тебе приготовили начальственный. С обстановкой. Двор большой. Можешь кур развести, коз, кроликов. А насчет работы – на тебя надежда огромная. Я-то не шуруплю в экономике вашей. Ну, болван, проще говоря. Бывший учитель географии. На тебя надежда, дорогой. На одного.
Еркен, счетовод-экономист, ещё раз для порядка и соблюдения субординации смутился. – Да вы не переживайте, Григорий Ильич. Совхоз как был передовым, так и будет.
– Оно-то, конечно… – засуетился Данилкин, директор, и побежал к шкафу. Достал «столичную», стаканы и с утра порезанную в столовой колбасу. – Давай за знакомство и новую твою должность.
После третьего стакана они сидели у окна, глядя на ручьи, режущие как ножами дорогу, и пели песню. Каждый свою. Еркен казахскую народную, а Данилкин мычал про подмосковные вечера. Но всё равно получалось складно и общность директора с экономистом после второй бутылки и родилась здоровенькой и окрепла насовсем. Как вроде и была всегда.
– Но бывает, понимаешь, не хватает нам семян тонн пятнадцать-двадцать. И купить уже не у кого и не на что, – печально вспоминал Данилкин. – А у нас же как! Приказ – засеять все гектары. Не выполнишь – снимут в лучшем случае. Посадят – в худшем.
– Вот я и вижу, что вы не экономист! – обнимал Данилкина Еркен. – У экономиста хорошего всегда семян хватает. А не хватает, то в шею гнать этого экономиста. Не умеешь считать – работай сторожем! Верно я мыслю?
– Да, да, очень верно, – обнимал нового счетовода директор.– Но потом-то на этих гектарах не вырастает ничего. Вот беда! Проверка приедет, а там нет колосьев. Опять – или снимут, или посадят.
– Я вам как экономист учителю географии скажу, – закусывал колбасой очередные сто пятьдесят Еркен Жуматаев. – Чувствуете, что не хватит семян, то оставьте пустыми такие места, куда никакая комиссия без помощи Аллаха не доедет. А Аллах помогает в первую очередь несчастным, бедным и обездоленным. Комиссия из областного управления может быть бедной и обездоленной? Да не смешите меня все!
И он увлеченно засмеялся. Надолго и с большой охотой.
– Я, бастык, хороший экономист. Молодой, но хороший. Мне надо, чтобы я рос и выше! – Еркен перестал смеяться и сказал задумчиво. – Ну, года три я с Вами поработаю. А дальше мне путь лежит в город. В областное управление. Вот скажите мне, ата, возьмут в управление счетовода-экономиста из совхоза, который план не перевыполняет, рекордов не даёт и орденов, медалей, грамот и премий не получает заслуженно. Не, бастык, не возьмут.
– Так нам сейчас агронома в аренду дал «Альбатрос», – снова погрузил себя в печаль Данилкин. – Ух, ушлый агрономище. Всё считает-подсчитывает. Каждый килограмм семян, готового зерна, пропавшего, перегоревшего в буртах. Страшный человек. Не подпишу, говорит, ни одной бумажки, если она с моими показаниями не сходится.
-Эх, ата! Григорий-джан! – улыбнулся экономист новый. – Не родился покуда такой агроном, который считает лучше меня, экономиста. Его дело главное – землю щупать. Как любимую женщину. А как нам с ним друзьями остаться – это вы, бастык, доверьте мне самому. У меня все друзья. Врагов не бывает.
– Так мне же потом окончательный рапорт подписывать, – трезво, будто и не выпил литр, сказал Данилкин. – Цифры в нем честными должны быть!
– А я тоже буду подписывать. И агроном, – экономист трезветь не стал, но блеснула в глазах его надёжная и заветная для Данилкина искорка. – Так что, честнее отчетов, чем у нас не будет на целине. Может, только у нашего ЦК перед Московским ЦК будут. Но это меня не обидит. Они же Бас-бастыки!
У них всё вообще – самое честное, справедливое, правильное и мудрое. Да ведь? Так же?
– Ну! Что ты! И в голову не придет усомниться! – Данилкин повеселел. – Не зря мне тебя одного рекомендовали, как самого честного и принципиального экономиста. Значит, поработаем во имя великих свершений и трудовых подарков Родине?
– А то как же! – подхватывал Еркен. – Мне расти надо, агай! Я молодой. Тридцать пять мне. Но это уже тот возраст, когда надо руководить начинать. Иначе – жизнь непутевая пойдет. Умный человек руководить должен. Как Вы, бастык!
Они снова выпили, опять обнялись и запели. В этот раз оба «Подмосковные вечера»
А кто вообще встречал хоть раз довольных, счастливых, можно сказать, людей, которые любили одинаково и работу, и Родину свою, и себя в ней, да чтобы люди эти в радостную минуту не запели эту великую и общую для всех советских трудящихся песню? Да никто и никогда!
***
Четвертого апреля к ночи движение живых и металлических тел в сторону полей напоминало крупнейшую войсковую наступательную операцию, в которую только воздушные силы не включены были. С тем же, что и танковый, грохотом гусениц – к уже распаханным и пока ещё нетронутым, отдыхавшим с осени полям, шёл, освещая путь себе сотнями фар и прожекторов, полк тракторов. Нет, не полк. Дивизия шла. Тракторов было много. Даже сами трактористы не знали, сколько их. Ну, своих было сорок три. Да ЦК и обком прислали корчагинцам три с лишним десятка гусеничных монстров «Сталинец» из южных районов республики, где отсеялись уж недели две назад. Трактора приезжали поездами, прикреплённые как танки к открытым вагонным площадкам. На станции их перегружали в большие грузовики и развозили по совхозам. Самих грузовиков, которые зерно подвозить должны к сеялкам, тоже не хватало ни в одном совхозе. Нет, машин было не так уж и мало у любого хозяйства. Но на собственных, потрясающих размерами целинных территориях, возились бы эти грузовики не десять дней, отпущенных сверху на посевную кампанию. Месяц бы у них на это ушел, не меньше. Тогда и урожай местами созревал бы почти зимой. Ну, под первый снег попадали бы колосья точно и он легко укладывал бы их на землю, ставя в жуткое положение комбайнеров и народ совхозный. У народа в таких случаях не было другого выхода. Только руками добывать колоски из-под первой пороши. Поэтому и на посевную и на уборочную тракторов, грузовиков, сеялок, плугов, борон и другой техники, помельче которая, нагоняли со всех сторон, где уже дело было сделано, сюда, в целинные края.
На поля, где краёв-то как раз без бинокля и не видно было.
Приезжали крепкие, ладненькие и небитые жизнью солдатские машины, грузовики из самых известных казахстанских автоколонн, трактора колесные – МТЗ-80 «Беларусь», отработавшие на более мягких южных полях. Целенькие, не помятые рассыпчатой нежной пашней юга гусеничные гиганты ЧТЗ «Сталинец», Т-100, да ещё трактора поменьше, но тоже «монстры» – ДТ-75 и ДТ-54. Даже первые «Кировцы» работали. По одному-два в хозяйстве.
Вот это была техника – «Кировец»! Для этого, похожего на желтую песчаную гору могучего трактора с шестью огромными колёсами, не было вообще никаких препятствий. Один такой дали лучшей в области трактористке из корчагинского Айжан Курумбаевой. И она без особого перенапряга давала в день по три нормы. Даже сравняться с ней мужики не могли, как ни пыхтели, а чтоб обогнать – пустой номер вообще. Как ей это удавалось – даже сама Айжан внятно объяснить не могла ни своим, ни командированным, ни корреспондентам многочисленным со всего Союза, которых тянуло к ней как мух на мёд.
– Да езжу как все вроде. Плуги да бороны одинаковые у нас, – Айжан всегда улыбалась искренне и широко корреспондентам. Красивая, молодая, с тонким загаром и добрыми глазами. – Как-то оно всё само по себе выходит, айналайын.
В общем такая картина рисовалась людьми, техникой и природой вечером перед началом посевной. Сгоняли всё к краям клеток ближних и далёких, обстукивали молоточками напоследок, где надо, подкручивали ключами для верности болты разные, замеряли десятый раз уровень масла, солярки и бензина, традиционно поругивались полушутливо с водителями бензовозов и щоферами машин с цистернами солярки. Ну, чтобы не забывали следить, кто над кабиной желтый флажок поднял. У кого, значит, горючее кончилось. Фары проверяли на дальний и ближний свет, еду, на три-четыре дня припасённую, и фляги с водой укутывали слоями тёплых одеял, которые придерживали и жар от моторов и солнечное апрельское безумство. Ночевать домой с дальних клеток никто не уезжал. Ночевали под тракторами и машинами на шкурах, купленных у животноводов несколько лет назад.
– Чалый! Слышь, Серёга! – кричал Данилкин. – Поехали на зерносклад сгоняем. Посмотрим – сколько семян недогрузили, а заодно ещё раз проверим как зерно продули горячим воздухом. Не дай бог головня проснется уцелевшая или гниль корневая пойдет от проростков. Это ж как минимум – два-три центнера на гектаре угробит.
– Да я в пять часов смотрел, Ильич! – подошел Чалый. Руки в масле. Здороваться не стал. – А вот с агрономом надо бы отдельно потолковать. То, что он сегодня на собрании говорил, больно мудро. Привыкли в «Альбатросе» этим долбанным научным языком махать. Лично я не понял ни хрена половины. Где он, кстати?
– Самохин! Вова! – Данилкин ладошки рупором сложил и закричал, поворачиваясь по оси, так, будто тонул и мечтал, чтобы именно Вова его вытащил на сушь.
Самохин появился как привидение. У Чалого было даже предположение, что он сплыл сверху, из пустоты.
– Ты попроще скажи мне, учителю географии, что мы имеем за землю на текущий посевной сезон. А то на собрании ты авторитет народу показывал. Как учёный всё доложил, – не удивившись тому, что поразило Серёгу, сказал Данилкин. – А нам, двум дуракам, по простому поясни то же самое, будь ласка.
– Короче, – Самохин Володя поднял вверх указательный палец. – Землю вы увлажнили снегозадержанием на пятёрку. Я замерил. Так аж по триста кубометров на гектар влаги накопилось.Это просто – ого-го! Хорошо – не то слово. Но есть и плохие новости. Которые называются проблемами. Их будем героически решать. Преодолевать непреодолимое, короче. Много размывов глинистых, ям просевших, воды верховой и грязи много. Короче, трактористам и тем, кто на сеялках будет да на боронах сидеть, я заранее выношу свои соболезнования. Хотя все останутся живы. Но только, короче, на половину.
– Чё, совсем поганая земля? Не посеем без приключений? – помрачнел Чалый Серёга.
– Ну… – Володя-агроном закурил, дал по папироске и директору с Серёгой. – Посеем, конечно. Но примерно так, как бабы рожают. Удачно, короче, но в муках! Больно уж грязь адская. Вот в чём, короче, плюха.
– Сей в грязь – будешь князь! – торжественно заключил Данилкин, директор. – Народная мудрость. А народ живёт тысячи лет. Раз такая поговорка не померла, не затерялась, значит, верная она. Надо только глупостей на поле не творить. Аккуратно надо и пахать, и сеять, и боронить. Ну, всё. Разошлись. Готовимся к броску!
И вскоре все стихло. Не горели фары, никто песен не пел и самогон не глотал. Молчаливо стало в степи перед бурей трудовой. Так тихо стало, как перед большой и опасной грозой. Только воздух низкий носил по округе запахи земли сырой, ждущей плуга и лемеха, да смешавшиеся запахи бензина и солярки, которые одни только и могли подтвердить, что здесь, в темноте, затаилась до утра армия. Трудовая. Смелая, умелая и удачливая.
***
– Зря всё вспахали с осени, – Данилкин, директор, курил в постели и сам с собой разговаривал. Софья Максимовна в другой комнате спала с открытой форточкой и дым её не будил. – Говорил же осенью в управлении, что оставлю стерню. Её и отвалим. Она ж воду держит и сольёт с плуга поглубже. Нет же, бляха. Отказали. Поднимай осенью отвал и всё тут. Пусть влаги больше войдет. Ну и что? На поле теперь вода одна. Хоть на лодке плавай. Как ровнять да прикатывать, хрен поймёшь. Да ещё обком торопит. В жизни с пятого апреля не сеяли. С первого мая – самое то. Но, они ж говорят, что весна сейчас ранняя, тёплая. Сейте, говорят с апреля. Больше шансов, что до снега уберёте. А как сеять? Не подсохло ведь совсем поле. Грязь – только свиней в ней купать. Ну, чего теперь? Дня три на закрытие влаги уйдёт. Игольчатые бороны, слава богу, есть в достатке. И прикатать есть чем. Потом по свеженькому пойдём сразу культиваторными лапами, грунт поднимем неглубоко и посеем лентой на три, максимум пять сантиметров глубины. Сеялки вроде подготовили нормально. Не должны забиваться дозаторы… Ну, даст бог день, даст он и…
На этой мысли внезапно отключился уставший Данилкин. Успел только папироску воткнуть в пепельницу на стуле. И уснул с надеждой. И снов не видел.
Жена Соня подняла его в шесть часов.
– Светать сейчас будет, – шепнула она Григорию Ильичу на ухо. – Ты бы шел уже. Без тебя же не начнут. А надо пораньше. В этом году трудно сеять будете. Чую так.
– Накаркаешь, блин, – зевнул Данилкин. – Нормально всё пойдет. Продумали с агрономом позавчера всё до последнего пустяка нежданного.
Он собрался и ушел к первой клетке. Вова Самохин, агроном, уже курил у края поля. Стало светать и Данилкин разглядел, что рыбацкие сапоги его, до задницы поднятые, целиком в грязи. Сверху с сапог тонкими виляющими в грязи струйками текла к земле вода. Видно, что ходил на пашню. Проверял.
– Привет, – дал ему руку директор.
– Рации на всех тракторах есть? На дальних клетках услышат нас? – спросил Самохин и руку пожал.
– Есть. Услышат, – Григорий Ильич подошел поближе к пашне. Рассвело уже прилично и пару километров глаз трудно, но прихватывал. Отвернутая плугами земля блестела как отдраенные ваксой и начищенные офицерские сапоги. Это так ловила первые солнечные лучи вода на пахоте.
– Короче так! – командирским голосом заявил агроном Самохин. – Через десять минут по всей площади всех полей запускаем трактора с игольчатыми боронами. У нас, значит, четыре тысячи гектаров, так?
– Четыре с половиной, – мрачно ответил Данилкин, директор. – И неучтёнка спрятанная, клиньями нарезанная, есть. Резервная. Почти пять тысяч получается.
– Короче, чтобы в десять дней обкомовских уложиться, нам надо выравнивать в сутки по четыреста гектаров, закрывать по влаге и следом сразу сеять, – Вова Самохин три раза больно стукнул себя по шее. – Но я и во сне ни разу не видал такой скорости обработки. Ну, сто гектаров ещё можно сделать. И то, если до полусмерти вкалывать. А на такой почве – больше пятидесяти, короче, и не закроешь по влаге, не подровняешь, не прикатаешь и не посеешь. Будем по этим причинам обкому и управлению гнать «балду». Короче, навешивать им лапшу на уши будем. Другие есть предложения? Звонками, Гриша, телетайпом, как хочешь, делай, но чтобы мы работали, короче, дней двадцать пять, а они получили рапорт, что совхоз отработал посевную за десять суток и три часа.
– Так проверить же могут по ходу, – Данилкин утер пот со лба. – Считай, партбилет сразу на стол и в сторожа вместо должности заворготделом.
– Их в обкоме человек сорок, да в управлении столько же, – улыбнулся Вова Самохин, агроном. Щёку потёр и плюнул под ноги. – А у нас в области почти двести совхозов. Тебя часто на посевной проверяли? Или на уборке?
– Один раз. В пятьдесят седьмом. У меня полторы тысячи гектаров-то и было тогда, – директор засмеялся. – Так по полям и не ездили. Пришли, посмотрели первую клетку возле дороги, ближнюю. Потом все пошли в баню. Потом домой ко мне. До утра пели и анекдоты травили.
– Короче, я объявляю старт, – сказал Самохин, агроном. – Или лучше ты давай! Директор – это солидно, увесисто.
Данилкин трижды сплюнул через левое плечо и достал из кармана рацию.
– Всем, всем, всем! – торжественно прокричал он в шипевшую, перекрытую пластиковыми полосками, дырку с мембраной. – Даю обратный отсчет. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один! Вперёд, родненькие мои! Трудно будет. Тяжело. Но честь ударного совхоза нашего мы не имеем права уронить! Во имя процветания Родины нашей! Ради чести своей и совести! По коням, ребятки! Верю в вас! С богом! Начали!
– Веришь в Господа, Григорий? – серьёзно спросил Володя Самохин, агроном.– Я никому не скажу.
– Да мне по хрену. Скажешь – не скажешь, – окрысился Данилкин. – В кого и во что ещё верить? В КПСС и Политбюро? Вот сам и верь. А в Господа дед мой верил, прадед. И жили, всё у них ладилось. И у меня ладится. А отец мой смеялся над Богом. Кирпичником был. Дома лучшие в Кустанае строил. И верил в Сталина, в социализм и в красное знамя. Спился и помер, царство ему небесное.