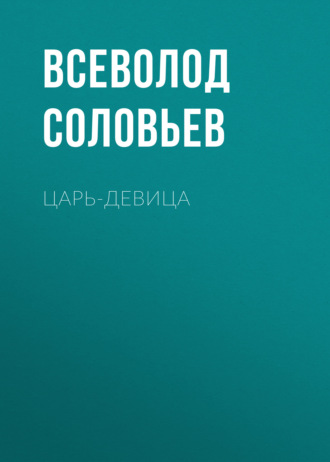
Всеволод Соловьев
Царь-девица
Эти последние слова сразу подействовали.
Арина Панкратьевна немедленно же велела одному из своих многочисленных внуков запрягать лошадь.
Негр вернулся к Любе и сказал, что он все устроил, и что теперь они скоро будут дома.
– Спасибо, – прошептала Люба сквозь слезы, – только вот посмотри, теперь мечется он, а меня все же не узнает.
Малыгин лежал с открытыми, но мутными глазами и тихо стонал.
Негр переменил повязку, осмотрел рану.
– Ну что? Скажи, ради Христа, неужто умрет он?
– Ничего сказать не могу – рана глубокая. Молись, может, Господь и помилует.
Люба прижала к себе руку Николая Степановича, склонила голову и неудержимо, горько плакала.
Через несколько минут телега была готова, и закоулками да задворками Малыгина кое-как довезли до его дома.
XI
Со времен самозванщины не было в Москве такого смятения, такого ужаса, таких кровавых сцен, как в этот несчастный день 15 мая.
Солнце склонялось к западу, в воздухе начинала носиться вечерняя прохлада; но стрельцы еще не угомонились и продолжали бесчинствовать. Опьяненные вином и кровью, они хозяйничали во дворце, в теремах, в церквах и молельнях, ища Нарышкиных и других бояр, значившихся в списке Милославского. Они шарили по всем углам, тыкали окровавленными копьями своими под святые престолы и жертвенники; забирались в спальни царевен, заглядывали под кровати, перетряхивали перины, рылись в чуланах.
Царица Наталья Кирилловна с Петром заперлась в Грановитой палате; теперь уж вокруг нее никого не было. Все ее защитники и родственники разбежались. Кто спешил как-нибудь ускользнуть из Кремля и спастись в городе, кто попрятался по чуланам, под лестницами. Царевны и царевич Иван собрались в молельне теток Михайловен. Многочисленная прислуга женская со страшными криками бегала от стрельцов, но бунтовщики не обращали внимания на женщин – пока им нужны были только изменники. В одном из дворцовых переходов настигли они убегавшего стольника Федора Петровича Салтыкова, приняли его за брата царицы, Афанасия Нарышкина, и убили, а увидя свою ошибку, ожесточились еще пуще, кинулись в комнату царицы Натальи. Там все было пусто, ни души. Стрельцы под кровать – кто-то копошится.
– Коли! – закричали отчаянные голоса. – Наверное, это кто-нибудь из Нарышкиных!
– Пощадите! – раздался писк из-под кровати. – Не убивайте меня – это я… я…
И быстро, с искаженным от страха лицом к стрельцам выполз безобразный карло, известный во дворце под именем Хомяка.
– Тьфу ты! Чуть было оружие свое об этакую пакость не замарали! – отплюнулись стрельцы.
Но карле было не до обиды теперь – он весь дрожал, как лист, и пищал:
– Пощадите, отцы родные, не губите!
– Ты чей же? Ведь ты нарышкинский?
– Да, да, Афанасия Кирилловича…
– А, Афанасия! Где же он? Подавай нам его! Куда он скрылся? Наверно, знаешь, говори сейчас, не то прощайся с жизнью…
– Да я-то почем знаю, милостивцы? – в ужасе выкатив на них свои косые глаза, произнес карло. «Эх! проговорился! – отчаянно подумал он, – дернула нелегкая!»
– А! не знаешь? так тебе сейчас и карачун. Давайте-ка веревку, братцы, повесим его на гвоздик. Пускай-ка здесь покачается, его ветром обдует!..
Карло встал на колени.
– Милостивцы, пощадите – все скажу… знаю, знаю, где Афанасий Кирилыч, он неподалеку… в сенной церкви Воскресения… под престол хотел забраться, так, верно, там схоронился.
Стрельцы дико и радостно вскрикнули и бросились по указанию Хомяка.
Карло залез снова под кровать и слушал.
Прошло несколько минут; вот он слышит вблизи в переходе страшный крик стрельцов, ругательства, потом другой отчаянный, знакомый ему голос. Этот голос только раз один крикнул: «Помогите!» – и даже не докончив это слово, замер.
«Порешили боярина. Царствие тебе небесное, Афанасий Кириллович», – подумал карло и перекрестился.
И не вспомнилось ему, как он, заморенный голодом и холодом, был взят Афанасием Кирилловичем, обогрет и накормлен, как с тех пор только жирел день ото дня на даровых хлебах боярских.
А в то же время другие полки стрелецкие, видя, что в Кремле теперь немного наживы, что изменники, вероятно, успели скрыться в городе, кинулись по улицам, наводнили всю Москву, врывались во все дома, искали всюду намеченных жертв своих. Кинулись они и в дом одного из Нарышкиных, Ивана Фомича; его имя не значилось у них в списке – человек он был невидный, не занимал никакой важной должности, но он носил ненавистное имя и должен был погибнуть. Вслед за этим Нарышкиным убили и знаменитого старого воеводу князя Ромодановского, боярина Языкова, бывшего любимца царя Федора, которого тоже предал им в руки один из его холопий.
И с каждым часом свирепели стрельцы больше и больше, под конец даже не стали руководиться своим списком, убивали всякого, кто им почему-нибудь не показался.
Каждое убийство возбуждало в стрельцах дикий восторг; они тащили труп несчастного по улицам к Кремлю и обращались к безоружному народу московскому с криками: «Любо ли?»
А народ должен был кричать «любо!» и махать шапками, потому что в противном случае – смерть.
Втащив кого-либо из убитых в Спасские или Никольские ворота, стрельцы выстраивались в ряд перед телом, как будто для почета, и кричали:
– Вот боярин Ромодановский едет! Вот боярин Языков… Вот думный едет! Дайте дорогу!
И это продолжалось вплоть до Красной площади, где тела складывались в кучу.
Но и стрельцы, наконец, утомились и решили отложить преследование Нарышкиных до следующего дня.
Мало-помалу они стали расходиться по слободам своим, дорогою иногда забираясь в боярские или купеческие хоромы и требуя себе угощения.
Вот одна из ватаг стрелецких идет мимо дома Долгоруких.
– А ведь это нашего старого сыча хоромы! – говорят между собою стрельцы. – Пожалуй, еще не знает старый, что мы его сынишку-то угомонили. Разнемогся он, болен, с постели не сходит, зайти разве, понаведаться?
– Зачем не зайти – зайдем, да заодно уже и прощения у него попросим, что Михайлу-то убили… ведь он все же наш начальник.
Они стали стучаться в ворота. Никто не отворил им, так они ворота выломали и всей ватагой нахлынули к князю Юрию. Восьмидесятилетний старик, действительно, еще не знал о смерти своего сына. Он лежал на кровати совсем больной и измученный отчаянием и своим бессилием. Он знал, что страшные дела творятся в городе, знал, что его место там, во дворце, близ царя, которого он защищать должен, а вот он не может шевельнуться…
– Здорово, князь-батюшка! – в пояс поклонились ему вошедшие стрельцы.
Вся кровь кинулась в голову старику. Он хотел было подняться, но бессильно упал опять на подушки, только кулаки его судорожно сжимались, да глаза сверкали.
– Что вы? Зачем? Убивать меня, что ли, так убивайте – видите, не могу и пошевелиться.
– Зачем убивать, – отвечали стрельцы, – ты наш начальник. Мы к тебе с поклоном.
Они поклонились ему в ноги.
– Чего вам от меня нужно?
– А вот, князь-батюшка, прости ты нас – грех попутал. Вишь ты, дело-то какое случилось: не воздержались мы и в запальчивости ненароком покончили князя Михайлу Юрьича!
– Что! – простонал старик, снова силясь подняться с кровати и снова на нее падая. – Сына убили, изверги! Сына?
– Так, так, батюшка. Да ведь говорим, грех попутал, ненароком, так уж ты прости нас, забудь про это!
Несколько мгновений князь Юрий в упор смотрел на этих пришедших глумиться над ним извергов. Высоко поднималась грудь его, страшно было лицо его, но губы не шевелились. Наконец какой-то новый огонь блеснул в потухших взорах князя. Страшная усмешка искривила его губы.
– А! Ненароком?.. Ну что ж, Бог простит вам, коли ненароком… Ступайте, скажите моим холопам, чтоб угостили они вас вином да медом, а на меня уж не взыщите – не могу я сам обнести вас чаркою, видите – лежу!..
Стрельцы опять поклонились.
– Спасибо, князь-батюшка, уж где тебе самому, лежи! А мы ничего… мы выпьем!
Они вышли, и князь слышал, как они бражничают в его доме… Слышал и лежал неподвижно. Две слезинки тихо скатились по лицу его. Он перекрестился, прочел молитву, помянул усопшего сына и снова замер… Лежал, как труп безжизненный.
Дверь его опочивальни тихо отворилась, и, заливаясь слезами и неудержимо рыдая, вошла невестка, жена убитого князя Михаила.
Она бросилась к постели старика.
– Батюшка, что ж это, убили моего ясного сокола, закатилось мое красное солнышко!.. Батюшка! И эти убийцы его, эти звери, у нас в доме пьянствуют… что ж это? Где же мой князь? Куда они его дели? Хоть на мертвого мне бы взглянуть на него… с ним проститься…
Она захлебнулась слезами и упала перед постелью. Князь Юрий слабыми, дрожащими руками притянул ее к себе.
– Не плачь, Марья, не плачь, голубка, – сказал он громким, страшным голосом, от которого даже она очнулась и во все глаза взглянула на него. – Не плачь – щуку-то они съели, да зубы остались. Недолго побунтуют, скоро будут висеть на зубцах по стенам Белого и Земляного города. Не плачь, Марья, зубы остались!
В это время стрельцы успели уже напиться и с криками и песнями выходили за ворота княжеского дома.
У самой двери опочивальни стоял один из холопов, недавно провинившийся и наказанный по приказанию князя Юрия. Он вздумал теперь выместить на старике свою обиду и побежал за стрельцами.
– Эй вы, царское воинство, стойте-ка, что я скажу вам! – закричал он им.
Они остановились.
– Князь-то наш грозится, говорит, щуку вы съели, да зубы остались. Говорит, скоро вы висеть будете на стенах кремлевских…
– А! Так вот он как! – завопили стрельцы.
– Ну, это еще посмотрим!
Они побежали назад в дом, ворвались в опочивальню, стащили несчастного старика с кровати во двор, рассекли на части и выбросили за ворота на навозную кучу.
– Вот тебе зубы! Вот тебе щука! – дико кричали они, хохоча над обезображенным трупом. – Вот тебе! Эй вы, княжеская дворня, несите-ка соленую рыбу!
Тот же холоп, который донес на князя, притащил им рыбу. Они положили ее на труп и удалились, повторяя: «Вот тебе щука! Вот тебе зубы!.. Поешь-ка соленой рыбки!»
Другая стрелецкая ватага также порешила отправиться с извинением к боярину Салтыкову, сына которого тоже ненароком убили вместо Нарышкина.
Но старый Салтыков не стал грозиться, он так перетрусил, что мог ответить: «Божья воля!» И сам поднес им вина и пива.
XII
Когда совсем начало темнеть и стрельцы покинули Кремль, оставив у ворот сильные караулы, некоторые спрятавшиеся царедворцы решились выйти из своих убежищ и собрались около царицы.
На Наталью Кирилловну взглянуть было страшно. Она вся дрожала и глядела на окружавших помутившимися глазами. Некоторые попробовали ее успокаивать, но чем тут можно было успокоить?!
– Все пропало! – твердила она. – Убили Артамона Сергеевича!.. Господи, зачем я только его вызвала? Жив был бы теперь, мой голубчик… Не утешайте меня, давайте молиться… давайте молиться перед смертью. Что ж, что они ушли – ведь вернутся, некому остановить их! Смерть нам всем завтра будет!
Она, заливаясь слезами, опускалась на колени перед иконами, горячо молилась, потом вдруг кидалась к сыну, целовала его, прижимала к груди своей, глядела на него с отчаянием. Ее мысли путались… Иногда ей казалось, что она совсем с ума сходит.
Маленький царь Петр все время сидел молча, опустив голову. Румяное лицо его теперь было бледно, глаза устремлены вниз, и только по временам разгорались они. Тогда он вскакивал с места, будто хотел куда-то кинуться, будто ему было душно и тесно… Но сейчас же опять садился и оставался неподвижным.
Некому было теперь его разглядывать, некому было заметить, как изменилось в один день детское лицо его. Еще утром, проснувшись, он глядел на мир божий весело, он был детски счастлив и думал о детских забавах, был совсем ребенок. Теперь же, в несколько часов, все детство скрылось далеко куда-то, новые страшные мысли в голове поселились и не уйдут они. Никогда не забудет он этого дня, этого рокового дня… Припомнит он его стрельцам, когда вырастет…
Из всего царского семейства одна только Софья не упала духом, ни на мгновение не смутилась. Она знала, что ей нечего бояться. Она несколько раз встречалась со стрельцами, и эти стрельцы, эти охмелевшие, окровавленные звери при виде ее прекращали свои ругательства, свои богомерзкие речи, скидали шапки и расступались перед нею с почтением. Да, ей нечего было бояться, она достигла своей цели. Дело, заранее ею обдуманное, приведено в исполнение; враги поражены. Матвеев, разрубленный на части, лежит на площади, не сегодня так завтра рядом с ним полягут и все Нарышкины, все, кто стоял ей поперек дороги.
Правда, она думала, что зараз все будет кончено. Нарышкины ловко попрятались, но ведь найти их всегда можно. Милославские и другие друзья не спят, они не допустят, чтобы так хорошо начатое дело осталось неоконченным. Ужасов много, крови много… Но ведь что ж делать, коли нельзя избегнуть этого. Она поставлена в иные условия, чем простые мелкие люди, ей многое разрешается ввиду тех великих целей, которые перед нею.
Ей уж начинало казаться, что весь этот ужас, все это кровопролитие придумано и совершено не ради ее возвышения, не ради ее будущего счастья и величия, а ради счастья и величия только одной России.
«Одна я могу править государством, – высоко подняв свою гордую голову, решила Софья, – не удалось бы мне это дело, не были бы казнены враги мои – и все наследие отцовское пошло бы прахом».
«Нет греха на мне – самые добродетельные государи, в известных обстоятельствах, должны вести войну со своими врагами; целые войска дерутся в поле, не десятки людей убиваются, а сотни, тысячи; и кто же поставит в вину государю эту войну, предпринятую для блага своей родины?!»
«Я тоже вышла на врагов своих, и кровь, пролитая теперь за мое дело, не должна пасть на мою голову…»
Так успокаивала себя Софья и не сознавала, не хотела сознавать, что эти слова громкие – ложь страшная, и что сама она – в былые тихие дни, когда молчали ее кипучие страсти, когда склонялась она в тишине своей рабочей комнаты над книгой и много думала, много размышляла – сама бы с негодованием восстала на такие суждения и назвала их ложью.
Но ведь ей нужно же было чем-нибудь себя успокоить! Нужно было как-нибудь заглушить в себе какое-то странное, неведомое доныне и мучительное ощущение, которое весь этот день она испытывала, которое начинало возрастать с каждым часом.
Ей нужно было забыться, и силою воли она достигла этого.
Оставшись, наконец, одна и чувствуя, что, несмотря на страшную усталость, страшную деятельность этого дня, она все же заснуть не может, она заставила себя забыть все недавние ужасные впечатления, она глядела на далекое будущее, думала об этом светлом будущем. В ее воображении восставали картины мирного и счастливого жития, славного правления государством, всеобщего поклонения, всемирной известности, громкой славы.
Ей чудилось, что она в златотканой порфире восседает на престоле отца своего; что со всех сторон земных стекаются к этому престолу посланники, именитые люди с грамотами от своих государей. И в этих грамотах иноземные короли шлют ей привет свой, свою тонкую лесть, заискивают ее дружбы, величают ее императрицей, северной Пульхерией Августой.
Под эти роскошные грезы, наконец, заснула утомленная царевна.
Тихая ночь спустилась на землю; над Кремлем зажглись мириады звезд небесных; дуновением теплого ветра со всех сторон из густо разросшихся садов неслось благоухание. В слабом мерцании майской ночи темнела какая-то груда бесформенная посреди Красной площади.
Кругом ни звука; кремлевские обитатели или заснули обессиленные и измученные за этот страшный день, или притаились, запершись в своих покоях, и не подают голоса. Только от ворот, где стоят стрелецкие караулы, изредка доносятся звяканье оружия да оклики часовых. И среди этого всеобщего молчания между соборами на Красную площадь крадется какая-то черная фигура, и распознать нельзя: человек это или зверь. То ползком ползет он, то поднимется на ноги; разглядеть поближе его, так страх возьмет – лицо черное, только глаза блестят да зубы белеются.
Крадется то Иван, верный негр Матвеева. Сумел он своего добиться: весь день вокруг Кремля караулил, улучил удобную минуту, проскользнул в ворота, дождался ночи и выполз теперь на Красную площадь искать своего боярина.
Вот подполз он, чутко озираясь во все стороны, к чернеющей куче. Дрожь берет его, он тихо вздыхает, крестится – видит он растерзанные трупы вокруг, на далекое расстояние вся земля окровавлена, здесь голова, здесь туловище, здесь рука, там нога, и над каждым безобразным куском уже зловонного человеческого мяса склоняется негр и разглядывает, в каждое лицо, искаженное страшными предсмертными страданиями, всматривается. И долго он ищет в потемках, и вздыхает все, и крестится.
А кругом ночь так тиха и благоуханна, и так же невозмутимо и прекрасно сияют небесные звезды.
Вдруг страшный вопль раздается на площади: не мог удержаться черный невольник – нашел он голову Артамона Сергеевича и зарыдал, и заплакал над нею, покрывая ее поцелуями. Как сокровище бесценное взял он эту голову и опять ищет. Мало-помалу собрал он и туловище, и руки, и ноги – ему ли не узнать Артамона Сергеевича!
Сложил изрубленное тело в принесенный с собою мешок, взвалил его на плечи и стал опять красться по площади к кремлевским воротам.
Неудержимые слезы застилали глаза его, сердце разрывалось, вспоминал он всю жизнь свою. «Отец ты мне был, Артамон Сергеевич! – шептал раб, сгибаясь под своей кровавой ношей. – И отныне святыней будет мне твоя могила. Снесу тебя к Николе на Столбах, в ту самую церковь, где познал я Бога и где был ты моим восприемником от купели. Там, в ограде, предам тебя земле и насажу цветочков над твоей могилкой; и днем, и ночью, и в горячий полдень буду приходить туда и молиться…»
Полупьяные часовые дремали. Негр улучил удобную минуту, неслышно прошмыгнул мимо них и скрылся в глухом переулке.
XIII
В укромном домике Малыгина, едва видневшемся из-за густых, душистых ветвей сирени и старых лип, светился огонек лампады. Молодой подполковник то в бреду, то в мучительном забытьи метался по постели. Возле него с распухшими от слез глазами сидела Люба. Время от времени в комнату входил старый стрелец, слуга Малыгина.
– Душно, душно! Воздуху! – говорил Николай Степанович, открывая глаза, но не узнавая Любу.
Она вздрогнула, очнулась от своих мыслей, подошла к окошку и отворила его. На нее пахнуло ночной свежестью, и вместе с этой свежестью доносились пьяные крики расходившихся по домам стрельцов.
Люба вернулась к постели умиравшего, смочила свежей водой полотенце, переменила на голове ему повязку.
– Воды! Пить! – простонал Малыгин.
Дрожащими руками налила она кружку и поднесла к губам его. Он жадно глотал воду, потом опять открыл глаза, приподнялся немного.
– Любушка! Это ты? – прошептали его губы.
Она невольно вскрикнула от радости. Он в первый раз узнал ее, назвал по имени. Но ее радость была непродолжительна, он снова забылся.
– Николай Степанович, голубчик! – проговорила она, глотая слезы.
Он ее не слышал.
Опять одна за другой начали проходить мучительные минуты. Люба пробовала молиться, но теперь ей не шла на ум молитва. Иногда она вставала, на ее лице выражалось страшное отчаяние, она ломала руки, захлебываясь слезами.
– Я, я во всем виновата! Я его на смерть послала! – шептала она.
Она была права. Не она ли взяла с него клятву все силы употребить для того, чтобы отвращать подчиненных ему стрельцов от жестокостей и убийств!
После бессонной и счастливой ночи, которую провели они в этом домике, рано утром отправился Николай Степанович в свой полк, а Люба осталась его дожидаться. Он обещал во что бы то ни стало дать ей знать обо всем, что случится. Она ждала его долго, она слышала, как бьют в барабаны. Вот он наконец явился. И явился бледный, очевидно, измученный.
Он рассказал ей, что Александр Милославский с Толстым уже объявили стрельцам о мнимой смерти царевича, что стрельцы все до единого взбунтовались и идут в Кремль.
– Уж как я их ни упрашивал, как ни уверял – ничего не помогло, меня же на чем свет стоит бранили, чуть не избили.
– Так иди с ними, – сказала ему Люба, – иди! Если они не совсем еще потеряли голову, то там, в Кремле, должны будут убедиться в том, что их обманули. Друг мой сердечный, такие дни пришли, такое дело совершается, что о себе нельзя думать, и если смерть впереди – мужайся! Прими эту смерть… А я, я тоже пойду за тобою. Не бойся, я проберусь осторожно… Я знаю в Кремле все выходы. В сторонке буду я глядеть на тебя, и коли что случится с тобой, так знай, что я буду тут же, мы погибнем вместе. Мне не нужно жить без тебя. Без тебя мне нечего делать на свете!
Малыгин еще раз поклялся ей, что будет ее достоин, что останется верен присяге, которую он принес царю.
Один из первых был он в Кремле со своим полком. Люба тоже недолго оставалась в слободе. Она пробралась в Кремль и притаилась в укромном уголку, в тени у собора, откуда ей была видна вся площадь.
Малыгин много способствовал укрощению стрельцов после того, как им показали царевича Ивана.
Но он был один, окруженный врагами, и ему не было никакой возможности пересилить этих врагов. Он скоро понял, что ничего не сделает, но вдохновленный словами Любы, страстными фанатическими словами, он решился исполнить клятву: умереть за правое дело. Нам известно, что он не отступил в решительную минуту и пал одной из первых жертв своих сотоварищей и подчиненных.
Люба все видела. Она видела, как ему наносился удар, как он упал на ступенях крыльца. В первую минуту даже какое-то торжество изобразилось на лице ее. Но эта минута прошла, туман рассеялся, то, что она считала подвигом, то, что ей казалось в этот последний роковой для нее день великим и прекрасным, теперь представилось совсем в другом свете. Еще не отдавая себе отчета в своих мыслях, она уже знала, что принесла ненужную бесполезную жертву. В ней заговорила страшное, горькое отчаяние, любовь. Она едва дождалась, когда крыльцо опустело, и бросилась к своему другу.
И вот он умирает, он, ни в чем не повинный! Но нет, это невозможно!
Он снова очнулся, он снова произнес ее имя, он будет жив!
– Ох! Как болит голова! – сказал Малыгин Любе. – Давно это было? Как я здесь очутился? Расскажи мне…
Она стала ему рассказывать, и он мало-помалу все припомнил. Но от этих усилий мысли боль в голове еще увеличилась. Страшная слабость была во всем его теле.
– Люба, я умираю! – прошептал он.
– Ах, зачем ты это говоришь! Нет, нет, ты не умрешь, ты останешься жив…
– Умру, Люба, чувствую, что не могу жить… В голове, как свинец растопленный… прощай, Люба!..
– Милый, голубчик, – задыхаясь, говорила она, – так ведь это я, одна я причиной твоей смерти… Боже, какое страшное наказание за мою глупость! За что я и тебя и себя погубила?!
– Не вини себя! – перебил он ее.
Но с таким трудом ворочался язык его, что она едва его понимала.
– Не вини себя… Ты помогла мне исполнить долг мой… Я умираю как честный солдат…
– Ну так умрем вместе!
– Нет, нет, Люба, ты должна жить… жить. На свою жизнь ты не имеешь права… Аль не боишься греха, аль забыла Бога?! Ты должна жить, живи, живи долго, счастливо, забудь обо мне… Видно, не судьба была… Только мелькнуло, и все кончено… Прощай, Люба…
Он хотел сказать еще что-то, но мысли его внезапно спутались. Он впал в прежнее забытье и лежал неподвижно, только грудь его высоко поднималась.
Люба крикнула не своим голосом. Вошел старый стрелец, наклонился над Малыгиным.
– Отходит! – крестясь, прошептал он. – И попа теперь достать негде, помрет без покаяния…
Но Люба еще не верила, она еще ждала, что вот-вот он снова откроет глаза и она услышит его голос. Прошло несколько долгих минут, показавшихся ей вечностью.
Дыхание Николая Степановича стало ослабевать, потом еще один тяжелый вздох – и все замолкло.
– Умер, умер! – застонала Люба.
Она наклонилась к груди его – невозможно было сомневаться в страшной истине. Люба будто потеряла рассудок; что-то говорила, но ни сама она, ни старый стрелец не понимали слов ее. Наконец она выбежала в соседний покой, схватила со стены, на которой висело оружие, кинжал и уже готова была вонзить его себе в грудь, когда сильная рука стрельца ее остановила.
– Полоумная! Бога побойся, что ты делаешь? Али ты басурманка? Очнись. Войди вот лучше, помолись-ка над покойником, поплачь, так отойдет от сердца.
Стрелец вырвал из руки ее кинжал, почти силою втолкнул ее в спальню и запер дверь.
Она хотела подойти к Николаю Степановичу, но не дойдя до кровати, упала на пол. Это был не обморок, просто ее оставили последние силы. Ее глаза были открыты. Она все видела вокруг себя, видела бледное лицо покойника с обвязанной головой, слышала, как уходит и приходит стрелец, что-то приготовляет, слышала, как из открытого окошка доносятся крики и песни. И рядом со всем этим, рядом с действительностью перед нею проходили ярко, страшно ярко другие картины.
Ей чудилась Красная площадь, толпы стрельцов, величественная фигура несчастного Матвеева…
Она видела Николая Степановича – не того, который лежит теперь неподвижен и мертв, – а другого, живого… У нее в ушах звучал его голос, его нежные речи, речи прошедшей ночи. Что-то огромное, холодное, тяжелое, как пудовый камень, давило грудь ее, но ни одна слезинка теперь не выкатилась из глаз ее, и всю ночь напролет провела она в этом страшном состоянии. Только к утру очнулась.
Покойник лежал уже на столе обмытый и одетый старым стрельцом в парадное платье. Шатаясь, подошла к нему Люба и опустилась на колени.
– Прости, милый! – громко сказала она, как будто он мог ее слышать. – Сладко было бы мне умереть с тобою. Одна минута – и нет муки, и тишина, и спокойствие. Но ты теперь там, у Бога, в обители райской, куда меня, грешную, не впустят. Нет, я буду жить, как ни страшна жизнь моя… И этой жизнью я искуплю мою вину пред тобою. Я до дна выпью чашу… я буду молиться за тебя и за всех невинно погибших, за всех несчастных… Буду молиться до тех пор, пока Господь не простит меня и не возьмет с этой страшной земли, где одна только мука, один ужас, одно заблуждение… И тогда, когда грешные молитвы мои будут услышаны, тогда я свижусь с тобою!.. Прости, мой милый!..
Слезы хлынули из глаз ее на холодную, уже окоченевшую руку Малыгина. Эти слезы ее облегчили. Теперь она все видела, все понимала. Она знала, что будет делать.
XIV
Рано утром 16 мая царица Наталья Кирилловна собрала бояр и родственников своих, которые скрывались в Кремле. Старый патриарх Иоаким тоже явился на это совещание. Для всех было ясно, что ужасами вчерашнего дня еще далеко не закончились бедствия, что стрельцы, торжествующие и безнаказанные, вернутся снова и кончат, пожалуй, тем, что перебьют всех без исключения.
– Что же делать?
Конечно, один только остается выход: бежать из Кремля, из Москвы, скрыться куда-нибудь подальше, в монастырь уединенный и ждать, пока в войске улягутся страсти. Но как бежать, когда Кремль со всех сторон окружен сильными караулами и когда часовые следят зорко?
Послала было Наталья Кирилловна разведать, нет ли хоть какой-нибудь лазейки, но посланные вернулись с безнадежным ответом. Очевидно, руководители стрельцов приняли все меры для того, чтобы заградить спасение изменникам.
Приходилось ждать страшной участи. Полное отчаяние изображалось на всех лицах. Призрак смерти стоял перед всеми и в особенности перед Нарышкиными – ведь прежде всех их ищут; они обречены на погибель. Бежать нельзя, нужно опять скрываться, но куда? Вчера ватаги стрельцов рыскали по всем покоям, сегодня будет то же самое.
Не успели еще решить вопросы, куда и как скрыться, как раздался бой барабанов, набат и крики. Вооруженные стрельцы опять стояли перед дворцом, требовали выдачи Ивана Кирилловича Нарышкина, а если им его не выдадут, то грозились перебить всех бояр.
– Ну, так будем готовиться к смерти! – сказала царица каким-то вдохновенным голосом. – Я брата им не выдам… Пойдемте все в Грановитую палату, запремся там. Пускай кто-нибудь выйдет к этим извергам, пусть им скажут, что нет Ивана Кирилловича, чтоб они лучше и не требовали его выдачи!
Бояре стояли, переминаясь с ноги на ногу. После угроз стрелецких никому не было охоты выходить к ним.
– Так я пойду, государыня, – сказал Тараруй, на которого мало обращали внимания среди страха, всех объявшего.
Ни царица, ни ее приближенные и не замечали, что один Хованский вне опасности, что он свободно расхаживает всюду, не ищет себе убежища, не боится стрельцов. Ему и выход из Кремля доступен, он и не ночевал во дворце: пробрался сюда рано утром.
Он вышел на площадь, стрельцы его окружили.
– Что ж, это верно говорит князь! – толковали некоторые. – Ведь нельзя нам уходить без него, – сам ты говорил, что он первый царский душегубец, что он примерял уж и царскую корону.
– Не будет вам Нарышкина, – сказал им Хованский. – Царица объявила, что ни за что не выдаст брата.
– Так что ж это она, – завопили стрельцы, – брат, брат, да ведь и изменник же он, ее же сына – царя изменник, так как же она его не выдаст?!
– Видно, хоть и изменник, а все же ей дорог, – усмехнулся Хованский. – А коли так, братцы, коли так поступает Наталья Кирилловна – не выгнать ли и ее из дворца? – заключил он.
– Любо! Любо! – в один голос отвечали стрельцы.
– Только теперь обождите. Пожалуй, еще постойте, может, они и образумятся, а то так уходите да и опять завтра возвращайтесь.
– Не уйдем мы без Ивана Нарышкина. Что ж такое – вот Матвеева убили, Долгоруких с Салтыковым тоже, а главный изменник жив. Никак нельзя нам уйти, Иван Андреевич!
– Так я и говорю вам, завтра возвращайтесь, а караулы у ворот держите – ведь он здесь, никуда не убежит. А за день-то и за ночь они все притомятся… Ну, вот, может быть, и будут сговорчивее. Добром-то лучше без лишней крови.
Стрельцы подумали, подумали.
– Что ж, это верно говорит князь! – толковали некоторые. – Зачем кровь проливать даром, так-то лучше донять их томлением!
– Но все же ты, князь-батюшка, – обратились стрельцы к Хованскому, – поди да скажи царице, что коли не выдаст она нам брата, так мы и до нее доберемся. Так, может, мы его и сегодня получим…
Хованский возвратился в Грановитую палату.
– Плохо дело, – сказал он, – придется, государыня, выдать Ивана Кирилловича, а то вот они уж и тебе грозятся.
– Я готова к гибели, – тихо, едва шевеля губами, произнесла Наталья Кирилловна, – пусть ломятся, не могу же я им выдать брата!
Хованский замолчал и не пошел больше к стрельцам.
Так продолжалось вплоть до часу пополудни. Стрельцы не позволяли себе вчерашних бесчинств, во дворец не врывались, но на площади кричали и ругались громко. Наконец, видя, что Нарышкина им все же не выдают, они решились последовать совету Хованского и вышли из Кремля, расставив по воротам новые, крепкие караулы. Царица и бояре вздохнули свободнее – может быть, миновала опасность, может быть, одумались разбойники.







