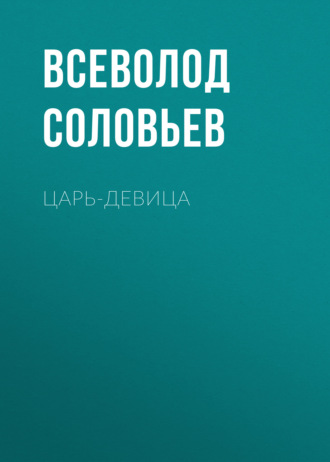
Всеволод Соловьев
Царь-девица
Но Люба ни о чем таком не думает, не дивится на свою неслыханную смелость, не раскаивается. Она думает только о том, как бы ей добраться до Москвы, не погибнуть в дороге. Вот вчера вечером, ух, как жутко ей было: и людей боялась, и зверей боялась еще пуще того…
Так как же все это могло случиться? А случилось оно очень просто. Почувствовав в себе силу подняться после жестоких побоев, бедная девушка вдруг приняла неожиданное для самой себя решение: бежать, бежать из этого ужасного дома, бежать к Царь-девице! И как до сих пор не пришло это ей в голову?!
Но бежать… ей, которая и на мужскую-то половину не могла выйти без того, чтобы ее не обозвали бесстыдницей… Бежать, не зная дороги, не зная, что там и как там, и что с ней будет, ожидая, что и люди лихие, и звери лютые сто раз могут ее погубить, прежде чем она доберется до Москвы!..
Все это, конечно, мелькало в голове Любы, но не смутило ее, не испугало – не такова она была, чтоб чего-нибудь испугаться. То блаженство, тот рай, которые ожидали ее в тереме Царь-девицы, были так чудны, так прекрасны, ее цель являлась такой заманчивой, что, раз почуяв возможность ее достижения, Люба не могла думать о препятствиях и бояться их.
Только как же это сделать? Как выбраться из дома! Как избежать погони?
Целую ночь все обдумывала и придумывала Люба и, наконец, остановилась на единственно возможном плане.
Одна, без чужой помощи, не выйдешь, в своем женском платье не убежишь, не избегнешь погони: нужно нарядиться мальчиком – но откуда добыть одежду?..
Как ни охранялись ходы и выходы женской половины дома, но, конечно, между молодыми девушками и парнями не обходилось без переглядываний и перемигиваний. Один из молодых слуг Перхулова, по имени Федор, или, как все его называли, Федюшка, не раз попадался на глаза Любе. Это был парень лет двадцати, не больше, красивый и бойкий, хотя и довольно глуповатый. Он был давно уже поражен красотою Любы и посылал ей нежные взгляды, а при случае и сладкие словечки. Но Люба не обращала на него до сих пор никакого внимания, ее сердце молчало, да и должно было оно забиться не для какого-нибудь глуповатого Федюшки.
Была суббота. Почти все в доме Перхуловых отправились ко всенощной. Люба осталась и как опальная, и как больная, остался и Федюшка по счастливому случаю.
Тишина в доме, темь кромешная.
Люба изловчилась, огляделась и пробралась на мужскую половину, а там, словно ее поджидает, стоит Федюшка.
Он это, он – хоть и темно, а она его разглядела.
– Ай! – вскрикнула Люба и не успела опомниться, как очутилась в крепких объятиях и почувствовала на щеке своей горячий поцелуй.
В первую минуту она было возмутилась и обиделась, хотела оттолкнуть его от себя и убежать обратно в свою каморку, но сейчас же и одумалась.
Она только слабо отстранила его и зарыдала.
– Что ты, ласточка моя? О чем ты плачешь? – тихо и нежно прошептал Федюшка.
– Как же мне не плакать! – сквозь рыдания ответила ему Люба. – Или не знаешь, какова моя жизнь? Или не знаешь, что на мне места живого не осталось – вся как есть избита!
– Ох, знаю, знаю, моя красавица, и, видит Бог, как узнал, так ажно меня до слез прошибло…
– Что ж так? – сказала Люба, останавливая свои слезы. – Чего тебе обо мне плакать – я тебе не своя, а чужая.
– То-то и есть, что не чужая, давно уж я по тебе сохну, Любушка!
– Любишь меня, что ли? – уже твердым и несколько лукавым голосом спросила Люба.
– Больше жизни люблю, за тебя готов в огонь и в воду. То есть пущай все тело мое рвут на части, лишь бы тебя не трогали.
– Пустое – не верю!
Но времени терять было нечего: того и жди их застанут, и быть новой беде. Нужно ковать железо, пока горячо… За смелостью у Любы дело не стало.
– А коли впрямь любишь, так докажи, – сказала она, – выручи из беды, помоги убежать, тогда я тебя в жизнь не забуду.
– Убежать? Бог с тобой – а я-то как же?
Но у Любы на все были придуманы ответы, и справиться с глупым Федюшей ей было нетрудно. Она наговорила ему турусы на колесах, наврала невесть чего: уверила, что у нее есть богатые, знатные родные, что если он поможет ей убежать от Перхуловых, то и весна еще не успеет стать, как они свидятся и с тем, чтоб уж больше не разлучаться. Он тоже хоть и связан с Перхуловыми, да может развязаться – человек не безвольный, а живет по уговору.
Красно и доказательно говорила Люба. Федюшка всему поверил и успокоился, а за поцелуй, которым наградила его Люба, окончательно оказался готовым для нее на что угодно.
Пока все были у всенощной, и сделалось дело. Тайно, так что никто не заметил, принес он ей свое старое платье. Она переоделась у себя в каморке и, получив от Федюшки указание, как ей добраться до его старого дяди, жившего близ московской дороги, шмыгнула за ворота перхуловского дома и через полчаса была уже в снежном поле, за Суздалем, среди ночной тишины, под звездным небом.
Ее сердце стучало шибко. Со всех сторон на нее наступали страхи и ужасы, но она смело шла вперед и только шептала слова молитвы, и только думала о волшебном тереме, где ее ожидает сказочная Царь-девица.
V
Весь день почти без отдыха шла Люба.
Иногда ее обгоняли обозы, тянувшиеся к Москве из вотчин со всяким продовольствием. Она заговаривала с возчиками, расспрашивала, далеко ли до Москвы, и получала в ответ, что еще далеконько. Спрашивала, не знают ли село Медведково, отвечали: «Как не знать, село большущее, знатное. Оно недалече, а все же, коли будет парень пеший идти, до вечера не доберется».
Люба попросила подвезти ее. Возчики согласились.
Еще не успело смеркнуться, как она заметила на горизонте чернеющие строения, церковные главы.
«Это вот и есть Медведково, тут сейчас и поворот к нему, и большая дорога».
Люба поблагодарила возчиков, проворно спрыгнула с воза и бегом пустилась по направлению к селу. Но бежать было трудно – снег глубокий да рыхлый, вязнут в нем ноги, к тому же и сильная усталость начала сказываться.
– Ну, ничего, ничего, – ободряла себя Люба, – там, авось Бог даст, отдохну у Лукьяна, а то ночью в поле жутко.
Она припустилась еще шибче. Вот уже Медведково, как на ладони: село, точно, знатное, большущее, его и за город принять можно.
На розовом горизонте померкающего неба, в значительном расстоянии друг от друга, рисуются две церкви. Избы, расположенные правильными рядами, образуют улицы.
Еще пройти один косогор – и Люба в Медведкове.
Но что это? Что за звуки? Гул, как от многих сотен человеческих голосов. Чем ближе, тем слышнее; что тут такое? Не беда ли какая? Не пожар ли?
Через несколько минут при входе в селение Люба очутилась среди густой толпы народа: тут были и мужики, и бабы, и даже дети. Крик, гвалт, ничего разобрать невозможно.
Люба спросила у первого попавшегося мужика про Лукьяна. Тот взглянул на нее, ничего не ответил и заорал свое, размахивая руками и, очевидно, не обращая внимания на то, слушает ли кто, что он орет.
Спросила она у другого. «Какой там еще Лукьян? Чего лезешь! Откедова?» – ответили ей.
Она замолчала. Расспрашивать теперь, не оглядевшись и не узнав, в чем дело, ей показалось опасным.
Но как тут узнаешь, о чем орут и что у них такое?!
– Антихрист, антихрист, вестимо, антихрист народился, – раздавалось в толпе, – уж видели – в Москве засел!.. Никон-то, вишь, предтеча его…
– Вестимо, вестимо! Эх, окаянные!.. Не оставим святыню в руках слуг антихристовых…
– В церковь, братцы, на попов!
Толпа хлынула к церкви. Люба – за народом.
Что такое? – она ничего не понимала. Слыхала она про Никона патриарха, слыхала, что в чести был великой он, а потом в чем-то провинился и словно бы в заточении где-то, знала и про антихриста, врага рода человеческого, слыхала, что он должен народиться; но что он уж и народился – об этом в перхуловском доме еще не говорилось.
Что-то они будут делать в церкви? От кого ее защищать? Что попы дурного сотворили?
Страх начинал пробирать Любу, но любопытство превозмогало и страх, и она спешила вслед за толпой, несмотря на свою усталость, спешила быть из первых на месте, чтоб ничего не пропустить, чтобы, наконец, понять в чем дело.
Толпа добежала до церкви. Тут у церковной ограды поповские строения. Десятка три мужчин начали выламывать ворота, ворвались во двор и через несколько мгновений оттуда послышались страшные крики и вопли. Вот волокут кого-то…
Люба протиснулась ближе, видит – священник. Он кричит отчаянным голосом, выбиваясь из рук своих мучителей; но никто за него не заступается. Ражий детина схватил его за длинные волосы и повалил на землю. Удар, другой, третий – несчастный священник застонал. Толпа ревет, заглушая его стоны; все спуталось.
Люба, дрожа и затыкая себе уши, с исказившимся от страха лицом, бросилась к церкви.
Вся паперть полна народу; выламывают тяжелые двери.
– Да на крышу, на крышу-то полезайте! – кричат несколько голосов. – На главы церковные!
– Воды, воды давайте, обмывайте кресты водою, ведь опоганили, все опоганили антихристы!..
Тащат откуда-то лестницу и взбираются на крышу с ушатом воды.
Прошло несколько минут; церковные двери выломаны, толпа ввалилась в церковь, и в то же мгновение раздался пронзительный звон во все колокола.
Люба, чуть не сбитая с ног толпой, сама не заметила, как очутилась в церкви.
Между тем вечер надвигался больше и больше, и в церкви было уже совсем темно.
Но вот кто-то зажег лампаду, вот загорелась другая, и внутренность храма осветилась.
Люба стояла, прислонясь к стене, едва держась на ногах от усталости и ужаса, который увеличивался еще тем, что она не могла взять в толк того, куда она попала. Что это такое? И что с нею будет? Она ясно только видела одно, что теперь невозможно ни с кем разговаривать, ни у кого ничего спрашивать; нужно только притаиться, чтобы как-нибудь ее не заметили, – в этом только и спасенье.
Люди, наполнявшие церковь, продолжали голосить и браниться.
В церкви были женщины, и мужики, и люди в монашеском платье.
Прежде всего они начали расплескивать всюду воду, потом схватили мочалки, принялись обмывать церковь.
А это что такое? Какой-то монах выбивает прикрепленную к стене икону, несколько человек подбегают к нему на помощь, икона выбита, брошена на пол, ее топчут ногами.
Люба смотрит, не веря глазам своим – никогда она не видала в жизни своей такого богомерзкого дела, даже никогда не думала, что оно возможно: святую икону топтать ногами!
И будто в ответ на ее мысли раздаются дикие возгласы:
– Топчи, плюй на поганую доску! То не икона, то дьявольское писание! Мойте, мойте скорей святые иконы старого писания!
Люба ничего не понимает. А толпа продолжает бесчинствовать.
– Плюйте на пол!
Но тут новые крики и визг в другой стороне церкви обращают на себя внимание Любы.
Две какие-то женщины положительно беснуются: падают на пол, потом поднимаются, сбили с себя головные уборы, растрепали волосы, вырывают их прядями, царапают себе лица и визжат не своим голосом. Им очищают место и смотрят на них с благоговением.
– Дух, дух в них вселился! – шепчут некоторые. – Вот сейчас заговорит их устами…
Женщины мало-помалу утихают и начинают что-то говорить, но сначала разобрать ничего невозможно. Слова их отрывисты и перемежаются дикими взвизгиваниями.
– Вон попов антихристовых! – наконец уже явственно кричит одна из женщин. – Вон их всех к дьяволу, чтоб не смели переступать святого порога. Божьи люди, не отдавайте врагам церковь, не выходите! Пусть Василий Мыло священнодействует!
– Василий Мыло! Василий Мыло! – раздается по церкви десятками голосов, и толпа вытаскивает из себя маленького взъерошенного старика, в одежде дьячка, с ощипанной седой бородкой.
– Мыло, тебе священнодействовать! Ты наш учитель! – кричат и мужчины и женщины.
– И буду, и буду, – визгливым голосом в ответ на эти крики повторяет Василий Мыло. – А попов нечистых никонианских к дьяволу в когти! Замыкай двери. Не выходи никто – здесь ночевать будем, не покинем святой церкви!
– Вестимо, не покинем, – отвечают многие.
И слышно, как замыкают двери. Люба вздрогнула всем телом. Уйти теперь отсюда невозможно. Еще мгновение – и она почувствовала, как голова у нее кружится, все предметы сливаются, находит какое-то забытье странное. Беззвучно соскользнула она на пол в темном уголке церковного придела и потеряла сознание.
VI
Прошло немало времени, а Люба все лежит, не шелохнется, будто мертвая. Люди, наполняющие церковь, заняты своим делом и в фанатическом возбуждении ничего не видят, ничего не слышат.
Мужики и бабы суетятся, толкаясь и снуя по церкви; не раз натыкались на Любу, но никому и в голову не пришло рассмотреть, кто это такой лежит без движения: живой человек или мертвый и откуда он взялся.
Наконец от чьего-то сильного толчка и чьей-то в темноте наступившей на нее ноги очнулась Люба.
В первое мгновение она ничего не понимала, не могла сообразить, где она и что с нею. Ей казалось, что она грезит, что перед нею не явь, а сон безобразный, тревожный, но мало-помалу стали проясняться ее мысли. Она все вспомнила и приподнялась с полу. Ее болезненная слабость прошла…
В церкви тишина. Народ угомонился, засветили все до одной лампады; Василий Мыло начал службу.
Раздалось разноголосое, нестройное пение под церковными сводами.
Люба тихонько пробралась к дверям, думая, что, может быть, они не на запор заперты и ей удастся как-нибудь проскользнуть на паперть.
Она была уже у самых дверей, когда снаружи раздался сильный стук.
– Кто там? Кто стучит? – спросило несколько голосов из церкви.
– Это мы, с колокольни, впустите святую службу прослушать!
Голос, видно, оказался знакомым, потому что два человека стали отпирать двери.
Люба подвинулась ближе. Вот половину дверей приотворили, вошло несколько человек, сейчас опять запрут, и уж тогда до утра невозможно будет вырваться отсюда.
«Господи, благослови», – сказала про себя Люба и, сама не помня как, проскользнула в готовую захлопнуться дверь, очутилась на паперти и кинулась бежать от церкви.
Но, пробежав минут пять, она остановилась.
Ночь темная, хоть и видимо-невидимо звезд на небе высыпало. Что делать? Первою мыслью Любы было бежать скорей из Медведкова, опять на большую московскую дорогу, подальше от этого страшного, непонятного места, где такие неслыханные чудеса творятся.
Но как же ей бежать? Положим, у нее в котомке большой кусок хлеба, данный ей еще в Суздале Федюшкою; снегу всюду много, можно утолить жажду, но дело не в питье и пище, а в усталости и страхе. Идти всю ночь – сил нет, да и смелости не хватит, а лечь где-нибудь в поле на снег и постараться заснуть – такая ночевка еще страшней.
– Кто стоит? Что за человек? – вдруг раздалось почти у самого уха Любы.
Она задрожала всем телом, разглядев в темноте две рослые мужские фигуры. Бежать – словят и погубят; молчать – то же самое. Но что же говорить? Что им ответить?
– Что за человек? Язык проглотил, что ли? – опять раздается страшный голос, и сильная рука схватывает Любу за ворот.
– Да я к Лукьяну, – бессознательно проговорила Люба, – только пройти вот как – не знаю.
– Откуда ж ты, мальчонко? Из васильевских, что ли?
– Да, я пришел с Василием Мылом, – сама не веря своей смелости, ответила Люба. – Вот меня к Лукьяну послали из церкви, да дороги к избе его не знаю.
– Михай, проводи парня-то – тебе по пути, а то и впрямь он тут в темноте плутать будет, – сказал один из мужиков, тот самый, который держал Любу за ворот.
– Ладно, – ответил другой голос, – иди, что ли!
Люба последовала за своим неизвестным вожаком и скоро очутилась на одной из улиц Медведкова.
Тут было совершенно тихо. Люди заперлись в избы, бродили только собаки, по временам заливаясь оглушительным лаем.
Наконец мужик остановился около одной просторной избы.
– Вот тебе и Лукьяново жилье, – сказал он. – Постучись, он, чай, не спит. Где теперь спать – не до спанья.
– Спасибо, родимый, – прошептала Люба и стала стучать в ворота.
На дворе залаяли собаки, и через несколько мгновений послышался скрип шагов по снегу.
Ворота растворились.
– Кто стучит?
– К Лукьяну надоть, – стараясь придать как можно более грубости своему голосу, ответила Люба, а сама крестилась и мысленно повторяла слова первой пришедшей в голову молитвы.
– Чего тебе? – спросил довольно приятный старческий голос.
– Лукьяна, говорю, Лукьяна! – уже почти со слезами и, чувствуя, что снова у нее подкашиваются ноги, прошептала Люба. – Ты ли Лукьян?
– Да я, а то кто же?
– Лукьян, батюшка, милостивец, спаси меня, защити!
Люба упала на колени перед отворившим ей ворота человеком и хватала его за платье.
– Да стой! Что ты? Откуда? Поди сюда, ничего не разберу – темень-то, вишь, какая. Девка ты, что ли?
– Нет, не девка – парень. Спаси меня, Лукьянушка, не то пропала моя голова… Куда я теперь денусь?
– Иди в избу. Что там такое? Невдомек мне, – проговорил Лукьян, запирая за собою ворота.
Не помня себя, Люба вошла в избу и невольно зажмурилась от яркого света горевшей лучины.
Когда она немного успокоилась, то увидела, что находится в просторной и чистой клети, а перед нею стоит старик с длинной седой бородой, с большим красноватым, но добрым, сразу располагающим лицом.
С изумлением глядел этот старик на Любу, очевидно, дивясь, откуда это забрался к нему такой красавец мальчик.
Люба молчала, чувствовала, что говорить нужно, но не могла произнести ни слова. Вся ее необыкновенная смелость исчезла. Она чувствовала себя теперь совсем беспомощным, вконец замученным и запуганным ребенком. Ей необходимо было спрятаться под чье-нибудь сильное крыло, прижаться к человеку, который мог бы защитить ее.
Она уже не в силах была играть свою смелую мужскую роль. Неудержимо, громко зарыдала она и только сквозь рыдания повторяла:
– Спаси меня, спаси!
Лукьян, стараясь ее успокоить, посадил на лавку. Он понял, что в таком состоянии этот, очевидно, чем-то сильно перепуганный паренек ничего не может теперь объяснить ему.
Скоро ласковый и ободряющий голос старика подействовал на Любу, и она, наконец, в силах была заговорить.
Она передала вымышленную свою историю: сказала, что послана к нему в Медведково старым Еремеем, что живет у Мурьина леса, рассказала, как попала в сумятицу и что ничего не понимает.
Лукьян внимательно ее слушал и пристально глядел на нее, стараясь сообразить, нет ли тут какого-нибудь подвоха. Но какой подвох может быть от этого мальчика? – Люба говорила так искренно.
– Ишь ты! – наконец вымолвил Лукьян и снова улыбнулся. – Чего же это ты так перепугался, трусишка?
– Да как же не перепугаться, дедушка? Ничего не понимаю, скажи, Христа ради, что все это значит? Что тут у вас делается?
– Сказать… ну калякать-то с тобой мне некогда. Там вон мои бабы не спят еще, так накормят тебя; ведь ты, должно, отощал больно, – ну и толкуй там с ними. А мне и спать пора – замаялся!..
Он подошел к маленькой дверце, ведшей в соседнее помещение, и крикнул:
– Мавра, Федосья! Вот накормите прохожего парнишку… Ступай сюда, здесь теплее, – обратился он к Любе, почти втолкнул ее в дверцу, а сам остался в клети.
VII
Баб, с которыми очутилась Люба, было две. Одна из них уже старуха, хозяйка Лукьянова – Мавра, а другая – Федосья, молодая, красивая бабенка, сноха его.
Они сидели в углу на лавке; у обеих лица были встревожены. Несмотря на позднее время, для спанья не было никаких приготовлений.
Женщины с изумлением взглянули на Любу и тотчас приступили с расспросами. – Кто? Откуда? Куда?
Люба, уже оправившаяся от страха своего и волнения, отвечала им обстоятельно. Она сняла с себя шапку; ее голова оказалась обвязанной таким образом, что невозможно было разглядеть длинных волос ее. Коса была пропущена под кафтан. Убегая из перхуловского дома она не успела обрезать себе волосы, да если б и было время, так вряд ли обрезала бы – и жалко, и чересчур уж зазорно.
Она решилась до самой Москвы, до тех пор, пока не предстанет пред ясные очи Царь-девицы, не развязывать головы и при случае ссылаться на сильную головную боль или отмороженные уши.
Так она и теперь сделала, и ее ответ не показался странным, так как, конечно, ни Мавре, ни Федосье не могло прийти в мысль, что перед ними переодетая девушка.
Отвечая на вопросы своих собеседниц, выдумывая им про себя разные истории, Люба едва сдерживала свое нетерпение. Она не в силах была больше находиться в неизвестности, должна же была, наконец, узнать, что такое творится в Медведкове и в какую это кутерьму она попала.
Наконец Лукьяновы бабы решились удовлетворить ее любопытство и стали ей говорить, перебивая друг друга.
Долго ничего она не могла понять из их рассказов, но все же в конце концов кое-как добилась смысла.
Она узнала, что на Медведково навалились раскольщики, что их многое множество в земле русской и что стоят они за старую веру, которую исказили никонианцы.
В вопросах религиозных Мавра и Федосья оказались очень несмышлеными – не могли объяснить Любе, в чем, собственно, дело, в чем разница между старой верой и новой, которую приняли и царь, и бояре, и большая часть народа русского.
– Кто их знает, может, и верно они толкуют, раскольщики, – говорила Мавра. – Точно ведь, как подумаешь – все была вот одна вера православная, – и прежде нас жили люди, да не были же погаными нехристями, умели чтить Бога, и коли бы старая-то вера была неправая, то как все великие святители могли спастись ею?.. А и то рассуждать нужно, – продолжала Мавра, помолчав, – что не будь изъяну какого в старых книгах, с чего бы их отринули и царь, и бояре с патриархом? Темно тут, парень, не распознаешься – не нашего глупого бабьего ума это дело. Вот и Лукьян мой, даром, что землю пашет, а человек бывалый и обучен от писания, в Москве по годам живал, так он говорит, что раскольщики не путно толкуют и по его так выходит, будто истинная, настоящая-то старая вера и есть теперешняя, новая, а их, раскольщиков-то, совсем не старая, а одно затемнение от дьявола исходящее…
Люба внимательно прислушивалась к словам этим, но не могла ничего в толк взять: «Как это такое: старая вера – новая, а новая – старая?» Эх, вот Лукьяна-то нет, он бы рассказал потолковее!
Необыкновенно заинтересовал Любу вопрос о старой и новой вере, так заинтересовал, что она даже, раздумывая об этом, позабыла про свое тяжелое положение, про все страхи.
А Мавра продолжала говорить.
Она горько жаловалась на раскольщиков. Правы ли они там, или виноваты в своей вере, а все же до них жилось в Медведкове благополучно – тишь да гладь, да Божья благодать, – а как стали они показываться – и пошла беда за бедою. Сначала, с год тому будет времени, приходил какой-то старик, остановился в избе у одного медведковского крестьянина, начал собирать вокруг себя народ, толковать о вере, в раскол подговаривать. Кто не послушался его, а кто и послушался: и таких в Медведкове, что стали раскольщиками, собралось немало.
За стариком и другие разные люди стали в Медведково наведываться. Придут, поживут, намутят, Да каждый раз то тех, то других из медведковских с собою в лес сманят – раскол-то больше все по лесам живет. Про все как есть, что там в лесах деется, Лукьяну рассказывал при Мавре один медведковец, Данило, что ушел с раскольщиками, да и опять вернулся восвояси – рассказывал, что верст с пятьдесят от Медведкова есть река, а за рекой лес дикий, большущий. Кругом болота да дряби: на лошадях в том лесу проехать невозможно. В лесу, за рекою, настроено келий десятка с два, и живет в них начальник раскольнический, чернец из Соловецкой обители, Митрофан прозывается. В сборе у того чернеца раскольщиков из разных городов и мест мужского пола, женок, девок и стариц человек с два ста будет. Кельи стоят врознь на большом расстоянии, а на реке, против тех келий, построена мельница; настроены также малые хороминки на столбах, и в них хлеб держат; а пашут раскольщики без лошадей и землю размягчают железными кокотами.
Много чудного рассказывал Лукьяну Данило про житье раскольщиков, а всего чуднее то, что к чернецу Митрофану приходят на исповедь, и он всех исповедует и причащает: возьмет ягоду бруснику и муки ржаной или пшеничной, смешает все вместе, тем и причащает.
Только прежде, хоть и постоянно приходили в Медведково раскольщики, но все больше или в одиночку, или человека три-четыре, а теперь, неведомо откуда, целая орава навалила и вот уж с неделю здесь бесчинствуют. Попов похватали и замучили; церковью завладели. Больше половины медведковцев их сторону держат, да и остальные, в том числе и Лукьян, не смеют возвысить голоса, не пристают к ним да и не противятся, потому: что ты с ними поделаешь? Одна на них хитрость осталась; и вот отправил Лукьян своего сына, мужа Федосьи, на Москву сказать, что так, мол, и так, чтоб не дали Медведкова в обиду. Теперь ждут не дождутся возвращения Димитрия – это сын-то Лукьяна – Москва не ахти как далеко, а он на коне погнал – коли с ним в пути недоброе что случилось, али словам его не поверили, то неведомо, чем у них в Медведкове и кончится. Раскольщики, да и многие медведковцы совсем голову потеряли: ровно звери сделались, того и жди пойдет поножовщина…
Остановив на этом свой рассказ, Мавра оперлась головою на руки и заплакала.
– Время, время вернуться Митрию, ан все нет его, соколика! Чует мое сердце – недоброе с ним!..
Мавра начала все громче и громче всхлипывать. Глядя на нее, заревела и Федосья…
Несколько успокоившись, бабы объявили, что, может, и всю ночь так просидят не раздеваясь – не до сна им, а Любе предложили переночевать в каморке.
Она с радостью согласилась на это и, повалившись на кучу сена, скоро заснула крепким сном. Проспала бы она, может быть, и бог весть сколько, но утром разбудила ее Федосья.
– Вставай, вставай! Ишь заспался! – говорила бабенка. – Слышь, Митрий вернулся с царскими стрельцами: теперь пойдет суд и расправа. Ахти нам, святители, что-то будет?
Люба вскочила и поспешила выбраться из каморки. Она теперь чувствовала себя бодрой и крепкой; каждая жилка в ней играла.
И не думая ни о каких опасностях, бросилась она из избы Лукьяновой во двор, а оттуда за ворота посмотреть на стрельцов царских, что из Москвы прибыли.
Народ валил по улицам к церкви, вокруг которой расположилось войско.
Утро было солнечное, ясное. Начиналась сильная оттепель.
Издали увидела Люба стрельцов, вооружение которых блестело на солнце.
– Что ж теперь будет? – невольно спросила она у бежавшего рядом с нею мужика.
– А кто их знает! Раскольщики-то, вишь, – и пришлые, и наши – с Василием Мылом церковь-то оставили да заперлись в крайних избах. Десять дворов ими занято – вон, вишь, вишь, стрельцы-то дворы окружают!
Действительно, скоро все дворы, занятые раскольниками, были со всех сторон окружены войском.
Люба бежала все шибче и шибче.
– Куда ты? Назад! – наконец остановил ее один стрелец.
Она послушалась и стала оглядываться.
В двух шагах от нее молодой, статный воин. Он говорит что-то другим, видно, распоряжается. Лицо его, озаренное солнцем, показалось Любе красоты неописанной.
– Вишь ты, молодой какой парень, а им всем он голова, значит! – услышала она позади себя.
Слова эти, конечно, относились к красивому воину.
Люба так и впилась в него глазами.
– Незачем кровь проливать человеческую, – говорил воин, – нужно их живьем перехватать. Ломайте, что ли, ворота!
Несколько стрельцов кинулись к воротам, но в ту же минуту со двора послышался выстрел.
– О, да они с пищалями! – проговорил стрелецкий начальник и подошел к самой избе.
– Отворяйте ворота! – закричал он звучным голосом. – Палить нечего – у нас у самих пищалей много, с нами не справитесь; а за кровь каждого царского стрельца большой ответ с вас будет. Добром отворяйте!
Прошло несколько мгновений – никто не отвечал ему. Но вот из избы послышались дикие крики.
– Не отворим! Не отворим антихристу и его воям! Вы кто? Нечто христиане?
Вслед за этими словами раздались из избы всякие бранные речи, хула на церковь и четвероконечный крест…
– Нет, видно, с ними ничего не поделаешь! – печальным голосом, отходя от избы, сказал стрелецкий начальник. – Ломай избы! Ломись во все дворы, где они засели! – обратился он к окружавшим его стрельцам. Те передали его приказание товарищам, и скоро начался дружный натиск.
Во многих избах раздалось несколько выстрелов, потом все как бы стихло.
Мгновение… и вдруг дикий крик ужаса пронесся над собравшейся толпой крестьян медведковских и повторился стрельцами.
Из одной избы, в которой сидели раскольники, повалил дым. Дым все гуще и гуще – вот показался и огонь. Вот загорается и другая изба; всеобщее смятение, гул стоит… Стрельцы ломятся в ворота, но навстречу им раздаются выстрелы, навстречу им мчатся клубы удушливого дыма и пламени.
Деревянное строение, крытое соломой, горит быстро. Скоро ничего не видно, не слышно – все слилось в общем гуле и дыме. Толпа отхлынула от изб, за нею и стрельцы, видя бесполезность своих усилий. Но не показывался ни один из засевших в избах: поборники старой веры все до единого решились погибнуть в пламени, спасти свои души самосожжением.
VIII
Прежде чем перепуганные жители Медведкова и стрельцы очнулись и решились принять какие-нибудь меры против пожара, все подожженные избы горели, как свечи. Оставалось только спасать соседние строения. По всему селу гул стоял от стонов и воплей.
Только что медведковцы начали мало-помалу успокаиваться, убедясь в том, что пожар не будет больше распространяться, оказалось, новая беда: от незваных гостей раскольщиков избавились, так другие, званые, гости что-то не совсем ладно начали вести себя.
Стрельцы разбрелись по избам и стали в них хозяйничать. Сейчас же потребовали себе вина, перепились, начали буянить, а в иных избах произвели даже грабеж. Народ вздумал было жаловаться на них сотникам и пятидесятникам, но те только смеялись на эти жалобы, сами же подзадоривали своих подчиненных, конечно, чуя себе львиную долю в награбленном.
Один только подполковник стрелецкий, Николай Степанович Малыгин, тот самый, красота которого так поразила Любу, внимательно выслушивал жалобы, отдавал стрельцам приказания вести себя как следует: не брать ничего чужого и готовиться в поход обратно.
Но он мог приказывать, кричать, сколько ему угодно, – его плохо слушались. Под конец он даже услышал от некоторых опьяненных стрельцов такую брань себе, что должен был отойти в сторону и притвориться глухим, чтобы не уронить своего достоинства.
Дисциплины между стрельцами в то время не было почти никакой. Стрелецкое войско, учрежденное Иваном IV, к концу царствования Алексея Михайловича пользовалось очень дурной репутацией.
Вследствие бедности казны стрельцы получали мало жалованья, а потому промышляли себе все необходимое самыми непозволительными способами: грабежом и вымогательством.







