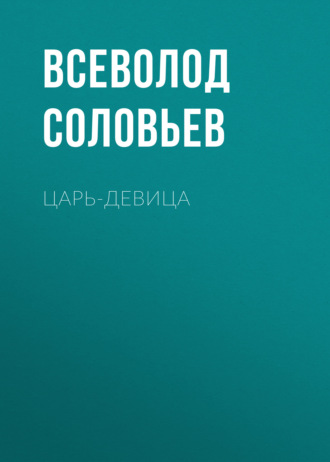
Всеволод Соловьев
Царь-девица
Она заломила в отчаянии руки и заплакала, прижимая к себе сына.
– Успокойся, матушка, – тихим, мелодичным голосом сказала Софья (давно она не называла этим именем царицу Наталью), – успокойся, матушка, – ведь мы еще не знаем, что им нужно. Вот сейчас все объяснится, может, ничего страшного и нету…
И говоря эти слова, царевна пристально и, по-видимому, ласково глядела на Наталью Кирилловну. А в то же время какое-то мучительное, но сладкое чувство сосало ей сердце. Она наслаждалась этим всеобщим смятением, этими слезами царицы.
«Плачь! – думалось ей. – Плачь, еще не так будешь плакать! Ты пришла к нам незваная, непрошеная. Ты, бедная воспитанница худородного Матвеева, восхотела быть выше нас, прирожденных царевен… Ты отняла у нас отца, теперь ты, со своим сынишкой, у нас все отнимаешь! Нет, видно, мало ты меня знаешь, я еще тебе не дамся! Горькие слезы будешь проливать ты…»
Она отошла от царицы ближе к выходным дверям и спрашивала: что ж стрельцы – близко ли? И чего требуют?
Но никто не мог ей ответить, так все были растеряны, так перепуганы.
В это время дверь во внутренние покои отворилась и вошел царевич Иван. Медленно, волоча за собою ноги, он подошел к царице Наталье.
– Что тут у вас такое? – спросил он. – Меня сюда позвали, что-то толковали, да я, признаться, не понял хорошенько. Война, что ли? Враги на нас идут? Какие это? Турки?
– Стрельцы опять бунтуют, братец, – ответил ему маленький Петр, – а чего хотят – не знаю. Выйдем-ка мы с тобою к ним, спросим их, нам они должны ответить, кому же и отвечать, как не нам? Вот и посмотрим, что нужно тут делать; право, пойдем, братец!..
Наталья Кирилловна схватила за руку сына:
– Что ты? Куда, бог с тобою, дитятко! Ради Создателя, не отходи от меня.
– Эх! – вздохнул Петр, но не смел ослушаться матери, не смел выдернуть из ее руки свою руку. Он сел рядом с нею и задумался. Густые брови его сдвинулись, темные глаза горели.
Царевич Иван так же тихо, с трудом передвигаясь, подошел к сестрам.
В эту минуту из окон послышался быстро приближавшийся бой барабанов: все вздрогнули и стали еще теснее жаться друг к другу.
Только Матвеев да патриарх поспешили выйти из палаты на крыльцо, навстречу стрельцам.
Между тем на дворе уже раздавались отчаянные крики и вопли. Стрельцы обступили густыми толпами весь дворец, перебили нескольких людей боярских, не успевших вовремя скрыться.
В толпах стрельцов развевались знамена; на самый двор вкатили пушку. Дикий крик раздался по рядам стрелецким:
– Кто задушил царевича Ивана? Подавай Нарышкиных! Подавай изменников и душегубцев!
– А, вот они чем их подняли! – прошептал Матвеев, расслышав эти крики.
Он вернулся к царице.
– Мятежников обманули, – сказал он, – они думают, что кто-то задушил царевича Ивана. Нужно показать его им – только в этом теперь и спасенье! Пойдемте все на крыльцо, и ты иди, государыня царица, не бойся, теперь не время трусить. Ничего они не посмеют сделать!
Многим трудно было решиться выйти к стрельцам, но все поняли, что это необходимо, все поняли, что, в крайнем случае, нужно будет защищать царское семейство.
Тесня друг друга, бояре двинулись к выходу.
Царица Наталья взяла за руки сына и пасынка, и тихо читая молитву, бледная, как полотно, но твердыми шагами вступила на Красное крыльцо и остановилась у самой решетки.
В первое мгновение ее оглушил страшный крик стрельцов, которые, как бесноватые, обступили крыльцо со всех сторон и лезли вверх…
Но вот они увидели обоих сыновей царя Алексея, и вся площадь мгновенно стихла.
– Что ж это? Значит, нас обманули? Значит, это правду говорили сегодня утром, что царевич жив – вот он!.. Вот!
Многие начали снимать шапки.
Однако приверженцы Софьи и Милославских не дремали. Князь Хованский неизвестно откуда появился внизу на площади, пробрался между стрельцами, которые давали ему дорогу, и шепнул что-то на ухо полковнику Циклеру.
– Да полно, царевич ли это? – вдруг крикнул Циклер.
– Да! Не обман ли уж? – повторило несколько голосов. – Это нас морочат – другого одели в платье царевича…
– Ан нет же, он!.. Он! Не в первый раз мы его видим! – ответили другие.
– Да что тут! Полезай вверх, чтоб без обмана было!..
Они подставили лестницу, и десятка два стрельцов стали взбираться на Красное крыльцо, поддерживаемые товарищами. Вот верхние добрались до решетки.
Царица Наталья невольно попятилась и заслонила рукою Петра. Но царь высвободился из-под руки матери, стал на свое прежнее место и смело, горделиво поглядывал на стрельцов.
Царевич Иван тоже не выказал ни малейшего страха. Он глядел вокруг себя, как и всегда, совершенно безучастно; ничего нельзя было прочесть на бледном, одутловатом лице его.
Между тем стрельцы внимательно его разглядывали.
– Он!.. Он! – кричали они. – Его лик! Да полно уж, не бесовское наваждение?
И они перекрестились. Нет, царевич Иван перед ними – не пропадает, не рассыпается прахом!
– Ты ли это, царевич Иван Алексеевич? – спрашивают его стрельцы, ощупывая его платье.
– Я!.. А то кто же?
– Так, стало, жив ты?
– А то и помер, что ли? Видите, жив.
– Кто же это тебя изводит? Кто враги твои? Кто бояре изменники?
Никто не предвидел возможности подобных вопросов. Никто не предупредил царевича. Теперь страх немалый взял бояр. А вдруг он ответит что-нибудь неладное! Все затаили дыхание.
Царевич слабо и странно усмехнулся.
– В толк не возьму, о чем меня спрашиваете, – наконец сказал он своим глухим голосом, – Нет у меня врагов… Никто меня не изводит. Жить мне хорошо, ни на кого не жалуюсь…
У всех отлегло от сердца.
Стрельцы еще несколько мгновений поглядели на царевича, переглянулись между собою и стали слезать вниз.
– Он, взаправду он, и говорит, что никто его не изводит! Стало, нас обманули…
Толпа не шевелилась в недоумении. Многие переминались с ноги на ногу, почесывали себе затылки.
Раздалось несколько голосов:
– Что ж это? Дело-то неладно – чего ж нас подняли? Изменники-то, видно, те, кто обманул нас!..
Некому теперь было глядеть на царевну Софью, а взглянуть на нее стоило.
В то время как все лица мало-помалу прояснялись, как у всех явилась надежда, что дело примет счастливый оборот, она стояла, как приговоренная к смерти, со страшно искаженным лицом, сама на себя не похожая. Сердце ее то замирало, то начинало неудержимо, больно биться, в виски стучало, голова кружилась.
«Господи, что же это такое? Неужто все пропало?.. И как это я не предупредила этого: нельзя было пускать брата. Как-нибудь, а необходимо было удержать его. Что ж… Теперь молчат стрельцы… да и нечего сказать им!»
«Вот сейчас они уйдут, пристыженные, обратно к себе в слободы, и чем их в другой раз оттуда выманишь?.. А старый волк Матвеев теперь уже не оплошает, примет решительные меры… И ведь ничего сделать теперь нельзя… Я не могу и пошевельнуться… Но неужели?.. Быть не может!.. Все так давно приготовлялось, все так хорошо шло!..»
Ноги царевны подкашивались, она едва не упала. Она видела, как сквозь туман какой-нибудь, вокруг себя движение. Все идут обратно; Красное крыльцо пусто; на площади тишина… и ей ведь нечего здесь оставаться…
Шатаясь, едва сдерживая отчаянный вопль, готовый вырваться из груди ее, она тоже направилась с крыльца во внутренние дворцовые покои.
Но внезапно новая мысль пришла ей в голову. «Прикажу выкатить им бочки вина и пива – перепьются… тогда их легко опять будет натравить!..»
Она поспешила отыскать Милославского.
IX
Между тем после нескольких минут тишины на площади началось снова волнение. Стрельцам как-то совестно было сознаться в своей глупости, что вот, по нелепому слуху, заставили их всех поголовно подняться. Им совестно было теперь, пристыженным и опозоренным, воротиться к себе; да и страх, очевидно, внушаемый ими боярам и семейству царскому, действовал на них подзадоривающим образом. А тут еще и выкаченные им бочки вина и пива, на которые они тотчас же набросились, и возмутители, кричащие: «Ну что ж, что царевич жив! Хоть он и жив, все же пускай выдадут нам его недоброхотов – Матвеева и Нарышкиных!..»
– Да, да, пускай выдадут! – подхватывает несколько десятков голосов.
– Да и разве не знаете, братцы, – на всю площадь кричит Озеров, – разве не знаете, что Иван Нарышкин примеривал на себя корону и разные царские украшения?! Он сам нашим царем хочет быть! Уйдем теперь… оставим их на свободе, так все равно они изведут и царевича, да и царя Петра, даром что он им сродственник…
– Слышь ты, Нарышкин на себя корону примерял! – раздается уже на другом конце площади. – Нет, не уйдем так!.. Подавай нам Нарышкиных и Матвеева!
Пристыженные и сконфуженные стрельцы нашли выход из своего неловкого положения. Снова неистовые крики наполнили площадь, снова густые толпы, вооруженные бердышами и мушкетами, полезли к Красному крыльцу и к окнам Грановитой палаты.
Те из окружавших царицу, кто был посмелее, решились выйти к стрельцам. Скоро на Красном крыльце показались Черкасский, Шереметев Большой и князь Василий Васильевич Голицын. Четвертым между ними был Тараруй-Хованский. Сам всячески возмущавший стрельцов и за четверть часа перед тем незаметно нашептывавший им на площади, теперь он объявил, что идет их уговаривать. С крыльца ему удобнее было подавать тайные знаки, одобрять своим присутствием.
– Чего вам еще нужно? – смело выступая вперед, громким и спокойным голосом начал князь Голицын. – Вы видели царевича, он сам объявил вам, что никто на него не злоумышляет. Если вы пришли сюда для того, чтобы защитить царское семейство, то спасибо вам за это. Но вы видите, что обмануты, что защищать некого; будьте достойными слугами государевыми – разойдитесь спокойно по домам!
– Нет, чего тут расходиться! – кричали ему в ответ стрельцы. – Не можем уйти! Подавайте нам Матвеева, подавайте Нарышкиных, подавайте бояр-изменников!
Имена этих бояр-изменников, заключавшиеся в списке, разосланном Милославским по стрелецким полкам, стали повторяться сотнями голосов. Имена эти были: князь Юрий Долгорукий с сыном – стрелецкие начальники, князь Ромодановский, все Нарышкины, начиная с отца царицы, Артамон Сергеевич Матвеев, Языков, Лихачев и несколько думных дьяков.
– Чего тут толковать, подавай всех этих изменников, всех до единого, тогда и уйдем, а пока нам их не выдадут, не тронемся из Кремля! А то так и сами сыщем!
– Да нет во дворце у государя этих людей: выдавать-то вам некого, – закричал Черкасский, – уходите, не буяньте!
Стрельцы, услыхав слова эти, полезли на ступени крыльца и чуть было до смерти не избили Черкасского: весь кафтан на нем разодрали, едва успел он скрыться.
Растерзанный, с всклокоченными волосами, вбежал он в Грановитую палату, куда теперь удалилась царица с семейством и бояре.
– Бунтуют! Видите, что со мной сделали. Теперь к ним не подступайся! – проговорил тяжело дыша Черкасский.
– Постойте, я еще поговорю с ними, – сказал, поднимаясь с места, Артамон Сергеевич и вышел к стрельцам.
Он смело распахнул решетку, твердой поступью сошел с лестницы и остановился, со всех сторон окруженный мятежниками.
Яркое майское солнце озарило его седую, непокрытую голову, его благообразное, почтенное лицо, так давно знакомое стрельцам и прежде так ими любимое.
– Чего вам нужно? Одумайтесь, дети! – заговорил он дрогнувшим голосом. – Ноет мое сердце, глядя на вас. Глазам своим верить не хочется – вы ли это? Вот несколько лет вдали от вас я прожил… Не раз вспоминались вы мне, верные царские воины, с которыми мы вместе походы делали. Я призывал на вас благословение Божие за ваши службы государю, за вашу твердость в исполнении долга. Если б кто сказал мне, что вы бунтовать способны, что вы врываетесь в Кремль, в палаты царские, что вы самовольствуете, я бы такого человека почел клеветником и лжецом. После долгих испытаний, после тяжкой жизни в тесноте и обидах, вернулся я снова к вам велением моего государя – и что ж я вижу! Одумайтесь, дети – не вы ли помогали мне не раз укрощать бунты и мятежи, не вы ли готовы были пролить до капли всю кровь свою за царя и отечество? Зачем же хотите теперь сами быть мятежниками и уничтожить этим память обо всех ваших прежних подвигах? Зачем забываете святость присяги? Да и не вы ли сами выборных ко мне присылали три дня тому назад?
Артамон Сергеевич глубоко вздохнул и с большею, чем прежде, страстностью, продолжал:
– Я плакал от радости, что вы своего старого воеводу не забыли, поспешили встретить его ласкою, хлебом-солью… А теперь вам голова моя понадобилась?! Что ж, вот я перед вами, я безоружен… Я один, а вас целая площадь. Только Бога-то вспомните – от него не скроетесь!
Эти тихие спокойные слова, произнесенные мучительно-грустным голосом, почтенная седина старого боярина подействовали на стрельцов, и они уже не слушали внушений мятежников. Они уже не глядели на Тараруя, который стоял за Матвеевым и делал им знаки, чтобы они скорее хватали Артамона Сергеевича.
У многих из стрельцов опустились головы, и на глазах навернулись слезы.
Матвеев зорким взглядом оглядел площадь, заметил благоприятное действие слов своих и продолжал:
– Смиритесь, дети! Докажите, что вы все те же верные слуги государевы. Царь милостив, он не попомнит этой вины вашей!
– Заступись за нас, боярин, перед царем.
– Да, заступись! Мы что ж, мы ничего… Мы как перед Богом; присягу помним, царя почитаем, за него, за нашего батюшку, животы покласть готовы!..
– Говорю, царь милостив – ничего худого вам не будет, только расходитесь!
– Ладно, боярин! – закричали в толпе.
Матвеев с облегченною душою спешил возвратиться к царице и объявить радостную весть о том, что стрельцы утихли и сейчас будут расходиться. Но не успел он дойти своим тихим старческим шагом до Грановитой палаты, как новые крики раздались на площади.
Теперь уже не Милославские, не Хованский подожгли стрельцов, бунт снова вспыхнул, благодаря безрассудству стрелецкого начальника, князя Михайла Юрьевича Долгорукого, того самого, которого стрельцы издавна ненавидели, над которым так часто в последние дни смеялись. До сих пор о нем не было ни слуху ни духу, он ни во что не вступался, стрельцам на глаза не показывался. Ни одного усилия не сделал он для их усмирения, а вот теперь, увидя, что Матвееву, наконец, удалось их успокоить, что они сейчас будут расходиться, он вдруг вышел на площадь и пожелал напомнить им, что он их начальник.
Некому было удержать его, потому что на Красном крыльце оставался один Хованский, который, конечно, был рад случаю как-нибудь поправить дело.
Он отлично предвидел, что безумное появление Долгорукого может только способствовать возмущению.
– Да ты их хорошенько, хорошенько! Что они, в самом деле, о себе думают, – злорадным голосом сказал он Долгорукому. – Покажи им, что ты их начальник.
И несчастный Долгорукий с какой-то безумной радостью поспешил на свою погибель.
– Эй! Живо! – кричал он. – По домам расходитесь, чтоб вашим духом здесь не пахло! Бунтовать вздумали? Вот постойте! Ужо разберу, так достанется вам на орехи. Царя тревожить, бунтовщики проклятые!
– А! Так это ты кричишь на нас? Это ты лаешься? – раздалось кругом Долгорукого.
Что-то страшное послышалось ему в словах этих.
Он поспешил назад на крыльцо, но несколько стрельцов кинулись за ним. Не успел он шевельнуться, не успел крикнуть, как его схватили крепкие руки и со всего размаха сбросили вниз на площадь. И в то же время внизу приподнялись копья; несчастный Долгорукий с диким, нечеловеческим криком упал прямо на эти подставленные копья. Вся площадь заголосила «Любо!», и окровавленного, полумертвого князя мгновенно разрубили на куски бердышами.
Тараруй стоял на крыльце; глаза его горели.
– Так, детки, так! – кричал он. – С одним покончили, за других принимайтесь!
Но теперь нечего уже было учить стрельцов – от крика несчастной жертвы, от вида первой крови, пролитой ими, они осатанели. Уставив перед собою копья и крича зверским голосом, они выломали решетку Красного крыльца и ворвались в дворцовые покои.
Между тем, слыша с площади отчаянные крики и предчувствуя, что беда пришла неминучая, защитники царицы, собравшиеся вокруг нее, и все Нарышкины поспешили скрыться, кто куда мог.
Наталья Кирилловна осталась одна с сыном, Матвеевым и Черкасским. Теперь она уже не плакала. Лицо ее было неподвижно, глаза горели, сердце готово было из груди выскочить. Крепкими материнскими руками прижала она к себе Петра, да так и застыла на месте.
Матвеев сидел на скамье в полном изнеможении. У него все кружилось перед глазами, он не мог собрать мыслей.
Вдруг со страшным шумом распахнулись тяжелые двери и на пороге показались стрельцы.
– Подавай нам Матвеева! – раздалось над самым ухом царицы.
Она, забыв и себя и своего сына, кинулась к Артамону Сергеевичу, Черкасский за нею.
Но стрельцы не смутились. Один из них, дюжий, громадного роста парень, уже схватил Матвеева.
Маленький Петр крикнул ему: «Иди, не трогай!» Взял Артамона Сергеевича за руку. Стрелец, не задумываясь ни на мгновение, отбросил царя.
Матвеев взглянул на Наталью Кирилловну, на Петра. Его бледные, дрожавшие губы тихо прошептали: «Прости, государь, прости, государыня!»
Стрельцы схватили его, подняли с лавки и повлекли из палаты.
Наталья Кирилловна всплеснула руками, вскрикнула, хотела было броситься за ними, но, не добежав до дверей, со всего размаха упала на пол и потеряла сознание.
Матвеев, совершенно обессиленный, не выказывал никаких признаков жизни.
Стрельцы протащили его несколько шагов, вывихнули ему руку, потом взвалили себе на плечи и бегом пустились к Красному крыльцу. Слабый стон вырвался из груди Артамона Сергеевича. Он на мгновение открыл глаза и закрыл их снова.
Крупные слезы катились из светлых глаз.
– Выпустите руку, дайте хоть перекреститься, – едва слышно прошептал он, но стрельцы не обратили никакого внимания на его просьбу.
Он сделал последнее усилие и сам высвободил свою руку.
«Смерть это, смерть! – пронеслось в его мыслях. – Что ж так долго?..»
Он начал молиться и в этой горячей предсмертной молитве не заметил, что стрельцы уже на крыльце, что кругом раздаются крики, бряцанье оружия.
– Что это вы? Бога не боитесь!.. Стой! – вдруг раздался громкий отчаянный голос.
Матвеев снова открыл глаза. В двух шагах от него молодой, красивый человек в одежде стрелецкого подполковника.
– Остановитесь! Отпустите боярина! – кричал он. – Мало вам одного!.. Одумайтесь – кого вы погубить хотите!.. Разве кто-нибудь из вас видел зло от него? А добра-то много видели… Вся Русь видела… Очнитесь!
Но стрельцы, несшие Матвеева, не в состоянии были рассуждать теперь.
Тогда молодой подполковник с нечеловеческой силой начал вырывать Матвеева из рук убийц. Но их было несколько, он – один.
– Отвяжись! – гаркнули стрельцы.
Однако нежданный защитник Матвеева делал свое дело. Он и сам, очевидно, не мог рассуждать, находился в каком-то опьянении. Он ударил одного из стрельцов так, что тот покатился вниз по ступеням.
– Эй, братцы, да помогите же кто-нибудь мне! – крикнул он к толпе. – Обознались, видно, не того схватили, невинную кровь проливают!
В его голосе была такая сила и такое отчаяние, что несколько человек бессознательно кинулись к нему на помощь.
Вдруг из толпы выбежал Озеров и загородил им дорогу.
– Куда? Кого послушались – Малыгина? Так он сам изменник! Смерть Матвееву!
В то же мгновение один из стрельцов выхватил бердыш, со всего размаха ударил им в голову Николая Степановича.
Тот слабо крикнул, пошатнулся и упал на ступени лестницы; Матвеева защищать было некому. Стрельцы высоко его подняли на руках, раскачали и бросили на площадь. Густая толпа со всех сторон кинулась к нему и в остервенении начала рубить его на мелкие части. В эту минуту на крыльце показался патриарх.
– Бога побойтесь! – закричал он, пробираясь между стрельцами и спускаясь с лестницы.
– Уйди, владыка, назад! – кричали ему. – Уходи, нечего нам тебя слушать, не нужно нам ничьих советов! Сами теперь знаем, кто нам люб, а кто не годен… Уходи подобру-поздорову.
Старый патриарх прислонился к перилам лестницы, крупные слезы полились из глаз его. Он не мог пошевельнуться и долго стоял так. Точно сквозь туман видел он, как мимо него, один за другим, со сверкающими копьями бегут стрельцы во дворец.
«Теперь за других изменников пора приниматься!..» – кричат они.
Много их пробежало; крыльцо опять пусто, только смятый, потоптанный, на одной из ступеней лестницы неподвижно лежит молодой подполковник Малыгин. На затылке у него большая рана, из которой бьет кровь, орошая ступени Красного крыльца и блестя на солнце алым цветом.
Проходит еще несколько мгновений. Патриарх все так же неподвижен, и грезится ему, будто на широкие каменные ступени, шатаясь и путаясь в длинном платье, взбирается какая-то женщина. Безучастный взор патриарха невольно останавливается на ней, и не знает он, что это такое перед ним – видение или действительность.
Вот женщина наклонилась над телом убитого подполковника. Ее молодое, прекрасное лицо страшно исказилось, отчаянный крик вырвался из груди ее, такой крик, что заставил совсем очнуться патриарха. Теперь уж не в забытьи, а наяву видит он, как эта молодая женщина припала на грудь убитого со страшным воплем, целует его, и вдруг, с неестественной силой подняв тело себе на плечи, спускается с ним вниз по ступеням. Никто ее не останавливает. Стрельцы в смятении кричат, издеваются над кровавыми останками Матвеева, а она пробирается между ними со своею тяжелой ношей.
X
Долго шла Люба, неся на плечах Николая Степановича и не замечая усталости. Она не плакала. Только все лицо ее так изменилось, что его и узнать было невозможно. Люба уже не казалась теперь семнадцатилетней девочкой. Как будто десяток лет, страшных и мучительных, в несколько часов пронесся над нею.
«Боже, неужели он умрет?» – шептали ее пересохшие губы. – Нет, нет… быть не может!.. Господи! Не попусти!.. Ведь вот сердце не бьется, а кровь так и хлещет из раны…»
И Люба не знает, как надо унять кровь, не знает, что необходимо перевязать рану. Иногда ей кажется, что есть еще признаки жизни в теле ее друга, иногда вдруг послышится ей слабое биение его сердца, но она не знает, его ли это сердце бьется, или она только слышит стук своего собственного, которое разрывается в груди ее. Он еще не холодеет. Она не раз прощалась с покойниками, она помнит этот особенный, страшный ледяной холод – так нужно бежать скорее, скорее подальше… Скрыть его куда-нибудь, чтоб не отняли!
И она, не замечая тяжести и страшной усталости, которая ее одолевает, спешит со своей дорогой ношей дальше от Кремля, туда, где потише, где не видно сверкающих копий, не слышно оглушительных диких криков.
Наконец, выбиваясь из последних сил, она дотащилась до узкого глухого переулка, с обеих сторон заросшего садами. Вот тут, куда бы нибудь в сад, на мягкую траву! Сбегать бы к колодцу, черпнуть воды, обмыть рану, опрыскать его водою – Бог даст, очнется!
Люба огляделась во все стороны, ища калитки или сломанной развалившейся изгороди, через которую бы пройти можно было.
Но что это такое? В нескольких шагах от нее идет какой-то человек – и прямо ей навстречу – лицо страшное, черное, как у теремной карлы.
Черный человек приблизился и остановился.
– Откуда ты, девушка? – говорит он ей. – Кого это несешь?
В другое время Люба испугалась бы, пожалуй, этой страшной, черной рожи, но теперь она слышит только его ласковый голос.
– Если ты добрый человек, помоги мне, ради бога!.. – прошептала она. – Сил моих больше нету! Куда бы как-нибудь скрыться, что-нибудь сделать, чтобы кровь унять из раны, вишь, какая страшная рана! Вишь, сколько крови! Воды бы достать…
– Постой, дай я понесу, – сказал черный человек. – Как проходил я, видел отперта тут калитка, давай!
Люба бережно передала ему Николая Степановича.
– Только, ради Христа, осторожнее, – дай, я помогу тебе, – говорила она.
Ей вдруг сделалось страшно. «А что, коли это дьявол? – мелькнуло в голове ее. – Что, коли это, чтобы отвести глаза мне, он говорит таким добрым голосом, а вдруг отнимет его у меня и улетит с ним?»
Но эта мысль, невольный, последний отголосок перхуловского дома и его понятия, сейчас же и исчезла. Она заметила, как черный осторожно и заботливо нес Малыгина.
– Девушка, он не умер! Он дышит… Ей-богу! – вдруг обернувши к ней свое черное и уже теперь не страшное, а доброе и ласковое лицо, сказал этот неведомый человек.
– Что ты!.. Правда? Ты не ошибаешься?
– Да нет же! Постой, вот, Бог даст, он очнется… Я за водой сбегаю.
Прилив бесконечного счастья нахлынул на Любу. Она склонилась над лицом Николая Степановича, не отрываясь глядела на него, силясь прислушаться к его дыханию.
Вот калитка… Вот они в саду… Тихо… никого нету. Трава густая, ветвистые яблони, осыпанные белым цветом… Пчелы жужжат, бабочки порхают… Солнце так и горит, так и отливается на листьях…
– Вот здесь в тени и сложим его, – сказал черный, – а я поищу колодцы.
Под развесистой душистой яблоней лежит Николай Степанович, а над ним склонилась Люба.
«Жив он! Жив! Нет больше сомнения – бьется его сердце!»
Черный возвращается с водою, и видно, что он человек бывалый – сейчас сделал перевязку из Любиного платка полотняного. Кровь остановилась. Еще несколько мгновений – и открыл глаза Николай Степанович.
Люба крикнула, и тут только у нее брызнули слезы, но это были светлые, благодатные слезы.
Она схватила руки своего дорогого друга, и грела их, и целовала.
– Жив ты! Жив, милый! Скажи хоть словечко, взгляни на меня!
Но он хоть и жив, хоть и глядит, но не узнает своей Любы, глядит и ничего не видит – в забытьи, память не вернулась.
– Это бывает! Бог даст, очнется, – говорит черный арап и мочит водою голову Николая Степановича.
– Ну, успокойся, успокойся, красавица, – обращается он к Любе. – Кто это – брат твой али милый? Видно, крепко ты его любишь, да и силы в тебе немало. Кто это его так? За что? Откуда несешь его?
– Да из Кремля, чай, слышал… – отвечает Люба. – А погубили его за то, что своих стрельцов останавливал, как те убивать начали боярина Матвеева.
Произнося эти последние слова, Люба вскрикнула и невольно отшатнулась – что-то страшное сотворилось с черным человеком. Его глаза вдруг расширились, показывая огромные белки, все лицо исказилось, мучительный стон вырвался из груди его. Он схватил себя за голову.
– Кого? Как ты сказала? Какого боярина?
– Матвеева, – прошептала Люба.
– Матвеева! – повторил он отчаянным голосом. – Где он? Где… жив?
– Нет, его убили… в куски искрошили.
Черный человек упал на землю, продолжая стискивать себе руками голову, и горько, горько заплакал, как малый ребенок.
Люба, смотревшая на него сначала с недоумением, вдруг почувствовала к нему большую жалость.
– Что ты, голубчик? О чем плачешь? – спросила она.
Он очнулся и растерянно взглянул на нее.
– Плачу… нет, мне не плакать надо – мне умирать теперь надо! – проговорил он. – Артамон-то Сергеевич – ведь это господин мой, мой благодетель! Неотлучно пятнадцать лет я был при нем: и в радости и в горе ему сопутствовал… Еще ребенком был я, как он купил меня. До него я был у злого человека, тот бил и терзал меня ежечасно… а он-то, мой добрый боярин, ни разу и руки на меня не поднял. Ни разу и дурного слова не слыхал я от него. Он сам, сам учил меня уму-разуму, сам дал уразуметь мне величие Божие, познать Христа Спасителя, окрестил меня в веру православную, был моим восприемником, награждал меня, раба недостойного, всячески, как был он в счастье. А попал в немилость, выслан из Москвы был, так я не отстал от него. Знаю все обиды, все тесноты, голод и холод, которые терпел он. Бывало тяжело ему: и сердце-то болит, и тело-то болит – мы в Пустозерске были – а ни разу он, голубчик, не возропщет, ни разу-то не сорвал сердце на рабе своем. Призовет меня, бывало, к себе, скажет: «Ну что, Иванушко, плохо нам жить с тобою, да, видно, уж доля моя такая, а ты-то за что терпишь? Оставь меня, Иванушко. У самого меня теперь мало денег, а все же тебе на дорогу хватит, возвращайся в Москву, там тебя мои благоприятели не обидят, примут». Брошусь я ему в ноги, целую его ручки, говорю: хоть на самое дно адово пойдешь ты, так и я за тобой, ты в огне будешь гореть, и я в огне буду гореть. А он-то меня, раба черного, поднимает, целует, а сам плачет…
Тут новые рыдания прервали речь негра. Он опять кинулся на землю и рвал на себе волосы, и стонал, и метался…
Люба не знала, что делать; наконец он приподнял свою голову и продолжал мучительным шепотом:
– Вот приехали мы в Москву, он радуется, и я радуюсь. Только чуяло нынче мое сердце беду страшную; как выехал боярин из дому, так я места себе не мог найти, а теперь вот взял да и пошел в Кремль – слышал, что там стрельцы буянят… Но такого, ох, такого и в мыслях не было!.. Убили окаянные, на части растерзали боярина, что же я теперь буду делать? Так пойду хоть в последний раз взгляну на него, хоть слезами оболью его мертвую голову…
– Нет, не ходи, голубчик, – сказала ему растроганная Люба, – все равно тебя не впустят, только убьют задаром. Уж и сама не знаю, как я-то оттуда выбралась; у всех ворот караулы наставлены… Убьют, говорю!
Негр сидел неподвижно.
– Ладно, – сказал он, – и то правда, нельзя мне умирать теперь, пока я не отдал последнего долга боярину. Буду караулить, доколе можно будет незаметно пробраться. Да и тебя теперь нельзя оставить… Где вы живете? Куда его нести нужно?
Люба сказала.
– Эхма! Даль-то какая! Ну, да подожди здесь, может, я это улажу.
Он вытер свои слезы, встал и пошел в глубь сада, туда, где сквозь древесные ветви виднелось какое-то строение.
Это был маленький домик. Негр подошел к нему и постучался.
Долго никто не откликался на стук его, между тем он слышал, как в доме бегают; до него доносились неясные голоса. Наконец из окошка выглянула голова молодого парня.
– Э, да это Иван! Бабушка Арина, не пужайся! Иван это матвеевский.
Скоро дверь отворилась, и на пороге ее показалась маленькая, сморщенная старуха.
– Иванушко, ты ли это? – сказала она.
– Я, Арина Панкратьевна, я.
– Так входи, что ты? А я было испужалась – думала, стрельцы, они ведь нынче все рыщут. В Кремле-то, бают, и невесть что деется: бояр режут, царское семейство режут… Сколько зим не виделись мы, Иванушка! – говорила старуха. – Ну, что боярин?
Негр не мог уже больше сдерживаться, снова завопил он отчаянно, так что старуха от него попятилась.
– Нет боярина! Убили боярина! – наконец сквозь рыдания, произнес он.
Старуха так и всплеснула руками и долго охала, собрала всех домашних и приступила к негру с расспросами. Но он ничего не мог ответить.
Наконец он вспомнил, зачем пришел сюда. Рассказал старухе, как встретился с девушкой, которая несла раненого человека, и что этот человек в себя не приходит, а до дому им далеко – так нельзя ли запрячь тележку, довезти, не то что ж, у вас в саду и помрет, пожалуй.







