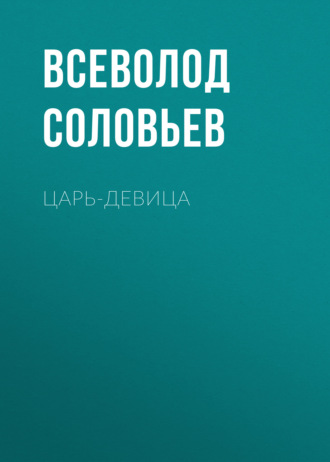
Всеволод Соловьев
Царь-девица
XIII
Царевна Софья чуть ли не первая возмутилась против такой жизни. Она с детства возненавидела терем и его нравы и обычаи, а любовь к ней доброго и разумного отца дала ей возможность приготовить себя к другой жизни. Она училась вместе с братьями у Симеона Полоцкого и превосходила всех их прилежанием и способностями. Любознательность ее не останавливалась на заданных уроках, ей хотелось поскорей знать все, и Симеону Полоцкому иной раз нелегко было исполнять ее требования – на иные вопросы он и сам сразу не мог отвечать, должен был к следующему уроку подготовить свои ответы, должен был сам доучиваться для царевны.
Но сначала, кроме этого учения, на которое головою покачивала царица Марья Ильинишна, Софья все же была в послушании у терема – поневоле должна была исполнять его обряды, только после смерти матери она стала давать себе большую волю, «совсем от рук отбилась», как говорили царевны-тетки.
Она неудержимо выбегала из женских покоев к отцу, присутствовала на всех комедийных действах, иногда даже на обедах царских; видела послов чужеземных и, к окончательному соблазну всех своих родственниц, вела с ними разговоры без стыда и смущения.
Скоро ей стали ясны такие вопросы, такие предметы, о которых до сих пор не помышляла ни одна русская женщина. Она узнала многие подробности управления государством, стала интересоваться всеми новостями, получаемыми из различных концов России, проникла в тайны дипломатических сношений русского двора с иностранными; много думала о том, чего теперь должна добиваться ее родина – чего нужно желать, чего бояться.
Ее взгляды и суждения невольно поражали государственных людей того времени: они должны были краснеть, видя, что молодая девушка во многих случаях оказывается смышленее их и несравненно проницательнее.
Смерть царя Алексея была для всех полною неожиданностью – он был далеко еще не стар и казался крепким человеком. После него государство осталось в затруднительном положении. Много было начато важных дел и не кончено, много было запутанных, нерешенных вопросов и внутри и извне государства, а твердой руки, которая взялась бы за управление огромной и хитрой машиною, не было.
Федор Алексеевич, по старшинству провозглашенный царем, в глазах всех являлся государем на час, потому что трудно было ожидать его долголетия – он был крепко болен, болен с детства и таял, как свечка.
Второй брат Иван, телом казался покрепче, но зато со дня рождения был «скорбен главою».
Оставался третий сын от царицы Натальи Кирилловны, маленький мальчик, Петр Алексеевич. Этот был не похож на братьев, этот рос не по дням, а по часам, поражал всех своим крепким сложением, своей не по летам развивавшейся понятливостью, зачатками страстной, богато одаренной природы.
Царь Алексей, обожавший младшего сына, видел в нем своего преемника, но этому преемнику все же нужно было расти долго. Да к тому же одна только мысль о том, что он сядет на трон отцовский, была ужасна всем его сводным сестрам, их родственникам и приверженцам. Допустить Нарышкиных к трону – значило подписать смертный приговор Милославским: ведь уж и так, с тех пор как Наталья Кирилловна сделалась царицей, плохо пришлось прежним царским родственникам. Страшно боялись они, что всесильный при царе Алексее Михайловиче боярин Матвеев, прежний благодетель и друг царицы Натальи, воспользуется слабостью Федора, провозгласит царем ребенка Петра – да он едва этого и не сделал. Он утаил, как сказывали, смерть царя, подкупил стрельцов, чтоб они стояли за младшего царевича, и только ночью известил бояр о кончине государя. Когда те стали собираться, он посадил Петра на престол и уговаривал бояр, чтобы они поклонились ему на царство, потому что царевич Федор весь опух, лежит больной, и нет надежды, что будет жив.
Бояре чуть было не сдались на речи Матвеева, да узнали от патриарха, бывшего при смерти царя, что отец благословил Федора на царство, а князя Юрия Долгорукого назначил опекуном. Тогда стали поджидать Долгорукого. Вот он приехал во дворец, вошел к боярам, «как вол ревет с жалости по царю» и прямо к патриарху:
– Кого отец благословил на царство? – спрашивает.
– Федора, – ответил патриарх.
Тогда Долгорукий с боярами, не слушая уговариваний Матвеева, бросился в покои Федора, а двери в те покои заперты.
Долгорукий приказал выломать двери. Бояре взяли на руки Федора, который не мог идти, так как у него действительно все ноги опухли. Принесли они царевича, посадили на престол и сейчас же стали подходить к руке его, поздравлять на царстве.
Вот какой рассказ составился во дворце и тереме и обошел всю Москву.
Дорого поплатился Матвеев за свой дерзкий поступок – если только этот рассказ и все это не было выдумано. Царь Федор, по увещанию родни своей, а главным образом сестры Софьи, дяди Ивана Михайловича Милославского, да верховой боярыни Анны Петровны Хитрой, пользовавшейся большим уважением в семье царской, начал свое царствование с немилости к Матвееву.
Знаменитого «Артамона» обвинили в покушении на жизнь царскую, в чернокнижии и сослали в Пустоозерский острог.
С удалением Матвеева царица Наталья Кирилловна с малолетними двумя детьми – сыном и дочерью, осталась беспомощной вдовицей, теснимой всем теремом и Милославскими. Она замкнулась в своих покоях и проводила печальные дни, горюя и жалуясь, молясь и плача. На этих горьких жалобах, на этих слезах и обидах материнских вырастал царевич Петр Алексеевич.
Милославские торжествовали. Терем вздохнул свободно, избавившись от ненавистной мачехи – но надолго ли?.. Вот больной царь умрет, будет предстоять новый выбор между двумя оставшимися братьями – Иваном и Петром.
Иван ненадежен и скорбен главою, а Петр вырастает в богатыря и умника. К тому же и сам царь Федор, хоть и согласившийся на ссылку Матвеева и друживший со своей родней, все же, несмотря на свою телесную слабость, далеко не вполне поддается наущениям людей близких. Вот уже всем известно, что он говорил одному из друзей своих, Ивану Максимовичу Языкову:
«Брат мой Петр здрав и оделен от Бога всеми достоинствами и достоин наследия державного престола Российского. Родитель мой еще имел намерение наречь его преемником, но ради юных его лет назначил меня, по воле его сделаю и я».
Нет, тут нельзя дремать и наслаждаться спокойствием безоблачных дней настоящего, тут нужно ковать железо, пока горячо, нужно все силы употребить для того, чтоб подготовить себе на будущее время твердую опору, предвидеть возможность всяких случайностей, предотвратить всякие беды.
Никто всего этого так не понимал и так не тревожился настоящим положением, как царевна Софья.
Родимица то и дело отправлялась из терема в стрелецкие слободы, раздавала там подарки от имени царевны, готовила приверженцев царевниной партии.
Сама же Софья при всякой возможности отправлялась к больному брату-царю и беседовала с ним.
Она и прежде была дружна с братом; они вместе учились, и Федор Алексеевич, будучи сам разумным и любознательным юношей, очень ценил способности, познания и ясный ум сестры; не умела сойтись Софья только с женой брата, Агафьей Семеновной. Но царица Агафья несколько месяцев перед этим разрешилась от бремени сыном, да и умерла в родах, умер и ребенок.
Федор не хотел жениться вторично; он хорошо сознавал, что не ему думать о браке, не ему мечтать о потомстве – силы оставляют с каждым днем, смерть в глаза заглядывает. Но царевна Софья и другие сестры настояли-таки; заставили согласиться на второй брак и нашли ему невесту, Марфу Матвеевну Апраксину, девочку пятнадцати лет и красоты замечательной, выросшею у них в тереме.
Эта новая маленькая царица, которую Федор ласкал как прелестного ребенка, забывая при звуках ее милого голоса свои тяжкие страдания, должна была служить целям царевны Софьи – и сначала она стала было служить этим целям, но вдруг произошла в ней крутая и неожиданная перемена.
Софья ушам своим не поверила – Марфуша вышла из повиновения!.. Марфуша действует вопреки ее воле! Вот и вчера царь принимал какого-то ее родственника, Апраксина, до сих пор никому неведомого. А сегодня Родимица принесла ужасную весть о том, что молодая царица провела часа три в покоях старой царицы Кирилловны и пошла оттуда прямо к царю с раскрасневшимся лицом и заплаканными глазами.
«Что ж это за напасть такая? – всполошились все в тереме. – Какой это злодей нашелся, который так неожиданно, мгновенно забрал в руки этого до сих пор послушного ребенка?!»
Но злодея такого не было, просто ребенок понял что-то и сообразил. Молодая царица оказалась далеко не глупенькой и всей душой привязалась к страдальцу царю – мужу ей только по имени. Это он послал ее к царице Наталье, проведать младшего брата, а царица Наталья-женщина разумная, сумела ее разжалобить. Много ей наговорила, много перед ней поплакала и раскрыла многое такое, чего до сих пор не видела и не понимала Марфуша.
И вот пришла жена-ребенок к царю Федору и передала ему разговор с царицей, а он сильно призадумался. Следствием этой думы была его внезапная холодность к Ивану Милославскому и даже к сестре Софье.
Царица Марфа с этого дня частенько стала посещать Наталью Кирилловну, вошла в ее интересы и скоро выпросила у царя облегчение участи Матвеева, которого приказано было перевезти в город Луг Костромской губернии. При этом ему дали небольшую вотчину в виде вознаграждения за долгую опалу.
Несмотря на весь ум и все старания Софьи, терем очутился опять в тяжелом положении. Ненависть Натальи Кирилловны и Нарышкиных за это последнее время обид и притеснений должна была только увеличиться, и если прежде царевна и Милославские в случае торжества Нарышкиной партии ожидали себе бед и несчастий, то теперь уж им грозила окончательная погибель.
Софья не унывала. Она то и дело посылала письма к своему другу князю Василию Васильевичу Голицыну, находившемуся в то время на украинской границе, умоляла его под каким-нибудь предлогом вырваться и приехать в Москву.
Она приблизила к себе старшего князя Ивана Андреевича Хованского, бывшего воеводу царя Алексея. Этот князь, прозванный в народе Тараруем, был человек беспокойный, заносящийся, неприятный и даже совсем нерассудительный, но отличался смелостью и энергией, мог очень пригодиться в трудную минуту, когда нужно было действовать решительно и без оглядки.
На его привязанность царевна могла рассчитывать – он недоволен был новыми нравами и порядками, любил старину во всех ее проявлениях, ненавидел Нарышкиных и Матвеева, был в свою очередь ненавидим ими и потому, конечно, ни при каких обстоятельствах не мог оказаться в числе приверженцев партии младшего царевича.
Софья пошла дальше; с помощью Родимицы и богатых подарков и обещаний она закупила некоторых стрелецких начальников, имевших влияние на солдат: полковника Циклера да Озерова, да выборных стрелецких: Борисова, Одинцова, Офросимова, Петрова, Кузьму Черного. Все эти люди по первому знаку ее готовы были на что угодно.
Вскоре к числу ее приверженцев из стрельцов присоединился и Николай Степанович Малыгин да и как могло быть иначе? Молодой подполковник не забыл красавца мальчика, приставшего к стрельцам в Медведкове. Мало того, что не забыл, а думал о нем постоянно и частенько заглядывал с черного крыльца в терем. Там он сумел найти союзниц в лице двух молодых служанок, приставленных к Родимице и Любе Кадашевой.
Эти служанки, получая от него богатые подарки, всегда радовались его приходу и провожали его внутрь терема так ловко и потаенно, что никто о том не ведал.
Родимица на все эти проделки только усмехалась, а Люба, смущенная и красневшая, как маков цвет, не была в силах негодовать, когда встречала Николая Степановича в теремном коридорчике или даже в своем помещении. Напротив, она искренне и откровенно радовалась возможности его видеть, не скрывала своего чувства. Что ж бы и была она такое, если бы оказалась неласковой к человеку, которому стольким обязана…
Не раз также случалось, что Родимица, отправляясь с поручением царевны в стрелецкую слободу, брала с собою Любу, и та появлялась желанной, дорогой гостьей в домике Малыгина.
До сих пор между ними не было еще сказано ни одного слова любовного, но оба они хорошо понимали, что любят друг друга, и были бесконечно счастливы, и другого счастья им было пока не нужно. Они не думали о завтрашнем дне, наслаждались сегодняшним.
Царевна Софья, ежедневно видя Любу, начала замечать в ней большую перемену. То казалась она ей рассеянной, смущенной, то вдруг такой веселой и радостной. Царевна заинтересовалась этим, стала ее спрашивать.
Люба запиралась было во всем, переконфузилась, да вдруг не выдержала и сама призналась царевне в своем чувстве к Малыгину: разве она могла скрыть что-нибудь от Царь-девицы!
Царевна задумалась на мгновение, а потом стала подробно расспрашивать Любу о Николае Степановиче, о том, в каком он полку, любят ли его солдаты, с кем из товарищей ведет он дружбу?
Люба отвечала как умела, а чего не знала, о том при первом же свидании расспросила Малыгина и передала царевне.
Софья сделалась к ней еще ласковее, и в один из вечеров, когда Люба была у нее на дежурстве и раздевала ее перед отходом ко сну, она сказала ей, что спать не хочет, и просила ее посидеть у ее постели.
Люба с восторгом приняла такую милость. Сама уложила красавицу царевну, поцеловала ее белые руки, не знала, чем и выразить ей свою любовь и благодарность. Но царевна была бледна и печальна, частенько вздыхала.
Люба не могла не заметить этого и осмелилась, спросила о причине царевниной грусти.
– Ах, Любушка, Любушка, как же не грустить мне, – тихим голосом отвечала Софья, – это ты вот можешь петь и веселиться. Ты счастлива, ты молода, то горе, которое было у тебя, прошло бесследно, вон у тебя любимый человек есть, с которым никто не разлучит тебя. Ах, Люба, спеши ты со своим милым, сыграйте скорей свадьбу, я благословлю тебя – чем могу, пожалую. Спешите, а то придет время лютое, погубят меня злые люди, да и тебе, пожалуй, достанется за то, что меня любишь, за то, что со мною… Погубят и твое счастье… спешите!..
– Царевна моя золотая, – прошептала Люба, со страхом и недоумением раскрывая свои глаза, из которых закапали слезы, – что ты говоришь такое? Откуда тебя напасть ждет?
И царевна поведала своей второй постельнице все, что было нужно.
Люба плакала, слушая ее жалобы; всем горячим сердцем своим ненавидела она врагов царевны; клялась, что если стрясется беда какая-нибудь, то и она, Люба, погибнет, ни на шаг не отстанет от царевны, всю кровь свою по капле за нее выльет, душу свою положит. Она еще говорит, чтобы Люба спешила свадьбою. Нет, бог с ним, с Николаем Степановичем! И от него она откажется, и его забудет ради царевны!..
– Зачем тебе от него отказываться? – тихим голосом прошептала Софья. – Нет, будьте счастливы, ловите счастье, пока оно возможно! Я постараюсь всячески помочь тебе… да ведь и ты в свою очередь со своим суженым можете помочь мне…
– Как же мы можем помочь тебе, царевна? Как? Говори! Приказывай! – радостно вскричала Люба.
Царевна начала объяснять ей. Объяснить было нетрудно – Люба на лету схватывала мысли Софьи и через две-три какие-нибудь минуты уже отлично знала, что ей делать и как действовать.
На другое утро отправилась она к Малыгину. Яркими красками описала она опасность, которой подвергается Софья, и потребовала от него, чтобы он употребил все свои усилия помочь ей, настраивал в ее пользу и товарищей своих, и стрельцов.
До этой поры Малыгин был далек от Софьи и даже не раз сильно отмалчивался на хитрые речи Родимицы, которая уговаривала его мутить стрельцов против младшего царевича и Нарышкиных.
Но теперь он не в силах был устоять перед красноречием Любы. Все возражения, какие мог он ей представить, замерли невыговоренными на устах его – он только слушал красавицу Любу, любовался ее оживленным лицом, ее блестевшими глазами, – и через полчаса каких-нибудь она его оставила горячим приверженцем Софьи. Он обещал ей сделать все, что от него зависело, и, действительно, в скором времени исполнил это обещание: весь его полк оказался на стороне царевича Ивана и царевны и только ждал событий, которые должны были указать на способ действий.
XIV
Весна была уже в полном разгаре. Таяло. Снег весь потоками слился с холмов московских. Зазеленели бесконечные сады в Белокаменной.
В городе по-прежнему велась жизнь оживленная, но еще больше жизни, еще больше оживления было в Кремле. Туда, проведав о плохом здоровье царя, о возможности близких, великих событий, съезжались со всех концов земли русской бояре и всякие люди, не желавшие пропустить удобного времени, в которое можно было бы наловить рыбы в мутной воде: легко поживиться чем-нибудь, легко чего-нибудь добиться.
Здоровье царя день ото дня становилось хуже. Еще 16 апреля в Светлое воскресенье он совершил торжественный выход к заутрене в Успенский собор, но к концу Святой слег и не в силах был подняться с постели.
Царевна Софья опять все дни стала проводить с братом. Она читала ему, старалась развлечь его разумной беседой, отогнать от него печальные мысли и в то же время добиться своей цели, заставить его назначить своим преемником брата Ивана. Но об этом деле до сих пор никак не удавалось ей поговорить с ним – все мешали то Языков, то кто-нибудь из Апраксиных, то царица Марфа.
Царевна, приходя к брату, чувствовала себя здесь окруженной врагами. У постели больного у нее был один только друг – царская мамка, боярыня Хитрая. Но при посторонних, при людях другой партии, Хитрая не выказывала своего расположения к царевне и прикидывалась всецело поглощенной обязанностями сиделки.
Сам царь Федор был всегда рад присутствию сестры, рад был отдохнуть душою в разговорах с умной, образованной Софьей; никто так красно и так интересно не умел говорить с ним, как она. Но только стоило ей, улучив удобную минуту, заговорить о чем-нибудь близком, касавшемся до его распоряжений на будущее – и он ее останавливал, ласково, любовно, но все же останавливал.
Она едва владела собою, едва скрывала свое отчаяние и негодование, и когда должна была удалиться к себе, то ломала руки или, схватив себя за голову, как безумная, по целым часам ходила из угла в угол и глухим голосом повторяла:
– Боже мой! Что ж с нами будет?
Остальные царевны, ее сестры, тоже призамолкли и пригорюнились: не слышно было их смеха, их песен. Хотя они были гораздо беспечнее ее и даже не понимали многих ее опасений, но все же им ясно было, что пришло тяжелое время.
Они с охотою выслушивали жалобы сестры Софьи, во всем соглашались с нею, одобряли ее планы, только предоставляли ей одной действовать и бороться. Им было не до борьбы, у каждой из них были свои маленькие заботы и дела, своя интимная жизнь, не имевшая ничего общего с кипучей жизнью и деятельностью Софьи…
27 апреля после вечерни Люба Кадашева вышла во дворцовый сад и, бродя по дорожкам, дошла почти до самого дворца. Здесь было одно из крылец, ведших в покои царя.
Время от времени на крыльце появлялся кто-нибудь из постоянных обитателей дворца и проходил в маленькую калитку, выходившую на большой двор. Этот выход через сад очень сокращал дорогу и в летнее время им обыкновенно пользовались.
Все было тихо, только птицы щебетали в зеленых, недавно распустившихся древесных ветках, да с черемухи осыпался белый цвет.
Люба присела на скамеечку, поставленную под раскидистым деревом, и просидела так несколько минут, вдыхая в себя весенний душистый воздух и разбираясь в различных тревожных мыслях: время было смутное – неведомо что завтрашний день готовил.
Вдруг в нескольких шагах от нее, перед дворцовым крыльцом, услыхала она громкий, тревожный голос.
– Скорей, скорей, – говорил кто-то, – что за народ такой! Некогда тут мешкать, когда царь кончается!..
Эти слова наполнили Любу ужасом. Она быстро вскочила со скамейки и побежала в терем, прямо к царевне Софье.
– Государыня, матушка царевна, была я в саду и сейчас слышала… во дворце говорят, будто царю-государю плохо… будто кончается!
Софья побледнела, быстро накинула на себя летник и, задыхаясь от волнения, побежала во дворец, в покои брата.
Федору, действительно, было очень плохо, пришел смертный час его. Он только что перед этим исповедовался и приобщался Святых Тайн.
Царица Марфа сидела у изголовья его кровати, горько плакала и громко всхлипывала.
Боярыня Хитрая находилась тут же; больше никого не было. Царь приказал всем выйти и оставить его только с женой и с мамкой.
Царевна Софья, войдя в покои, на мгновение остановилась и выразительно взглянула на Хитрую.
Та поняла ее взгляд, в свою очередь ответила ей многозначительным подмигиванием.
Боярыня Хитрая в это время была уже семидесятилетняя старуха, хотя необыкновенно бодрая. Она всю жизнь провела во дворце, знала все тайны царской семьи, очень часто была центром всех теремных интриг, пользовалась всеобщим уважением и большим влиянием. Ее называли постицей, и она, действительно, на людях представлялась самой ревностной христианкой: не только что соблюдала все посты, но даже иногда по нескольку дней морила себя голодом. Поговаривали одно время, что она носит вериги, только никто этих вериг не видал, и скоро толки о них прекратились.
Боярыня Хитрая носила кличку по шерсти; она понимала, что под видом постницы и смиренницы ей несравненно легче вести свои интриги и обделывать всевозможные дела, не рискуя своей репутацией и ничего не теряя в уважении ближних.
Ее страстью было сеять всюду раздоры, поднимать всякие дрязги, раздувать мелкие недоразумения в крупные обиды, ссоры, неприятности. Только сама она постоянно из всего выходила с чистыми руками, как будто дело вовсе не ее касалось: заварит кашу – а другие расхлебывай, сама же Хитрая в стороне, глаза опустит, четки перебирает, губы шепчут молитву, и толкует она мерным голосом встречному и поперечному о христианском смирении, о любви к ближнему.
В последние годы своим хитрым, злым языком она как могла только раздувала ненависть царевен к Наталье Кирилловне и ее детям. Раздувала ненависть к мачехе и в царе Федоре, но в то же время наведывалась и ко вдовствующей царице и представлялась ее другом. В душе она ее ненавидела и теперь, в предсмертный час царя Федора, конечно, пуще всего боялась ее торжества. Только видела она, что чересчур трудно заставить умирающего назначить себе преемником царевича Ивана; ей нужно было так действовать, чтобы при всяких обстоятельствах, при торжестве той или другой партии, самой ничего не потерять и остаться на высоте своего положения.
Любимая и почитаемая Федором, она хитро и осторожно в эти последние дни не раз намекала ему о царевиче Иване, но, видя, что он не поддается, замолкала.
«Пускай теперь Софья с ним потолкует, может, чего и добьется, – подумала Хитрая, – а мне как бы нибудь удалить Марфу, чтобы не мешала».
– Ах, матушка моя, голубушка, – проговорила Хитрая, подходя к молодой царице, – что это так ты убиваешься, погляди – на тебе лица нет, совсем изведешь себя. Ну, Бог милостив, государю полегчает, поправится. Да перестань же, успокойся!..
Но царица Марфа залилась еще пуще слезами и упала головою на подушку, сжимая в своих горячих полных руках сухую, бледную и слабо вздрагивавшую руку Федора.
– Да, Петровна правду сказала, – прошептал царь, с трудом открывая глаза и стараясь улыбаться. – Не плачь, Марфуша, мне гораздо лучше… Вот уж совсем не больно! Успокойся, поди отдохни… Засни немного – ведь ты всю ночь глаз не сомкнула – может, и мне соснуть удастся… Поди отдохни…
Хитрая опять бросила в сторону Софьи значительный взгляд и сказала:
– И впрямь, государыня, дай-ка я провожу тебя. Приляжешь тут же, рядом в покое, так тебе все и слышно будет, коли государь позовет тебя. Пойдем, пойдем… А то ты его только мучаешь своими слезами, что толку-то? – шепнула она на ухо царице. – Успокойся, нельзя ведь так, неравно ему от этих твоих слез и мучений, на тебя глядя, еще тяжелее сделается…
Бедная царица при последних словах Хитрой оставила руку Федора и, поддерживаемая старухой, покорно вышла из царской опочивальни.
На ее место к постели брата приблизилась Софья.
– Что, Федя? Али худо? – прошептала она, склоняясь над ним.
– Ох, худо, сестрица! Марфушу-то вот успокаивал, а чего уж тут, совсем пришла! Умираю, вряд ли доживу до ночи, сам чувствую, да и дохтур надежды не имеет. Приходил он сюда с час тому времени, так я заставил его сказать мне правду.
Федор остановился, перевел дыхание и затем начал снова тихим голосом:
– Что ж, сестрица… Я не боюсь смерти, давно приготовился… Вас всех только жалко… Да что… Суждено, видно, ничего не поделаешь… Ох, страшно подумать, времена какие!.. Дел сколько… И то нужно… И другое. И одно не в порядке, и другое перестройки требует… Сама знаешь, великое государство… Да что тут у вас без меня будет – подумать страшно…
Софья хотела говорить, но он начал шептать снова, и она слушала.
– Ах, зачем это вы уговорили меня опять жениться?.. Вот послушался вас, загубил век девичий. Не женись я, Марфуша нашла бы себе мужа здорового, прожила бы счастливо, детей народила бы, вынянчила, воспитала… а теперь что?.. Как она останется?
– Братец, да мы ли виноваты, – проговорила Софья, – все надеялись, что поправишься ты, да подаришь нам наследника по себе. Сам знаешь… Ведь и тебе и нам дорога Россия, так о будущем ее тоже думали.
– Ах, сестра! – с печальной, слабой улыбкой опять заговорил Федор. – Да что ж, хоть бы и в живых остался сын мой или другой родился бы, так что ж, еще хуже того было бы теперь, еще больше смут и раздоров… Есть по мне наследник…
Он не договорил и с глухим стоном схватился за грудь.
– Что? Что с тобой? – испуганно спросила Софья.
Но он уж успокоился.
– Нет, ничего! – ответил он.
– Ты говоришь, братец, есть по тебе наследник, – сказала царевна, – да, конечно, брат Иванушко.
– Нет, не Иванушко… – тихим, но твердым голосом перебил ее царь. – Не Иванушко – что себя и других морочить – он-то еще плоше моего… сама знаешь… грешно и стыдно мне оставлять ему государство!.. Грешно и стыдно и тебе, сестра, твердить мне об этом… Другой брат есть у нас… тот растет здоровый и разумный… о нем и отец думал, да и я должен ему оставить государство. Вырастет он и – чует сердце мое – будет царем добрым и славным, не таким, как я, по глупому моему разуму, по слабости моей телесной и по грехам моим великим, был для земли русской… Только вот что будет, пока вырастет? Эта мысль отравляет мои последние минуты, и ничем я не могу отогнать ее… Ох, сестра, тут как ни думай – страшно!..
У Софьи сердце так билось, что делалось больно. Глаза ее то загорались ярким пламенем, то померкали. Она чувствовала, как холодеют от волнения ее руки, чувствовала, как сохнет во рту – пришла трудная минута, страшная минута! Она видит, что брату плохо, того и жди умрет. Нет, нельзя допустить, чтобы он назначил преемником себе Петра… Нельзя, нужно уговорить, нужно уговорить его… И она упала на пол перед кроватью Федора и простерла к нему дрожащие руки.
– Брат! Именем Бога заклинаю тебя, выслушай меня и обрати внимание на слова мои. Ты сам знаешь, что всем сердцем моим люблю я нашу родину и желаю ей чести и славы… Не из-за какой-нибудь злобы, не по ненависти и коварству говорю я тебе, не бери греха на душу, не назначай себе преемником ребенка, не отдавай Россию Нарышкиным!.. Уж не о том забочусь, не о том думаю, что погубят они всех нас, родных твоих – что о нас тут толковать, пускай мы пропадем, да ведь с нами пропадет и Россия!.. Или ты не знаешь этих Нарышкиных? Людишки они темные да грязные, растащат, разнесут по клочкам твое наследие… Пускай Петр разумный ребенок, да пока-то еще вырастет. Брат, смилуйся над нами, смилуйся над Россией – оставь престол Иванушке… Мы все, рук не покладая, работать будем, твои дела продолжать станем… Брат, вспомни, ведь немало мы с тобой толковали о делах государства, о будущем, о том, к чему нужно стремиться, что нужно делать… Брат, вспомни, что ты сам хвалил мои мысли, ты сам видел, что и твои я понимаю! Клянусь тебе Богом, клянусь тебе памятью родителей, всю душу мою положить в одно дело… Брат, сжалься над нами!
Крупные слезы катились из светлых глаз Софьи. В своем волнении, в порыве какого-то вдохновения, охватившего ее, она была неотразимо прекрасна. Федор глядел на нее долгим, грустным и ласковым взглядом; он с трудом поднял свою руку и опустил ее на плечо сестры.
– Ах, Софья, Софья! – проговорил он. – Тяжко мне слышать слова твои – знаю, что во многом ты права, знаю, какие беды всем вам готовятся – но что же мне делать?.. Не смею согрешить перед Богом, не смею отступиться от своей клятвы… Слышишь ли? Я связан клятвою, данною мною покойному родителю… Софья, сердце мое разрывается, на тебя глядя и о вас всех думая… Ох… тяжко, тяжко; любя вас, страдая о вас, должен наложить я на вас руку. Не смею завещать Россию Иванушке, ибо весь мир знает, каков он, знает, что не может он царствовать. Что ж, кого же по себе назначить преемником? Тебя, что ли? Ты бы и управилась, пожалуй, великим разумом Господь наделил тебя; но, Софья, ведь это же невозможно!.. Ведь тому не бывало никогда примеров… Сделай я это – и все только насмеются над моим завещанием, не станут целовать крест тебе, соблазн один выйдет и ничего больше. Нет, Софья, нет, напрасно ты и себя и меня мучаешь – я ничего не могу… ничего!..
В волнении Федор приподнялся было с подушек, но вдруг лицо его исказилось, слабый крик вырвался из груди его, и он упал.
Он хотел говорить что-то, но язык не слушался, руками он делал какие-то знаки, но Софья его не понимала.
Прошло несколько страшных мгновений; вот опять стоны, опять усилия сказать что-то… и ни звука!
Софья кинулась к нему, обвила его руками… он оставался без движения. Вдруг ей показалось, что он уже умер, и она, отшатнувшись и дико взвизгнув, навзничь упала на пол.
На пороге опочивальни с отчаянным воплем показалась царица Марфа, а за нею боярыня Хитрая.
Но царь еще не умер, он еще дышал. Он открыл глаза, нашел в себе силы поманить жену, взял ее руку и держал, и не выпускал, и глядел на нее потухавшим взором.
Хитрая долго не могла привести в чувство царевну Софью.
XV
Между тем весть о близкой кончине царя быстро разнеслась по всему Кремлю. Вот она перелетела за Кремлевскую стену, разлилась вдоль улиц Белокаменной, перебралась за городской вал и побежала из одной слободки в другую.
Москва встрепенулась, всколыхнулась и зажужжала десятками тысяч голосов человеческих. Все, от мала до велика, с одной и той же бесконечно повторяемой фразой «царь отходит» суетились, метались; и не прошло двух часов, как громадные толпы народа спешили к Кремлю, перегоняя друг друга.







