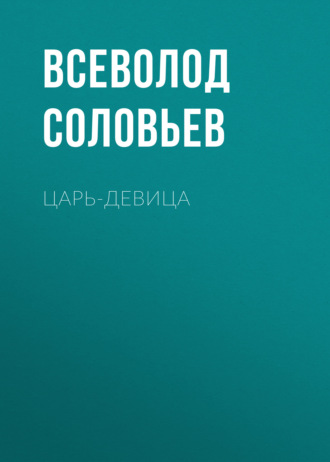
Всеволод Соловьев
Царь-девица
Но все кремлевские ворота стояли на запоре. Всюду была расставлена крепкая стража: пропускали весьма немногих.
Внутри Кремля было великое смятение: мужчины и женщины, подначальные люди и бояре – все смешалось и перепуталось. Сановитые старцы позабыли свои лета и положение, бегали, как юноши, переговаривались и перешептывались друг с другом, протискивались поближе ко дворцу – кто мог в царскую переднюю, а то так и дальше ее, ближе к царской опочивальне.
Скорбное ложе Федора было окружено теперь со всех сторон. Патриарх читал над царем отходную; царица Марфа безумно рыдала у изголовья постели; тетки и сестры царские стояли неподвижно с бледными, перепуганными лицами.
Но всех бледнее из них, всех испуганнее была царевна Софья. Она видела теперь, что все ее старания оказались тщетными: царь был в забытьи, вряд ли придет в себя, вряд ли будет в состоянии сделать какое-нибудь распоряжение. Да если бы и пришел в себя, разве было бы теперь возможно уговорить его, разве теперь допустят?
Было мгновение, когда царевна дошла до полной безнадежности, готова была отказаться от борьбы, но это было только одно мгновение… Снова яркая краска вспыхнула на ее бледных щеках, глаза разгорелись. Она незаметно, неслышно пробралась в другую сторону опочивальни, подошла к своему дяде, Милославскому, и шепнула ему:
– Что ж… ведь видишь, что все кончено!.. Нужно сделать еще одну попытку… нужно, чтобы народ требовал Ивана… распоряжайся… скорее!.. Где Максим Сумбулов?
– Я его видел во дворе, – тоже шепотом ответил Милославский.
– Ну, так выйди, – тихонько продолжала Софья, – теперь никто не заметит… Патриарх еще долго будет читать… Боже мой, ведь не сейчас еще кончится… Скажи Сумбулову, чтобы скорее, как можно, набирал людей, чтоб были они наготове… Обещай ему, что хочешь… обещай боярство, деньги… Ради бога… иначе мы все пропали!
И через мгновение с опущенными глазами, на которых блестели слезы, она была уже снова у постели брата, а Милославский вышел из опочивальни и пробирался в переднюю.
Между присутствовавшими недоставало царицы Натальи Кирилловны и царевича Петра. Однако и им уж было обо всем дано знать, и они спешили во дворец, но с царем они все же не успели проститься…
Среди тишины опочивальни, прерываемой глухими рыданиями да мерным голосом патриарха, под никому неведомые, светлые грезы и видения лучшего мира отошел в вечность царь Федор Алексеевич…
Присутствовавшие едва могли уловить его предсмертную агонию, и долго бы все ждали, если бы отчаянный крик царицы Марфы, почувствовавшей, как рука Федора отяжелела и стала застывать в трепетавших руках ее, не дала знать о том, что все уже кончено…
Словно электрическая искра пробежала по всему дворцу и Кремлю… Толпы народа хлынули в растворенные теперь настежь ворота.
Приближенные царские почти на руках вынесли из опочивальни безумно рыдавших царицу и царевен. Одна Софья не рыдала и не причитала. Как каменное изваяние, с безжизненным, застывшим лицом стояла она у братнего трупа и сама была похожа на мертвеца. Пришла ее страшная минута, и она лучше чем кто-либо знала, до какой степени страшна эта минута. Она знала, что торжество ее возможно было только при существовании царского завещания, потому что у Милославских партия невелика, потому что все уж видели в Петре преемника.
И, действительно, в дворцовых покоях бояре и сановники горячо толковали между собой, и всюду слышалось одно имя, имя это было – Петр.
Царевна решилась было обратиться к патриарху, убедить его стать на их сторону, но патриарх ничего не ответил ей утешительного, сказал на вопрос о том, кого выбирать будут, что избрание зависит от народа, так как государь скончался, не выразив своей воли.
На мгновение слабая надежда мелькнула Софье; Милославский подошел к ней и шепнул, что дело идет на лад, что Сумбулов поспеет привести с собою немало народу, и что, кроме того, в среде бояр будет большая разногласица.
Милославские не дремали в эту решительную минуту. Все они по всем покоям дворца царского нашептывали сладкие речи то тому, то другому боярину, заманивали не друживших с Нарышкиными всевозможными обещаниями почестей и богатства.
Прошел еще час тревожного ожидания – и их усилия начали увенчиваться успехом. То здесь, то там, то в одном углу, то в другом рядом с именем Петра стало слышаться и имя царевича Ивана.
Если б явился теперь этот старший царевич, если б мог он бодро пройтись по этим покоям и понять роль свою, дело Милославских было бы решенным. Но царевич Иван, больной и убогий, спал на своей мягкой перине. Его было разбудили, сообщили ему о смерти брата, пробовали заставить его подняться и идти в царскую опочивальню, но он не мог подняться, казалось, даже ничего не понял из того, что ему говорили, перевернулся на другой бок и снова забылся.
Милославские поняли, что в таком печальном и болезненном виде лучше ему уж не показываться – посмотрят на него и только хуже выйдет.
Но ведь необходимо было царевичу проститься с братом. Его одели, как малого, несмышленого ребенка и под руки повели в приемные царские покои. Собравшиеся бояре только смущенно переглядывались при виде несчастного царевича.
Милославские на всякий случай, возвращаясь в царские покои, захватили с собою оружие. С другой стороны, и приверженцы Петра – дядька его, князь Борис Алексеевич Голицын, с братом своим Иваном и четверо Долгоруких, отправляясь во дворец на царское избрание, тоже поддели себе под платье панцири – все теперь так полагали, что дело дойдет до ножей непременно. Но на этот раз обошлось мирно и без смуты.
Тело царя Федора было уже обмыто, облечено в царские одежды.
Скоро от самого крыльца до опочивальни образовалась длинная цепь по два человека в ряд – это шли проститься с покойным царем.
В одном из самых обширных покоев дворца, недалеко от опочивальни, происходила другая церемония – целование рук царских братьев.
Царевич Иван и Петр сидели рядом. Старшего окружили сестры и Милославские; рядом с Петром поместилась его мать, царица Наталья, ее брат Иван Нарышкин, Долгорукие и Голицыны.
Бледное, бессмысленное лицо Ивана было опущено вниз, глаза полузакрыты; он, по-видимому, дремал, не обращая ни малейшего внимания на окружавшее. Его рука, которую почтительно целовали подходившие, лежала на бархатной перекладине кресла.
Младший царевич – красивый мальчик с русыми кудрями и огненным взглядом темных глаз, теперь заплаканных, зорко, но смущенно посматривал по сторонам, постоянно шевелился, будто ему трудно было усидеть на месте.
Иногда он оборачивался в ту сторону, где стояли царевны и Милославские, подмечал какой-нибудь недружелюбный взгляд и жался к матери, схватывал ее руку и не выпускал из своей.
Царица Наталья Кирилловна с серьезным и строгим лицом поражала своей величавой фигурой, полной достоинства и грусти.
Она склонялась над сыном и иногда шептала ему, чтобы он сидел смирно и не обращался к ней с ненужными вопросами. Но мальчик не мог сидеть смирно, не мог не передавать на ухо матери своих впечатлений.
Между тем патриарх, увидев, что народ московский в большом количестве собрался уже на площади перед церковью Спаса, вышел в переднюю, окруженный архиереями и многими вельможами.
При его входе все затихли и ожидали, что он скажет.
– Бояре, – тихим голосом произнес патриарх, – кто из двух царевичей царем будет?
– Как же нам решить, – послышалось в ответ несколько голосов, – пусть решают всех чинов люди Московского государства!
Тогда патриарх, архиереи и все бывшие в передней вышли на крыльцо. Вся площадь чернела головами, носился тихий неопределенный говор в душистой тишине весеннего вечера.
– Люди Московского государства! – провозгласил патриарх. – Вам уже ведомо, что великий государь царь Федор Алексеевич преставился, чистая душа его вознеслась к престолу Всевышнего! Вам предстоит теперь решить, кому из царевичей, Иоанну Алексеевичу или Петру Алексеевичу, быть на царстве?
– Петру Алексеевичу! – загудела толпа, и только слабо, в нескольких местах, раздалось имя Ивана.
Патриарх, духовенство и бояре стояли молча и слушали.
– Петру Алексеевичу! – раздался вторичный рокот.
– Ивану Алексеевичу! – опять перебили несколько голосов и в том числе громкий отчаянный голос дворянина Сумбулова. Но что значил этот отчаянный, слабый и нерешительно повторенный крик перед громким решением московских жителей?..
Патриарх поклонился народу и вернулся в царские покои. Торжественно, среди сонмища всего боярства и чинов придворных, войдя в палату, где находились царевичи, он объявил, что народ московский порешил быть на царстве Петру Алексеевичу и, подойдя к смущенному и взволнованному ребенку, благословил его своей дрожавшей старческой рукою на царство.
Иван, по-прежнему сидевший неподвижно, остался совсем безучастным к торжеству брата.
Царевны и Милославские, с сердечным замиранием ожидавшие роковой минуты, не могли прийти в себя от ужаса. Поникнув головами, едва имея силы исполнить свою обязанность перед избранным царем, подняли они Ивана с кресел, взяли его под руки и вышли из палаты…
Шатаясь, с исказившимся лицом и судорожно вздрагивавшими губами, страшная, на себя не похожая, вошла царевна Софья в свои покои. Не говоря никому ни слова, не отвечая на обращенные к ней вопросы, она только махнула рукою и заперлась в своей опочивальне.
Она не заметила даже, что заперлась не одна, что в это время ее постель приготовляла Люба Кадашева.
Люба подошла теперь к царевне, взглянула в лицо ее и не могла удержать невольно вырвавшегося из груди крика:
– Государыня, что с тобою?! Ты больна? Да вымолви хоть слово!
Софья не отвечала. Она, казалось, не слышала, не видела Любы, ничего не видела и не слышала.
– Государыня, я позову кого-нибудь, – продолжала перепуганная Люба, – за дохтуром нужно послать… Господи, Царица Небесная! Что это такое?
Царевна очнулась.
– Чего тебе? – страшным, охрипшим голосом прошептала она, дико взглянув на Любу. – Чего тебе? Уйди, оставь меня… Мне никого и ничего не нужно!..
Но Люба не могла уйти, у нее ноги подкашивались, она как будто приросла к месту.
Между тем Софья мало-помалу начала приходить в себя. Целый рой мыслей закружился в голове ее. Она обернулась к Любе.
– Это ты… Ты здесь? Ну, так слушай! Сейчас… Скорее… Беги, зови ко мне боярина Ивана Михайловича Милославского. Он должен быть еще где-нибудь здесь… Зови сестер… Зови скорее!..
Люба кинулась из опочивальни исполнять приказание царевны.
Софья упала в кресло, опустила голову на грудь, несколько мгновений сидела неподвижно. Потом вдруг она поднялась снова и остановилась посреди комнаты, высоко подняв свою гордую голову, сверкая прекрасными глазами.
– Нет! – страшным голосом громко проговорила она. – Так не может кончиться!.. Я не хочу умирать! Я не хочу гибнуть… Я жить хочу… Я должна жить… Я буду жить! Я еще могу бороться!..
Она подошла к окошку, распахнула его и жадно, всей грудью вдыхала свежий, вечерний воздух.
Кругом дворца стихало… Толпы народа расходились. Над Москвою со всех концов раздавался печальный гул колоколов, разносивший весть о кончине царя Федора.
Часть вторая
I
Радостное весеннее солнце заливало весь Кремль горячим светом; от могучих лучей его новая жизнь зарождалась повсюду; быстро распускались почки сирени в садах дворцовых, разливая вокруг себя благоухание. Но не могли эти животворные лучи оживить царя Федора. Он лежал в богатом парчовом гробу. На его молодом, теперь бледно-желтом, будто восковом лице не было и следа перенесенных страданий. Спокойна и тиха была улыбка неподвижных уст, которых еще не решалось коснуться тление.
Вокруг гроба кипели расходившиеся людские страсти.
Начинало уже исполняться то, чего бедный царь так боялся в свои последние, скорбные дни: во дворце готовился целый ряд ужасных смут, конца которым не предвиделось; только одно присутствие царского гроба мешало этим смутам разразиться.
С нетерпением дожидались Милославские минуты, когда царь будет похоронен. Вот и пришла эта минута.
Под темными сводами собора в ряду царских могил открыт новый склеп, где должны навеки успокоиться кости Федора.
Все готово для пышной церемонии. С раннего утра царедворцы, бояре и духовенство собрались в Кремль. Народ сплошной толпой поместился по обеим сторонам дороги между соборами, дожидаясь конца отпевания. Но отпевание тянулось долго; говорили, что новоизбранному царю Петру Алексеевичу сделалось даже дурно: не вынес ребенок усталости и страшной духоты в соборе. Действительно, все видели, как далеко еще до окончания службы царица Наталья Кирилловна вышла из собора с сыном и отправилась во дворец. Некоторые вельможи, в том числе Голицыны и Нарышкины, сопровождали царицу.
Наконец внутри собора, ближе к выходу, раздалось глухое церковное пение.
– Несут, несут! – пробежало в толпе.
Все стихли и сняли шапки. И вот показалась торжественная, печальная процессия: патриарх со всем духовенством, бояре… Царевен не было – по обычаю они не могли участвовать в подобных церемониях.
Но что это?.. Народ в недоумении вглядывался, не веря глазам своим, – у самого гроба идет она, в толпе мужчин, царевна Софья.
Как ни уговаривали ее, она твердо объявила, что проводит брата в вечное жилище и не видит в этом ничего для себя постыдного.
Она идет за гробом и горько, громко плачет, и с каждым мгновением мучительнее ее слезы.
Процессия скрылась за папертью соборной; народ остался дожидаться выхода патриарха по окончании погребения. В особенности всем хотелось еще раз взглянуть на царевну.
Долго длилось это ожидание. Далеко за полдень. Наконец царь предан земле, и процессия в прежнем порядке потянулась из собора.
Взоры всех обращаются на Софью. Она плачет еще горче, чем тогда, когда шла за гробом брата; вот рыдания ее превращаются в вопли. Народ теснится ближе к ней. В толпе проносятся тихие замечания:
– Ишь, царевна-то бедная как плачет, убивается!
Софья, несмотря на свое горе, слышит эти замечания. Ее заплаканные глаза обращаются к народу.
– Видите!.. – горьким, прерываемым рыданиями голосом говорит она. – Видите, как брат наш Федор неожиданно отошел с сего света!.. Его враги отравили зложелательные!..
При этих словах глухой ропот проносится в толпе. В этом ропоте слышится жалость, ужас. Царевну поняли…
Она чует это и, снова рыдая, продолжает:
– Умилосердуйтесь над нами, сиротами! Нет у нас ни батюшки, ни матушки, ни брата старшего… Брат наш Иван не выбран на царство… А если мы перед вами или боярами провинились, то отпустите нас живыми в чужие земли, к королям христианским!..
Гул в народе становится громче – слова царевны, ее вид, ее горькие слезы производят сильное впечатление. Но народ в недоумении, не знает, что подумать.
«Если царевна говорит, что царь отравлен, значит, так оно и есть, значит, правда! Но кто же отравил? И что делать?..» Что может безоружная толпа народа?!
Совсем обессиленная вернулась Софья в терем, где ее с нетерпением дожидались сестры и тетки. Тетки попеняли ей за ее поступок.
– Уж что тут! – махнула она рукою. – Нашли время толковать о том, что прилично, что неприлично – дни-то какие! Или не понимаете еще, что приходит наша погибель и нужно спасать себя? Я, по крайней мере, дала знать народу о том, что мы окружены врагами, которые ищут извести нас, как извели брата Федора… Да и что ж, наконец! Уйти мне было, что ли, не простясь с братом? Так вон хвалите Наталью Кирилловну – она с сыном своим, как угорелая выбежала из церкви… Вот стыд так стыд!.. Рады, что от царя избавились… Умер, не встанет, так и прощаться им не нужно… Торжествуют… Веселы! А тут, на похоронах, им печальное лицо делать приходится… Да к чему? Не нужно – они гроб-то братний оплевать готовы!
– Ах, уж это точно! – заговорили царевны. – Такого скаредного дела отродясь мы не видали. Удружила Наталья! Что ж она думала, никто этого не заметит? Как же, мы уж послали к ней монахинь, пускай она не больно-то зазнается – мы постарше ее, так молчать нам в таком деле не приходится… Не съест она нас, не казнит же! А мы все же свое сделали… Так и наказали монахиням сказать ей, что хорош, дескать, брат, не мог дождаться конца погребения…
– Напрасно посылали, тетушки, – отвечала Софья, – она только посмеется над вами. Теперь ее сила, ее время…
Между тем монахини, посланные к царице, вернулись и входили в покои царевен.
– Ну что? Ну что она? Как ответила? – обратились к ним все в один голос.
– Да что! – махнув рукой, произнесла старшая из монахинь, почтенная, седая старушка. – Царица ничего худого не видит в том, что не достояли отпевания, говорит: «Петр Алексеевич еще мал, ребенок, не мог выстоять такой долгой службы не евши». А брат-то царицын, Иван Кириллович, тут же был, так он как вскочит, да закричит на наши слова: «Кто умер, тот пусть и лежит, а царское величество не умирал, жив!..» Вот дела-то какие, государыни царевны!..
И старушка монахиня, очевидно, весьма довольная тем, что рассказом своим произвела сильное впечатление, уселась в уголок, зевнула от избытка чувств и стала часто крестить рот сморщенной, маленькой рукою.
Между царевнами поднялись пересуды; сильно досталось всем Нарышкиным.
Одна только Софья ничего не сказала. Побледнев еще пуще прежнего и сжав свои руки так, что пальцы захрустели, она вышла из покоев и отправилась в свою опочивальню. Ей было не до брани, не до бессильных, ни к чему не ведущих разговоров и сплетен – дело теперь нужно делать, а не браниться!..
II
Царевна Софья в первую же ночь после смерти брата отправила письмо князю Василию Васильевичу Голицыну, которого Христом Богом заклинала под каким бы то ни было предлогом спешить, не откладывая ни минуты, в Москву. Она имела также тайное продолжительное совещание с князем Хованским. Приходили к ней, проведенные Родимицей, стрелецкие полковники и в том числе Малыгин. Ни одной минуты не проходило даром.
Царевна хорошо понимала, что теперь, сейчас, нечего и думать о каком-нибудь решительном поступке, нужно сначала подготовить народ и войско. На народ, как мы видели, она уже успела произвести впечатление; в войске сильно работают; в самый день смерти царя, во время присяге Петру, стрельцы одного из полков отказались целовать крест новому царю. К ним отправлен был окольничий князь Щербатый, думный дворянин Змеев и думный дьяк Украинцев, которые успели, наконец, уговорить стрельцов, и они поцеловали крест Петру.
Первая попытка не удалась; но подкупленные стрелецкие начальники, Циклер и Озеров, уверяли царевну, что впредь неудачи не будет, только не надо жалеть денег. Софья и не жалела; она готова была отдать все, что у нее есть, – лишь бы достигнуть сильного брожения в войске.
Не успела царевна отдохнуть после утомительного утра и собраться со свежими мыслями, как в ее опочивальню постучалась Родимица.
Она принесла радостную весть. Большая толпа стрельцов явилась во дворец и от имени шестнадцати стрелецких полков и одного солдатского, Бутырского, требовала, чтобы девять полковников были схвачены, чтоб их заставили выплатить деньги, забранные у стрельцов, и деньги за работы, к которым они принуждали своих подчиненных.
Толпа голосила и объявила, что в случае, если ее требования не будут выполнены, то стрельцы сами о себе помыслят, перебьют полковников и разграбят их дома и животы.
– Достанется и другим изменникам! – кричали стрельцы. – Довольно нам терпеть мучений от полковников и смотреть, как изменники обманывают царское величество.
Родимица передала царевне, как все перепугались во дворце.
– Царица-то Наталья, сказывали, плачет, ломает себе руки, просит братьев своих выйти к стрельцам уговорить, а те трусят, прячутся… Чем-то там у них кончится?
– Ступай, Федорушка, ступай, разузнай обо всем подробно… Сама бы я туда побежала!.. – говорила царевна страстным, взволнованным голосом, торопя Родимицу, – сама бы побежала… Да нет, нынче не годится… Все равно, если дело идет там хорошо, и без меня обойдется, только все как есть доподлинно разведай и доложи мне.
Родимица убежала.
Во дворце переполох был страшный. Стрельцы не унимались, продолжали кричать и буянить.
Наконец Наталья Кирилловна уговорила брата своего Ивана выйти к ним.
Он повиновался, робким голосом объявил стрельцам, что их челобитная будет рассмотрена, что полковников, на которых они жалуются, посадят под караул в рейтерском приказе, и если они точно виноваты, то им не спустят.
Стрельцы, однако, этим не удовольствовались и стали требовать, чтоб полковники были выданы им головами.
Нарышкин поспешно скрылся во дворце и начал упрашивать царицу и вельмож, бывших налицо, поспешить с исполнением этого требования.
– Бог с тобой, Иван Кириллович, да как же это возможно? Этак они скоро и наши головы потребуют, так что ж, и нам прикажешь отдаться им в руки? Нет, нельзя им выдать полковников!
– Да что же делать? Что же делать? – настаивал Нарышкин. – Теперь прежде всего нужно спокойствие, теперь нам невозможно раздражать стрельцов, нужно ублажать их; ведь новое волнение в войске на руку Милославским. Поневоле не только девять полковников, а и всех, сколько там ни на есть их, придеться выдать…
Против таких непреложных доказательств вельможи не нашли, что им возразить, а царица Наталья опустила голову и горько зарыдала.
– Пошлите за патриархом, – проговорила она, – может, он как-нибудь уладит дело.
Послали за патриархом. Тот явился немедленно и, узнав обо всем, стал говорить, что невозможно исполнить требование стрельцов.
– Хорошо понимаю, – говорил он, – все беды, могущие возникнуть от беспорядка в войске. Конечно, тишина теперь и спокойствие – первое дело; но уступив стрельцам, и хуже еще во сто крат выйдет – тогда их требованиям и конца не будет, они поймут, как сильны они, как их боятся. Именем Бога заклинаю не уступать! Пустите меня, я выйду поговорить с ними.
Он вышел к стрельцам и начал усовещивать их кротким голосом.
Стрельцы слушали патриарха почтительно и наконец решились разойтись и успокоиться, удовольствоваться данным им обещанием, что дело их будет разобрано по справедливости.
Но во дворце хорошо понимали, что они успокоились ненадолго, и что стоит не исполнить данного обещания – и дело может очень плохо разыграться. Поспешили тогда судом над полковниками, схватили их и заставили заплатить все требуемые стрельцами деньги. С некоторых пришлось взыскать до двух тысяч рублей; тех же, которые не в силах были заплатить, держали по нескольку часов на правеже.
Особенно сильно обвиняемых даже били батогами, а два полковника, Карандеев и Грибоедов, приговорены были к кнуту и перед казнью им всенародно читались сказки, то есть объявления вины их.
В этих сказках были высчитаны все возводимые на них обвинения подробно. И народ слушал, какие беззаконные и лихие дела творит начальство стрелецкое, слушал, что «Карандеев и Грибоедов чинили стрельцам всякие налоги, обиды и тесноты, да взятки от работ, били их жестокими боями, батогами, ругательством, взявшим в руки батога по два, по три и по четыре. На стрелецких землях устраивали огороды и всякие овощные семена на эти огороды приказывали стрельцам покупать на собранные деньги; посылали на огороды стрельцов и детей их; неволею заставляли себе шить цветное платье, бархатные шапки и желтые сапоги. Из государского жалованья вычитали у стрельцов деньги и хлеб» – и многое другое, всего и не высчитать.
Стрельцы торжествовали, и хотя полковники и не были им выданы головами, но они отлично поняли, что правительство их боится, что они теперь вольны делать, что вздумают.
Собравшись густой толпой, они с наслаждением распоряжались при казнях; крикнут «довольно» – и правеж прекращается; закричат «еще! мало били!» – и полковников бьют сильнее.
Агенты царевны Софьи и Милославских действовали энергично и еще больше подзадоривали стрельцов; одним обещали всевозможные благополучия и награды в случае свержения Нарышкиных и провозглашения царем Ивана Алексеевича, других и заранее задаривали, третьим насказывали всякие ужасы о Нарышкиных, действовали на воображение, иногда на доброе чувство – на преданность к царскому дому. Красноречиво уверяли, что Нарышкины действительно отравили царя и теперь замышляют извести всех царевен и Ивана Алексеевича. Каждый день Софья получала новые известия о том, что дело идет на лад, что скоро поднимется все войско и наступит желанная минута отмщения.
Вся Москва уже толковала о том, что в слободах стрелецких творится что-то непонятное; московские жители начинали сильно трусить.
Стрельцы собирались толпами у своих съезжих изб; главных свои начальников, князей Долгоруких, бранили всякими позорными словами, издевались над ними, грозились… на прочих же начальников не обращали ровно никакого внимания, отгоняли их от съезжих изб, кидали в них камнями, палками.
Некоторые полковники попробовали было строгостью восстановить спокойствие, но поплатились за это жизнью. Стрельцы схватили их, втащили на каланчи и сбросили оттуда при зверских криках: «Любо! Любо!»
Прошло еще несколько дней, и стрельцы сделались бичом всего города. Из своих слобод они пробирались целыми шайками в ближние улицы, вламывались в дома обывателей, требовали себе угощения, напивались пьяными, говорили стыдные речи и часто кончали жестоким избиением хозяев.
Искра, заброшенная в стрелецкие слободы царевной Софьей и ее приверженцами, быстро разрасталась в страшный пожар; люди, предназначенные для обороны Московского государства, обратились в диких зверей, готовых растерзать это государство. Многие из них совсем не понимали, чего они хотят достигнуть. Многим не было никакого дела до того, кто царствует: Петр или Иван, не было дела ни до Милославских, ни до Нарышкиных. Они просто почуяли себе волю, почуяли возможность безначалия, захлебнулись от первого успеха и действовали под наплывом дикой природы своей, жаждой разгула и разрушений. Им было любо ломаться над своим начальством, любо было страх нагонять на мирных жителей.
Но все же многие из стрельцов, те, которые были посмышленее и не совсем еще захмелели на этом безумном пиршестве, начали понимать, что торжество их не может же без конца продолжаться, что торжество это вызвано слабостью начальства, слабостью правительства. Но начальство переменится, правительство окрепнет – и тогда им припомнятся все их вины, и дорого придется поплатиться за все эти дни торжества и свободы. Поэтому можно себе представить, с каким восторгом такие стрельцы вслушивались в речи агентов царевны Софьи. Из этих речей явствовало, что теперешнее правительство незаконное, что ему нечего повиноваться, нечего уважать его, что восставать против него – вовсе не бунт, не вина, а даже заслуга перед родиной.
Но все же пока такие речи слышались от людей малосильных, от людей несановных, от некоторых полковников, да какой-нибудь Родимицы – стрельцы еще смущались и сомневались. Но вот в стрелецкие слободы стал наезжать князь Хованский… Это уж не кто-нибудь, это известный воевода царя Алексея, и хоть народ и дал ему не совсем-таки лестное прозвище Тараруя, все же он человек знатный, большой человек.
А он говорит то же самое, что и другие, собирает вокруг себя стрельцов и толкует им: «Сами видите, – говорит Тараруй, – в каком вы тяжком ярме у бояр… Теперь вот выбрали бог знает какого царя – подождите, увидите, что не токмо денег вам и корму не дадут, ну и работы тяжкие будете работать, как прежде работали, и дети ваши вечными рабами у них будут… И того еще хуже будет: отдадут и вас и нас в неволю какому-нибудь чужеземному государю; Москву разграбят и веру православную искоренят…»
Стрельцы жадно слушали Тараруя и каждый раз после слов его принимались за новые бесчинства.
В стрелецких слободах, по рассказам окрестных жителей, был словно ад кромешный.
В то же время Толстой, Циклер и Озеров вместе со стрелецкими выборными Одинцовым, Петровым и Черным пробирались по ночам к Ивану Михайловичу Милославскому, который не выходил из своего дома и сказывался все время больным.
Наконец Софья получила радостную весть: все полки стрелецкие, за исключением только одного – Сухарева полка, готовы к бунту; стрельцы собираются в круги, становятся под ружье без приказа, бьют в набат; в торговых банях бранят правительство и кричат: «Не хотим, чтоб нами управляли Нарышкины, мы им всем шею свернем!»
Вести о том, что происходит в слободах и городе, передавались, однако, не одной Софье. Знали о них подробно и Нарышкины с царицей Натальей.
В тереме торжествовали; во дворце, куда совсем перебралась теперь из своего Преображенского Наталья Кирилловна, были все в смятении и ужасе: не знали, что делать, что начать. Одна была надежда, одно спасение – Матвеев. Ему дано знать, чтобы он спешил в Москву. Он уже выехал из Луг – места своей ссылки, он уже близко от Москвы, приедет… и тогда, бог даст, все поправится, все усмирится. С его появлением у всех прибавится силы, он крепко возьмет в свои искусные руки правление, уймет мятежных стрельцов, уймет и козни терема.
И не одни Нарышкины, не одна Наталья Кирилловна ждали приезда Матвеева; с большим нетерпением ждала этого приезда и царевна Софья. Она решила, что пока нет страшного старика, нет и опасности, приедет он – явится с ним и опасность, и вот тогда-то нужно будет дать знак мятежным стрельцам. Они начнут с Матвеева… Его старая, многодумная голова ляжет первая на плаху.
III
Между тем Артамон Сергеевич Матвеев с сыном своим и бывшими при нем людьми находился уже недалеко от Москвы.
Получив известие о кончине царя и повеление ехать в столицу, он не стал мешкать и тотчас же пустился в путь с облегченным сердцем, но искренно оплакав так несправедливого к нему Федора. Навстречу опальному боярину был послан сначала думный дворянин Лопухин, который должен был от имени молодого царя объявить ему прежнюю честь боярскую.
В селе Братовщине, под Москвою, Артамона Сергеевича дожидался брат царицы, Афанасий Кириллович, и встретил его со здоровьем от царя и сестры своей.
Путь Матвеева превращался в настоящее торжественное шествие.
Боярин издавна был любим народом, и народ спешил теперь встречать его повсюду с хлебом-солью; городские власти и монастырские настоятели тоже выходили к нему, задавали ему пиры и всякие угощения.
Такие неожиданные почести после тяжкой невзгоды сильно подействовали на семидесятилетнего старика. Он умилился духом, не раз даже всплакнул счастливыми слезами и позабыл, что его на Москве ждут не дождутся, что нельзя терять дорогого времени – принимал угощения, подвигался медленно. К тому же и здоровье его было не прежнее.
Годины душевного горя, всякие недостатки в удобствах жизни подействовали разрушительно на его организм; он возвращался в Москву сильно одряхлевшим.







