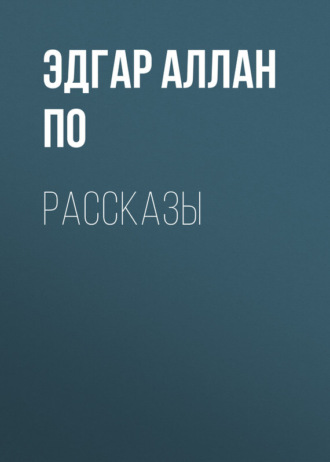
Эдгар Аллан По
Рассказы
Сделав все, что было можно, для исправления лодки, мы направились к юго-востоку, намереваясь обогнуть группу южных островов. Затем повернули прямо на юг. Погода стояла хорошая. Дул легкий ветерок с севера, море было гладкое, дневной свет не сменялся ночью. Льда вовсе не попадалось; вообще я не заметил ни одной льдинки южнее параллели острова Беннета. Да и не могло его быть при такой высокой температуре воды. Убив самую крупную черепаху, которая доставила нам порядочный запас не только пиши, но и воды, мы продолжали путь без всяких приключений в течение семи-восьми дней и подвинулись далеко к югу, так как ветер был все время попутный и направление течения не изменялось.
1 марта. (По весьма понятным причинам я не могу ручаться за точность дат. Я привожу их главным образом для отчетливости рассказа, по моей записной книжке.) – Ряд необычайных явлений показывает, что мы вступили в область неожиданностей и чудес. Высокая гряда серых паров постоянно остается на южном горизонте, то расширяясь блестящими полосами с запада на восток или с востока на запад, то снова стягиваясь в виде правильной гряды, – словом, постоянно изменяя очертания подобно северному сиянию. Средняя высота этой гряды около двадцати пяти градусов. Температура воды возрастает с минуты на минуту, и цвет моря заметно меняется.
2 марта. – Сегодня, расспрашивая пленника, мы узнали много подробностей относительно его родины, единоплеменников и их обычаев, но могут ли они теперь заинтересовать читателя? Замечу, впрочем, что, по его словам, архипелаг состоял из восьми островов, которыми правил король Тсалемон или Псалемун, живший на самом маленьком островке; что черные шкуры, составлявшие одежду воинов, шкуры огромного животного, которое водится только в долине подле резиденции царя; что жители архипелага не умеют строить лодки, а плавают на плотах; что четыре челна достались с какого-то большого острова, находящегося дальше к юго-западу; что его, нашего пленника, зовут Ну-ну; что он никогда не слыхал про остров Беннета; и что название острова, на котором произошла катастрофа, Тсалал. Первые слоги «Тсалемон и Тсалал» произносились им с каким-то особенным присвистом, напоминавшим голос черной выпи, которую мы поймали на вершине холма.
3 марта. – Температура воды поразительно высока, цвет моря резко изменился; оно уже не прозрачное, а молочно-белое. Рядом с лодкой оно спокойно, по крайней мере настолько, что не угрожает ей опасностью; но мы с удивлением заметили, что направо и налево от нас оно точно вскипает по временам, – этому явлению всегда предшествуют странные изменения очертаний гряды серых паров.
4 марта. – Сегодня, желая увеличить размеры паруса, так как ветер заметно ослабел, я вытащил из кармана белый носовой платок и случайно задел им по лицу Ну-ну, сидевшего рядом со мной. Он упал в судорогах, за которыми последовали обморок и оцепенение, сопровождавшиеся глухим бормотанием: «Текели-ли! Текели-ли!»
5 марта. – Ветер упал совершенно, но мы по-прежнему несемся к югу, увлекаемые сильным течением. Странно, что мы не испытываем никакого волнения. Лицо Петерса спокойно, хотя по временам принимает выражение неизъяснимое. Полярная зима приближается, но приближается без своих обычных ужасов. Я испытываю онемение душевное и телесное, какую-то дремоту чувств, но больше ничего.
6 марта. – Серые пары поднялись на несколько градусов выше, мало-помалу теряя свою окраску. Температура воды поднялась до того, что рука не выдерживает, молочный цвет стал еще ярче. Сегодня вода забурлила подле самого челна. Это явление сопровождалось странным блеском на вершине гряды паров и разрывом ее основания. Тонкая белая пыль вроде пепла, однако не пепел, осыпала лодку и море, пока не замер блеск и не стихло волнение. Ну-ну бросился ничком на дно лодки, и никакие увещевания не могли заставить его встать.
7 марта. – Мы спрашивали Ну-ну, за что его соплеменники убили наших товарищей, но он до того одурел от ужаса, что не мог ничего ответить. Он по-прежнему лежал на дне лодки и на все вопросы отвечал идиотскими жестами, приподнимая пальцем верхнюю губу и оскаливая таким образом зубы. Они были черные. До этого времени нам не случалось видеть зубы обитателей Тсалала.
8 марта. – Сегодня мимо нас проплыло белое животное, такое же, как то, чучело которого произвело переполох среди диких на острове Тсалал. Я хотел было поймать его, но мной овладела какая-то странная лень, так что я не тронулся с места. Вода стала еще горячей и положительно обжигает руку. Петерс почти все время молчит, и я не знаю, чем объяснить его апатию. Ну-ну только вздыхает.
9 марта. – Тонкая пыль вроде пепла постоянно сыплется на нас. Гряда паров поднялась на чудовищную высоту и приняла более определенную форму. Я могу сравнить ее только с чудовищным водопадом, безмолвно стремящимся в море с вершины колоссального утеса, теряющейся в небесах. Эта гигантская завеса охватывает весь южный горизонт. Никаких звуков не слышно.
21 марта. – Мрачная тьма сгустилась над нами, но из молочно-белых недр океана поднимается яркий свет и озаряет лодку. Нас совсем засыпала белая, подобная пеплу, пыль; она все время валится в челн и тает в воде. Вершина водопада исчезла в туманной дали. Но мы, очевидно, несемся к ней с ужасающей быстротой. По временам она точно разрывается; сквозь эти сияющие трещины мелькает рой туманных и неясных образов и вырывается бурный, но безмолвный ветер, вздымая пылающий океан.
22 марта. – Тьма еще более сгустилась; только яркий свет белой завесы перед нами отражается водой. Гигантские белые птицы то и дело вылетают из-за завесы и исчезают с криком «Текели-ли». Услыхав этот крик, Ну-ну пошевелился на дне лодки, но, дотронувшись до него, мы убедились, что он испустил дух. Еще минута – и перед нами разверзлись бездны водопада. Но из них поднялась человеческая фигура в саване, далеко превосходившая своими размерами обыкновенных людей. Ее кожа была белее снега.
Примечание
Публике уже известны из газет обстоятельства внезапной и трагической смерти мистера Пима. Мы боимся, что последние главы рукописи, дополняющие его рассказ и оставленные им у себя для просмотра, когда первые главы уже набирались, погибли безвозвратно. Может быть, впрочем, они будут найдены, и в таком случае мы не преминем их напечатать.
Мы старались помочь беде всеми зависящими от нас средствами. Джентльмен, о котором упомянуто в предисловии и который, по-видимому, мог бы пополнить пробел в рассказе, наотрез отказался от этого, так как не помнит деталей и не доверяет правдивости последних глав. Петерс, от которого можно бы было получить необходимые сведения, еще жив и находится в Иллинойсе, но мы не могли его разыскать. Может быть, это удастся впоследствии; в таком случае он, конечно, не откажется пополнить рассказ мистера Пима.
Потеря двух или трех последних глав (вряд ли их было больше) тем более достойна сожаления, что в них, без сомнения, содержатся сведения о самом полюсе или ближайших к нему местностях, – сведения, которые могли бы быть проверены или опровергнуты подготовляемой ныне правительством экспедицией в южный океан.
Считаем нелишним сделать несколько замечаний по поводу одного места в рассказе и будем очень довольны, если наши слова усилят доверие публики к странным сообщениям автора. Мы имеем в виду пропасти на острове Тсалал и фигуры, изображенные в главе XXIII.
Мистер Пим рассказывает о рисунке пропасти без всяких комментариев, а о фигурах, вырезанных на стене самой восточной из галерей, говорит как о естественном явлении, случайно напоминающем буквы, и решительно отвергает их искусственное происхождение. Это утверждение высказано так просто и подтверждается такими убедительными доказательствами – нахождением обломков мергеля на дне пропасти, совершенно подходящих к этим значкам, – что мы охотно верим автору, да и всякий рассудительный читатель согласится с ним. Но так как факты, относящиеся ко всем этим фигурам, в высшей степени странны (особенно если их поставить в связь с другими данными рассказа), то будет кстати сказать о них несколько слов, тем более, что обстоятельства, которые мы имеем в виду, без сомнения, ускользнули от внимания мистера Пима.
Если мысленно соединить рисунки 1, 2, 3 и 5 в том порядке, в котором расположены сами пропасти и постараться взглянуть на изображение под определенным углом, то мы увидим эфиопское коренное слово в переводе означающее «быть черным». Отсюда происходят все слова, означающие тень или тьму.
Что касается «левой или самой северной» фигуры, то она, по всей вероятности, вырезана искусственно, как и предположил Петерс, и изображает человека. Остальные фигуры подтверждают мнение Петерса. Верхний ряд знаков являет собой, вероятно, арабское коренное слово которое переводится как «быть белым», от него происходят все термины, означающие блеск и белизну. Нижний ряд не так ясен. Буквы неполны и стерты, тем не менее невозможно сомневаться, что в целом виде они образовали египетское слово, означающее «область юга». Заметим, что эти объяснения подтверждают мнение Петерса насчет «самой северной» фигуры. Рука вытянута к югу.
Эти заключения открывают широкое поле для размышления и интересных догадок. Может быть, их нужно рассматривать в связи с самыми незначительными и вскользь затронутыми подробностями рассказа, хотя цепь заключений во всяком случае не будет полной. «Текели-ли!» кричали испуганные жители Тсалала при виде белого животного, пойманного в море. То же повторял пленный дикарь при виде белых предметов. Таков же был крик гигантских белых птиц, вылетавших из-за белой завесы на горизонте. Ничего белого не оказалось на Тсалале, и только этот цвет замечен в более южной области. Возможно, что «Тсалал», название острова, на котором найдены вышеописанные пропасти, окажется при тщательном филологическом исследовании имеющим какое-либо отношение к самим пропастям или таинственным надписям на их стенах:
«Я вырезал это на холмах, и месть моя во прахе скалы».
Лигейя
Тут воля, которая не умирает. Кто познал тайны воли и ее силу?
Сам Бог – великая всепроникающая воля.
Человек не уступил бы ангелам, ни самой смерти, если бы не слабость его воли!
Джозеф Гленвилл
Клянусь душою, я не могу припомнить, как, когда, ни даже где я впервые познакомился с леди Лигейей. Много лет прошло с тех пор, и память моя ослабела от перенесенных мною страданий. Или, быть может, я потому не могу теперь вспомнить этого, что характер моей возлюбленной, ее редкие познания, ее особенная и ясная красота, упоительное красноречие ее сладкозвучного голоса так упорно и нечувствительно закрадывались в мое сердце, что я сам того не замечал и не сознавал. Но, кажется, впервые я встретил ее и часто потом встречал в каком-то большом, старинном, ветшающем городе на Рейне. Она, конечно, говорила мне о своей семье. Древность ее происхождения не подлежит сомнению. Лигейя!
Лигейя! Погруженный в занятия, которые по самой природе своей как нельзя более способны заглушить все впечатления внешнего мира, я одним этим словом – Лигейя – вызываю перед моими глазами образ той, которой уже нет. И теперь, когда я пишу, у меня вспыхивает воспоминание о том, что я никогда не знал родового имени той, которая была моим другом и невестой, участницей моих занятий и, наконец, моей возлюбленной женой. Было ли то прихотью моей Лигейи или доказательством силы моей страсти, не интересовавшейся этим вопросом? Или, наконец, моим собственным капризом, романтическим жертвоприношением на алтарь страстного обожания? Я лишь смутно припоминаю самый факт, мудрено ли, что я забыл, какие обстоятельства породили или сопровождали его? И если правда, что дух, называемый Возвышенным, если правда, что бледная, с туманными крылами, Аштофет языческого Египта председательствовала на свадьбах, сопровождавшихся зловещими предзнаменованиями, то, без всякого сомнения, она председательствовала и на моей.
Есть, однако, нечто дорогое, относительно чего моя память не ошибается. Это наружность Лигейи. Она была высокого роста, стройна, а впоследствии даже несколько худощава. Тщетны были бы попытки описать ее величавую осанку, спокойную вольность движений, неизъяснимую стройность и мягкость походки. Она являлась и исчезала как тень. Когда она входила в мой кабинет, я узнавал о ее появлении только по сладкой музыке нежного грудного голоса ее или по прикосновению к моему плечу мраморной руки ее. Прелестью лица никакая девушка не могла бы сравниться с нею. Это было лучезарное сновидение, рожденное опиумом; воздушное и возвышающее душу сновидение, исполненное более волшебной красоты, чем сказочные сны, реявшие над дремотными душами дочерей Делоса. Но черты лица ее не представляли той условной соразмерности, которой мы совершенно напрасно приучились восхищаться в древних изваяниях язычников. «Нет красоты изысканной, – говорит Бэкон, лорд Веруламский, в своих совершенно справедливых рассуждениях о различных видах и родах красоты, – без некоторой странности в пропорциях». Но хотя я видел, что черты Лигейи не представляют классической правильности, хотя я сознавал, что ее красота действительно «изысканная», и чувствовал, что в ней много «странного», однако я тщетно пытался найти эту неправильность и определить свое собственное представление о «странном». Я всматривался в очертания высокого бледного лба ее – он был безупречен; как холодно звучит это слово в применении к такому божественному величию! Кожа, не уступающая белизной чистейшей слоновой кости, величавая широта и безмятежность, легкие выступы над висками, и волосы, черные как вороново крыло, блестящие, рассыпавшиеся густыми, роскошными кольцами, к которым вполне подходил гомеровский эпитет «гиацинтовые»! Я всматривался в тонкие очертания носа ее – нигде, кроме изящных еврейских медальонов, не видал я такого совершенства. Та же изумительно гладкая поверхность, тот же едва заметный намек на орлиный профиль, те же гармонически изогнутые ноздри – признак свободы духа. Я вглядывался в нежный рот ее. Вот где было истинное торжество небесной прелести – в великолепном изгибе короткой верхней губы, в сладострастной дремоте нижней, в смеющихся ямочках, в игре красок, которая говорила без слов, в зубах, отражавших с почти нестерпимым блеском каждый луч света, падавший на них, когда они открывались в спокойной и ясной, но лучезарнейшей из всех улыбок Я вглядывался в подбородок ее.
И здесь находил я эллинскую прелесть, нежность и величавость, полноту духовности, – тот облик, который бог Аполлон только во сне открыл Клеомену, сыну Клеоменову, афинянину. Наконец, устремлял я взор в глубину огромных глаз ее.
Для глаз не нахожу я образца и в глубочайшей древности. Может быть, в глазах моей возлюбленной и скрывалась тайна, на которую намекает лорд Веруламский. Кажется, они были гораздо больше обыкновенных глаз человеческих, с более совершенным разрезом, чем у газелей долин Нурджахада. Но только иногда, в минуты возбуждения крайнего, особенность эта становилась поразительной. В эти-то минуты красота ее – по крайней мере, в пламенном воображении моем – была красотою сказочных гурий. Зрачки черно-блестящие оттенялись агатовыми ресницами длиннейшими, Брови, слегка неправильного очерка, такого же черного цвета. Но – странность», которую я находил в глазах ее, таилась не в очертании, не в цвете, не в блеске, а только в выражении. О, слово бессмысленное! Звук пустой! Неопределенность, за которою прячется наше непонимание духовности. Выражение глаз ее! Сколько долгих часов я размышлял о нем! Сколько летних ночей провел без сна, стараясь измерить их глубину. Что же такое, более глубокое, чем колодец Демокрита, таилось в глазах моей возлюбленной? Что это? Я томился желанием разгадать эту тайну. Глаза ее! Эти огромные, сияющие, божественные зрачки! Они сделались для меня близнецами созвездия Леды, а я для них – звездочетом набожным.
Среди многих непонятнейших странностей в науке о духе нет более непонятной, более захватывающей, чем то, что, кажется, еще не отмечено школьным знанием, что, стараясь вспомнить что-либо давно забытое, мы часто находимся на самом краю воспоминания и все-таки не можем вспомнить. Так и я: сколько раз, в упорных усилиях мысли, я чувствовал, что вот-вот откроется мне тайна глаз ее, вот-вот откроется, но не открывалась и, наконец, совсем закрылась! И (странная, о, самая странная из тайн!) нередко я находил в обыкновеннейших явлениях сходство с этими глазами. Я хочу сказать, что после того, как прелесть Лигейи проникла в душу мою и Лигейя воцарилась в ней, как в святилище, многие явления мира величественного вызывали во мне то же чувство, которое я всегда испытывал при виде ее широких, светлых зрачков. И тем не менее я не могу определить это чувство, или понять его, или исследовать. Но я испытывал его, глядя на быстро растушую виноградную лозу, на бабочку, на мотылька, на куколку, на струи водопада. Я чувствовал его в океане, в падении метеора. Во взглядах людей, достигших глубочайшей старости. Также одна или две звезды (особенно одна, шестой величины, двойная и переменная, близ большой звезды в созвездии Лиры) пробуждали во мне то же чувство, когда я рассматривал их в телескоп. Оно охватывало меня при известном сочетании звуков струнных инструментов и при чтении книг, Среди бесчисленных примеров помню одно место в книге Джозефа Гленвилла, которое (быть может, вследствие странности своей) всегда вызывало во мне это чувство: «Тут – воля, которая не умирает. Кто познал тайны воли и силу ее? Сам Бог есть великая всепроникающая воля. Человек не уступил бы ангелам, ни самой смерти, если бы не слабость воли его».
Годы раздумий дали мне возможность установить отдаленную связь между этим замечанием английского мыслителя и некоторыми свойствами Лигейи. Может быть, напряженность мыслей ее, действий, слов была следствием или, по крайней мере, свидетельством той исполинской воли, которая во время наших долгих отношений не успела проявиться в чем-нибудь более действительном. Из всех женщин, которых я знал, она, Лигейя, такая спокойная, невозмутимая, была добычей самых безжалостных коршунов самой лютой страсти. Но силу этой страсти я мог измерить только по чудесному расширению глаз ее, пугавших и восхищавших меня, по небесной музыке, ясности, тихости глубокого голоса ее и по дикой силе странных слов, еще удвоенной противоречием с тихостью голоса.
Я упомянул о познаниях Лигейи; они были огромны, и таких я никогда не встречал в женщине. Она в совершенстве изучила древние языки, и я никогда не мог заметить у нее пробелов по части языков современных, насколько я сам с ними знаком. Да и в какой отрасли знаний, даже самых сложных и потому наиболее уважаемых школьной ученостью, замечал я пробелы у Лигейи? Как странно, как поражающе действовала на меня в последнее время именно эта черта в характере жены моей. Я сказал, что мне не случалось встречать женщину с такими познаниями, но где тот мужчина, который с успехом овладел всеми обширными сферами моральных, физических и математических знаний? Я не замечал в то время того, что вижу теперь ясно, – что познания Лигейи были огромны, изумительны; но чувствовал ее превосходство настолько, что подчинился с детской доверчивостью ее руководству в хаосе метафизических исследований, которыми усердно занимался в первые годы после нашей свадьбы. С каким торжеством, с каким жадным восторгом, с какой небесной надеждой я чувствовал – в то время, как она наклонялась надо мною при моих попытках проникнуть в область слишком мало затронутую, слишком мало исследованную, – что восхитительные дали мало-помалу открываются мне, что, устремившись по этому долгому, неизвестному пути, я достигну, наконец, высшей мудрости, слишком божественной, слишком драгоценной, чтобы не быть запретной!
И как язвительна была моя скорбь, когда, спустя несколько лет, увидел я, что мои надежды рассеялись. Без Лигейи я был ребенок, блуждающий во мраке ощупью. Только ее присутствие, ее толкование проливали свет жизни на тайны запредельных знаний, в которые мы углублялись. Не озаренная лучезарным блеском глаз ее, вся эта книжная мудрость, казавшаяся раньше светлой, как золото, становилась тусклой и тяжелой, как свинец. А глаза эти все реже и реже сияли над страницами, которые я изучал. Лигейя была больна. Странные глаза блестели слишком ярким блеском; в бледных пальцах была восковая прозрачность, цвет смерти, и голубые жилки на высоком лбу бились при малейшем волнении. Я видел, что она должна умереть, – и отчаянно боролся в душе с жестоким Азраилом. К моему удивлению, борьба ее была еще отчаянней. Сила духа ее позволяла мне надеяться, что смерть придет к ней без ужасов своих, но не то оказалось на деле. Слова не могут выразить, как свирепо боролась она с Тенью. Я стонал при виде этого жалкого зрелища. Пытался утешать, убеждать, но для ее неутолимого желания жить, жить – только жить – все утешения, все доводы разума были верхом безумия. И до последней минуты, в борениях и судорогах дикого духа ее, лицо ее сохраняло безмятежное спокойствие. Слова ее звучали все нежнее, все тише и тише, но я не смел задумываться над странным значением этих спокойно сказанных слов. Голова моя кружилась, когда я в восторге внимал этой сверхчеловеческой музыке, этим дерзновениям и чаяниям, которых никогда еще не ведали смертные.
В ее любви не сомневался я, а любовь такой женщины не могла быть обычной страстью. Но только смерть открыла мне всю бесконечность этой любви. Целыми часами, рука об руку, она изливала предо мной избыток сердца своего, полного страстью боготворящею. Чем заслужил я блаженство слушать такие признания? Чем заслужил я проклятие, отнимавшее у меня мою возлюбленную в минуту таких признаний? Но я не в силах говорить об этом. Скажу только, что в слишком женской страсти Лигейи – страсти мной незаслуженной, увы, дарованной мне, недостойному, – я усмотрел наконец причину ее безумного сожаления о жизни, убегавшей так быстро. Это дикое алкание, это лютое желание жизни – только жизни – я не в состоянии описать, не в силах выразить.
В глубокую полночь – в ночь ее кончины – она подозвала меня и велела прочесть стихи, сочиненные ею несколько дней назад. Я прочел. Вот они:
«Вот он! Последний праздник! Толпа крылатых ангелов в трауре, в слезах, собралась в театр, посмотреть на игру надежд и страха, меж тем как оркестр исполняет музыку сфер.
Скоморохи, носящие образ вышнего Бога, ворчат и бормочут, снуют туда и сюда; это простые куклы, они приходят и уходят по повелению безликих существ, что реют над сценой, разливая со своих орлиных крыльев невидимое горе.
Жалкая драма! О, будь уверен, она не забудется! За ее призраком вечно будет гнаться толпа, никогда не овладевая им, в безвыходном кругу, который вечно возвращается на старое место; и много безумия, и еще более греха и ужаса в этой трагедии.
Но взгляни, в толпу гаеров крадется что-то ползучее, что-то красное, – извивается, корчится, грызет и пожирает гаеров, – и серафимы рыдают, видя, как червь упивается человеческою кровью.
Гаснут… гаснут… гаснут… огни! И на дрожащие образы падает занавес, погребальный саван, и ангелы встают, бледные, истомленные, и говорят, что зрелище это – трагедия «Человек», а герой – «Победитель Червь».
– Боже, – воскликнула Лигейя, вставая и поднимая руки с судорожным усилием. – Боже! Отец Небесный! Неужели это будет длиться вечно? Неужели червь победитель не будет побежден? Разве мы не часть Твоя? Кто, кто познал тайны воли и силу ее? Человек не уступил бы ангелам, ни самой смерти, если бы не слабость воли его.
И как будто изнеможенная этим усилием, она опустила свои белые руки и торжественно вернулась на ложе смерти. И, когда она испускала последний вздох, он сливался с тихим шепотом уст ее. Я наклонил к ним ухо и снова услышал слова Гленвилла: «Человек не уступил бы ангелам, ни самой смерти, если бы не слабость воли его».
Она умерла, а я, раздавленный горем, не мог выносить угрюмого одиночества в доме моем, в старом, разрушающемся городе на Рейне. У меня не было недостатка в том, что люди называют богатством. Лигейя принесла мне больше, гораздо больше, чем обыкновенно выпадает на долю смертных. После нескольких месяцев тоскливого и бесцельного шатания я купил аббатство в одном из самых диких и безлюдных уголков веселой Англии. Угрюмое и холодное величие здания, полудикий вид местности, мрачные легенды, связанные с тем и другим, согласовались с безотрадным чувством, загнавшим меня в эту глухую пустыню. Оставив в прежнем виде внешность этого ветхого здания, поросшего мхом и травами, я с ребяческим своенравием и, может быть, с тайной надеждою рассеять тоску свою принялся убирать внутренность дома с царственной роскошью. Я еще в детстве питал страсть к таким причудам, теперь она возродилась во мне, точно я поглупел от горя. Увы, я чувствую, какие ясные признаки начинающегося безумия можно было открыть в этих пышных и сказочных завесах, в торжественных египетских изваяниях, в причудливых карнизах и мебели, в нелепых узорах затканных золотом ковров! Я стал рабом опиума, и мои распоряжения и занятия приняли окраску грез моих. Но не стану говорить об этих безумствах. Скажу только о той комнате, куда в минуту затмения мыслей я привел от алтаря мою молодую жену – преемницу незабвенной Лигейи, – золотокудрую и голубоглазую леди Ровену Тревенион Тремен.
Вижу как сейчас эту свадебную комнату со всеми ее мелочами, со всеми украшениями. Куда девался рассудок вельможных родителей жены моей, когда, ослепленные блеском золота, они позволили ей, своей любимой дочери, переступить порог комнаты с таким убранством. Я сказал, что помню до мельчайших подробностей эту комнату, хотя я крайне забывчив на вещи гораздо большей важности, а в этой фантастической обстановке не было никакого порядка, никакой системы, которая могла бы удержаться в памяти. Комната в высокой башне аббатства, выстроенного в виде замка, была пятиугольной формы и обширных размеров. Вся южная сторона пятиугольника занята окном, состоявшим из одного огромного цельного венецианского стекла свинцовой окраски; так что лучи солнца и луны, проникая сквозь него, озаряли комнату зловещим, странным светом. Над верхней частью этого высокого окна вилась старая виноградная лоза, взбиравшаяся по массивным стенам башни. Потолок из темного дуба поднимался высоким сводом и был украшен причудливой резьбой полуготического, полудруидического стиля. В центре этого мрачного свода висела на золотой цепи, с длинными кольцами, кадильница, из того же металла, с мавританским узором и многочисленными отверстиями, расположенными так, что разноцветные огни беспрерывно выскальзывали, как змеи, то из одного, то из другого.
Оттоманки и золотые канделябры в восточном вкусе помещались в разных углах комнаты; здесь же находилось брачное ложе – в индийском стиле, низкое, черного дерева, резной работы, с балдахином, напоминавшим погребальный покров. Но главная фантазия заключалась, увы, в драпировках комнаты. Высокие, гигантские, даже непропорциональные стены были сплошь обиты плотной, тяжелой тканью, падавшей широкими складками. Из той же ткани был ковер, обивка кровати и оттоманок, балдахин и роскошные занавеси, отчасти закрывавшие окно. Ткань, богато затканная золотом, испещрена была арабесками в виде агатово-черных фигур, беспорядочно разбросанных. Но эти фигуры казались арабесками, только когда их рассматривали с известной точки. С помощью приспособления, ныне очень распространенного, которое можно проследить до глубокой древности, они были сделаны так, что постоянно меняли свой вид. Для того, кто входил в комнату, они казались в первую минуту просто уродливым узором, но впечатление это скоро исчезало, и, подвигаясь дальше, посетитель видел вокруг себя бесконечное шествие зловещих образов, подобных тем, которые зарождались в норманнских суевериях или в грешном сне монахов. Это сказочное действие усиливалось током воздуха, постоянно колебавшим завесы и придававшим всему отвратительную, беспокойную живость.
Вот в каком помещении, в каком брачном чертоге проводил я с леди Тремен счастливые первые месяцы нашего брака, проводил без всякой тревоги. Я не мог не заметить, что жена моя опасалась бурных порывов моего нервного характера, избегала меня и не питала ко мне особенно нежной страсти, но это доставляло мне скорее удовольствие, чем огорчение. Я сам ненавидел ее адской, нечеловеческой ненавистью. Мои воспоминания уносились назад (о, с каким глубоким раскаянием), к Лигейе, к ней, возлюбленной, святой, прекрасной, погребенной. Я забывался в воспоминаниях о чистоте ее, мудрости, возвышенности, о небесной природе ее и страстной, боготворящей любви. Теперь мой дух пылал еще сильнейшим пламенем, чем дух Лигейи.
В горячке грез, порожденных опиумом (так как я почти постоянно находился под его влиянием), я громко призывал ее в ночной тиши или днем в уединенных долинах, точно дикая страсть, возвышенная сила чувства, пожирающий жар моей тоски по усопшей могли вернуть ее на жизненный путь, покинутый, о, ужели навсегда ею покинутый?
Спустя месяц после нашей свадьбы леди Ровена поражена была внезапной болезнью, от которой оправлялась очень медленно. Лихорадка не давала ей покоя по ночам, и в тревожном полусне своем она говорила о звуках и шорохах в комнате, что я приписывал ее расстроенному воображению или, быть может, влиянию сказочной обстановки. Наконец она стала выздоравливать, и выздоровела. Но скоро новый, еще более сильный приступ болезни заставил ее вернуться на ложе страданий, и после этого нового приступа слабое тело ее уже никогда не могло вполне оправиться.
С течением времени припадки ее и неожиданное возвращение их приняли угрожающий характер, как бы издеваясь над знаниями и опытностью врачей. С усилением этой возвратной болезни, укоренившейся в теле ее так прочно, что человеческое искусство, по-видимому, не могло изгнать ее, нрав ее также заметно изменился: усилились раздражительность и боязливость. Теперь она еще чаще говорила о звуках, слабых звуках и странных движениях среди драпировок комнаты.
Однажды ночью, в конце сентября, настойчивее, чем обыкновенно, старалась она обратить мое внимание на этот докучный предмет. Она только что очнулась от беспокойного сна, и я с чувством тревоги и смутного страха следил за ее исхудалым лицом. Я сидел подле постели на индийской оттоманке. Она приподнялась и говорила шепотом, с выражением глубокого убеждения, о звуках, которые она теперь слышит, а не о движениях, которые она теперь видит, а я не вижу. Ветер шелестел в завесах, и я старался убедить ее (но признаюсь, и сам не вполне верил этому), что эти чуть слышные вздохи и легкие изменения фигур на стенах – естественное следствие движения воздуха. Но смертная бледность, покрывшая лицо ее, доказала бесплодность усилий моих. По-видимому, она готова была лишиться чувств, а поблизости не было слуг. Вспомнив, где стоит графин с легким вином, которое ей прописали врачи, я бросился за ним через комнату. Но когда я вступил в полосу света, падавшего от кадильницы, два поразительных обстоятельства привлекли внимание мое. Я почувствовал, что кто-то невидимый, но осязаемый прошел мимо меня, и заметил на освещенном пространстве золототканого ковра тень, легкую, неясную тень ангела, как бы тень тени. Но, находясь под влиянием неумеренной дозы опиума, я не обратил внимания на эти явления и ни слова не сказал о них Ровене. Отыскав вино, я вернулся к постели и, наполнив бокал, поднес его к губам изнемогавшей леди.







