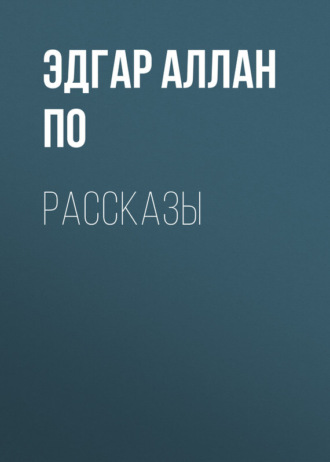
Эдгар Аллан По
Рассказы
Челнок приближается к скалистому входу в ущелье, и глубь его становится яснее. Направо тянется гряда высоких холмов, одетых дремучим и роскошным лесом. И здесь сохраняется та же черта чистоты изысканной; нигде не заметно и признаков обыкновенных лесных debris. Налево характер картины более мягкий и искусственный. Здесь береговой склон поднимается от воды очень отлого, образуя широкий пояс травы, видом похожий на бархат, а ярким зеленым цветом – на чистейший изумруд. Ширина этого plateau от десяти до трехсот ярдов; он простирается от реки до стены в пятьдесят футов высотою, которая тянется бесконечными извивами, следуя общему направлению реки и теряясь вдали на западе. Стена состоит из одной непрерывной скалы; она вытесана искусственно из обрывистого берега реки; но никаких следов работы не заметно. Цвет камня свидетельствует о глубокой древности, стена обвита плюшем, красной жимолостью, шиповником и ломоносом. Однообразие линий вершины и основания стены скрадывалось, благодаря гигантским деревьям, разбросанным группами и поодиночке, как по plateau, так и за стеною, но очень близко к ней, так что ветви – в особенности черного орешника – нередко перебирались через нее и свешивались в воду. Далее, по ту сторону стены, ничего нельзя было разобрать за непроницаемой завесой листвы.
Все это можно было видеть по мере того, как челнок приближался к воротам ущелья. Вид последнего, впрочем, изменялся с приближением к нему, впечатление пропасти исчезало, новый выход из бассейна открывался налево, в том же направлении, куда уходила стена, следуя за изгибами реки. Взор не мог проникнуть далеко в этом направлении, потому что река и стена исчезали в густой листве.
Челн, точно движимый волшебной силой, скользил по извилистой реке. Направо поднимались высокие холмы, иногда горы, заросшие роскошной растительностью.
Подвигаясь вперед неслышно, но с постепенно возрастающей быстротою, путник, после нескольких поворотов, видит перед собою исполинские ворота или двери из червонного золота, чеканной работы, с богатой резьбой, которые, отражая лучи солнца, теперь уже спустившегося к самому горизонту, заливают стену, которая здесь, по-видимому, пересекает реку под прямым углом. Через несколько мгновений, однако, путник убеждается, что главный поток поворачивает легким и незаметным изгибом налево, по-прежнему вдоль стены, а отделяющийся от него рукав с тихим ропотом исчезает под воротами. Челн направляется по этому рукаву к воротам. Их тяжелые крылья отворяются медленно с певучим звоном. Челн скользит между ними и быстро спускается в обширный амфитеатр, окруженный пурпуровыми горами, основания которых омываются сверкающими водами реки. Мало-помалу рай Арнгейма открывается взорам. Путник прислушивается к волшебной музыке; вдыхает напоенный сладким благоуханием воздух; перед ним, как во сне, развертывается чудный вид – гибкие восточные деревья, кущи кустарников, оживленных золотистыми и пурпурными птицами; озера, окаймленные лилиями; луга фиалок, тюльпанов, маков, гиацинтов, мальв; серебристая сеть потоков и – возвышаясь над всем этим – громада полуготических, полумавританских построек, точно висящая в воздухе, сверкая в багровых лучах заката бесчисленными башенками, минаретами, иглами – призрачное творение Сильфов, Фей, Гномов и Гениев.
Бочка амонтильядо
Тысячу несправедливостей вытерпел я от Фортунато, как только умел, но, когда он осмелился дойти до оскорбления, я поклялся отомстить. Однако вы, знакомые с качествами моей души, не предположите, конечно, что я стал грозить. Наконец-то я должен быть отомщен; этот пункт был установлен положительно, но сама положительность, с которой он был решен, исключала мысль о риске. Я должен был не только наказать, но наказать безнаказанно. Зло не отомщено, если возмездие простирается и на мстителя. Равным образом оно не отомщено, если мститель не дает почувствовать тому, кто сделал зло, что мстит именно он.
Поймите же, что ни единым словом, ни каким-либо поступком я не дал Фортунато возможности сомневаться в моем доброжелательстве. Я продолжал, по обыкновению, улыбаться ему прямо в лицо, и он не чувствовал, что теперь я улыбался при мысли об его уничтожении.
У него была одна слабость, у этого Фортунато, хотя в других отношениях его следовало уважать и даже бояться. Он кичился своим тонким пониманием вин. Немногие из итальянцев обладают способностью быть в чем-нибудь знатоками. По большей части их энтузиазм приспособлен к удобному случаю и к известному моменту, чтобы надуть какого-нибудь британского или австрийского миллионера. Что касается картин и драгоценных камней, Фортунато, подобно своим соотечественникам, был шарлатаном, но, раз дело шло о старых винах, искренность его была неподдельна. В этом отношении я не отличался от него существенным образом; я очень навострился в распознавании местных итальянских вин и всегда при первой возможности делал большие закупки.
Случилось, что в сумерки, под вечер, в самом разгаре карнавальных безумств, я встретился со своим другом. Он приветствовал меня сердечнейшим образом, так как, по-видимому, выпил изрядно. Он был одет шутом. На нем был плотно облегавший его наполовину полосатый костюм, а на голове высился колпак с бубенчиками. Как я рад был его видеть! Мне казалось, что я никогда не перестану трясти его руку.
Я сказал ему: «Ах, дорогой мой Фортунато, что за счастливая встреча! Как отлично выглядите вы сегодня! Но я получил бочку вина, будто бы амонтильядо, и у меня на этот счет сомнения».
– Как? – проговорил он. – Амонтильядо? Целую бочку? Быть не может! В разгар карнавала!
– У меня на этот счет сомнения, – ответил я, – и я был настолько глуп, что заплатил сполна за вино как за амонтильядо, не посоветовавшись на этот счет с вами. Вас нигде нельзя было найти, а я боялся упустить случай.
– Амонтильядо!
– Да, но я не уверен.
– Амонтильядо!
– Я должен разрешить сомнения.
– Амонтильядо!
– Так как вы куда-то приглашены, я пойду отыщу Лукези. Если кто-нибудь обладает тонким вкусом – это именно он. Он скажет мне…
– Лукези не может отличить амонтильядо от хереса.
– Представьте, а есть глупцы, которые говорят, что его вкус равняется вашему.
– Ну, идем!
– Куда?
– К вам, в подвалы.
– Нет, друг мой; я не хочу злоупотреблять вашей добротой. Я вижу, вы куда-то приглашены. Лукези…
– Никуда я не приглашен, пойдем!
– Нет, друг мой. Вы никуда не приглашены, но я вижу, что вы страшно прозябли. В подвалах ужаснейшая сырость. Они выложены селитрой.
– А, пустяки! Пойдем! Стоит ли обращать внимание на холод…Амонтильядо! Вас надули; а насчет Лукези могу сказать – он и хереса не отличит от амонтильядо.
Говоря таким образом, Фортунато завладел моей рукой. Я надел черную шелковую маску и, плотно закутавшись в roquelaure, позволил ему увлечь себя к моему палаццо.
Никого из прислуги дома не было; все куда-то скрылись, чтобы хорошенько отпраздновать карнавал. Я сказал им, что вернусь домой не ранее утра, и строго-настрого приказал не отлучаться из дому. Этих приказаний, как я прекрасно знал, было совершенно достаточно, чтобы тотчас же по моем уходе все скрылись. Я вынул из канделябров два факела и, давши один Фортунато, направил его через анфиладу комнат до входа, который вел в подвалы. Я пошел вперед по длинной витой лестнице и, оборачиваясь назад, просил его быть осторожнее. Наконец мы достигли последних ступеней и стояли теперь на сырой почве в катакомбах фамилии Монтрезор.
Приятель мой шел нетвердой походкой, и от каждого неверного шага звенели бубенчики на его колпаке.
– Ну, где же бочка? – спросил он.
– Дальше, – отвечал я, – но смотрите, вон какие белые узоры на стенах.
Он обернулся ко мне и посмотрел мне в глаза своими тусклыми глазами, подернутыми из-за опьянения.
– Селитра? – спросил он наконец.
– Селитра, – ответил я. – Давно ли вы стали так кашлять?
– Э! э! э! – э! э! э! – э! э! э! – э! э! э! – э! э! э! – Бедняжка несколько минут не мог ответить.
– Ничего, – проговорил он наконец.
– Нет, – сказал я решительно, – пойдемте назад; ваше здоровье драгоценно. Вы богаты, перед вами преклоняются, вас уважают, вас любят; вы счастливы, как я был когда-то. Вас потерять – это была бы большая потеря. Вот я – дело другое. Пойдемте назад; вы захвораете, и я не хочу принимать на себя такую ответственность. Да кроме того, ведь Лукези…
– Довольно! – сказал он. – Кашель это пустяки, я от него не умру. Кашель меня не убьет.
– Верно, вот это верно! – отвечал я. – И правда, я не имел намерения беспокоить вас понапрасну, но вы должны были бы принять меры предосторожности. Вот медок, достаточно будет глотка, чтобы предохранить себя против сырости.
Я отбил горлышко у одной из бутылок, лежавших длинным рядом на земле.
– Выпейте-ка! – сказал я, предлагая ему вино.
Он устремил на меня косвенный взгляд и поднес вино к губам. Затем, помедлив, он дружески кивнул мне головой, и его бубенчики зазвенели.
– Пью, – проговорил он, – за усопших, которые покоятся вокруг нас.
– А я за вашу долгую жизнь.
Он снова взял меня под руку, и мы пошли дальше.
– Обширные подвалы, – проговорил он.
– Монтрезоры, – отвечал я, – представляли из себя семью обширную и многочисленную.
– Я забыл ваш герб.
– Громадная человеческая нога из золота на лазурном фоне; нога давит извивающуюся змею, которая своими зубами вцепилась ей в пятку.
– И девиз?
– «Nemo те impune lacessit» [22].
– Отлично, – проговорил он.
Вино искрилось в его глазах, и бубенчики звенели. Мысли мои тоже оживились; медок оказывал свое действие. Проходя мимо стен, состоящих из нагроможденных костей вперемежку с бочками и бочонками, мы достигли крайних пределов катакомб. Я остановился снова и на этот раз осмелился взять Фортунато за руку, повыше локтя.
– Смотрите, – проговорил я, – селитра все увеличивается. Вон она висит, точно мох. Мы теперь под руслом реки. Капли сырости просачиваются среди костей. Уйдемте, вернемтесь, пока не поздно. Ваш кашель…
– Это все пустяки, – сказал он, – пойдемте вперед. Но сперва еще один глоток вина. Где тут ваш медок?
Я взял бутылку Vin de Graves и, отбив горлышко, подал ему. Он осушил ее всю сразу. Глаза его загорелись диким огнем. Он начал хохотать и бросил бутылку вверх с жестом, значения которого я не понял.
Я посмотрел на него с удивлением. Он повторил движение – очень забавное.
– Вы не понимаете? – спросил он.
– Нет, – отвечал я.
– Так вы, значит, не принадлежите к братству?
– Как?
– Вы не масон?
– Да, да, – проговорил я, – да, да!
– Вы? Не может быть! Вы – масон?
– Масон, – отвечал я.
– Знак! – проговорил он.
– Вот! – отвечал я, высовывая небольшую лопату из-под складок своего roquelaure.
– Вы шутите! – проговорил он, отступая на несколько шагов. – Но давайте же ваше амонтильядо.
– Да будет так! – сказал я, пряча лопату под плащ и снова предлагая ему свою руку. Он тяжело оперся на нее. Мы продолжали наш путь в поисках амонтильядо. Мы прошли целый ряд низких сводов, спустились, сделали еще несколько шагов, опять спустились и достигли глубокого склепа, в нечистом воздухе которого наши факелы скорее тлели, нежели светили.
В самом отдаленном конце склепа виднелся другой склеп, менее обширный. Стены его были окаймлены человеческими останками, нагроможденными до самого свода, наподобие великих катакомб Парижа. Три стороны этого второго склепа были украшены таким же образом. С четвертой же кости были сброшены, они в беспорядке лежали на земле, образуя в одном месте таким образом насыпь. В стене, освобожденной от костей, мы заметили еще новую впадину, четыре фута в глубину, три в ширину и шесть или семь в вышину. По-видимому, она не была предназначена для какого-нибудь особого употребления, но представлялась промежутком между двумя огромными подпорами, поддерживающими своды катакомб, и примыкала к одной из главных стен, выстроенных из плотного гранита.
Напрасно Фортунато, поднявши свой оцепенелый факел, пытался проникнуть взглядом в глубину этой впадины. Слабый свет не позволял нам различить ее крайние пределы.
– Идемте, – сказал я, – вот здесь амонтильядо! А что касается Лукези…
– Он невежда, – прервал меня мой друг, неверными шагами устремляясь вперед, между тем как я шел за ним по пятам. Вдруг он достиг конца ниши и, натолкнувшись на стену, остановился в тупом изумлении. Еще мгновение – и я приковал его к граниту. На поверхности стены были две железные скобки, на расстоянии двух футов одна от другой, в горизонтальном направлении. С одной из них свешивалась короткая цепь, с другой – висячий замок. Обвить Фортунато железными звеньями за талию и запереть цепь – было делом нескольких секунд. Он был слишком изумлен, чтобы сопротивляться. Вынув ключ, я отступил на несколько шагов из углубления.
– Проведите рукой по стене, – проговорил я, – вы не можете не чувствовать селитры. Действительно, здесь очень сыро. Позвольте мне еще раз умолять вас вернуться. Нет? Ну, так я положительно должен оставить вас. Однако предварительно я должен выказать вам все внимание, каким только могу располагать.
– Амонтильядо! – выкрикнул мой друг, еще не успев оправиться от изумления.
– Точно, – ответил я, – амонтильядо.
Произнеся эти слова, я приступил к груде костей, о которых говорил раньше. Отбросив их в сторону, я вскоре открыл некоторое количество песчаника и известкового раствора. С помощью этих материалов, а также с помощью моей лопаты я живо принялся замуровывать вход в нишу.
Едва я окончил первый ряд каменной кладки, как увидел, что опьянение Фортунато в значительной степени рассеялось. Первым указанием на это был глухой, жалобный крик, раздавшийся из глубины впадины. То не был крик пьяного человека. Затем последовало долгое и упорное молчание. Я положил второй ряд камней, и третий, и четвертый; и тогда я услышал бешеное потрясение цепью. Этот шум продолжался несколько минут, и, чтобы слушать его с большим удовлетворением, я на время прекратил свою работу и уселся на костях. Когда наконец резкое звяканье умолкло, я снова взялся за лопату и без помехи окончил пятый, шестой и седьмой ряд. Стена теперь почти восходила в уровень с моей грудью. Я сделал новую остановку и, подняв факелы над каменным сооружением, устремил несколько слабых лучей на фигуру, заключенную внутри.
Целый ряд громких и резких криков, внезапно вырвавшихся из горла прикованного призрака, со страшной силой отшвырнули меня назад. На миг меня охватило колебание – мной овладел трепет. Выхватив шпагу, я начал ощупывать ею углубление; но минута размышления успокоила меня. Я положил свою руку на плотную стену катакомб и почувствовал полное удовлетворение. Я снова приблизился к своему сооружению. Я отвечал на вопли кричавшего. Я был ему как эхо – я вторил ему, – я превзошел его в силе и продолжительности воплей. Да, я сделал так, и крикун умолк.
Была уже полночь, и работа моя близилась к концу. Я довершил восьмой ряд, девятый и десятый. Я окончил часть одиннадцатого и последнего; оставалось только укрепить один камень и заштукатурить его. Я поднимал его с большим усилием; я уже почти пригнал его к должному положению. Но тут из углубления раздался сдержанный смех, от которого дыбом встали волосы на моей голове. Потом послышался печальный голос, и я с трудом узнал, что он принадлежит благородному Фортунато. Голос говорил:
– Ха! ха! ха! хе! хе! Вот славная шутка – действительно, это шутка. Посмеемся же мы над ней, когда будем в палаццо. Да! да! Славное винцо! Да! да!
– Амонтильядо! – сказал я.
– Хе! хе! хе! Да, амонтильядо! Но как вы думаете, не поздно теперь? Пожалуй, нас ждут в палаццо, синьора Фортунато и все другие? Пойдем!
– Да, – сказал я, – пойдем.
– Во имя Бога, Монтрезор!
– Да, – сказал я, – во имя Бога!
Но на эти слова я тщетно ждал ответа. Мной овладело нетерпение. Я громко позвал:
– Фортунато!
Никакого ответа. Я позвал опять:
– Фортунато!
Никакого ответа. Я просунул один факел через отверстие, оставшееся незакрытым, и бросил его в углубление. Оттуда только зазвенели бубенчики. Сердце у меня сжалось – в катакомбах было так душно. Я поспешил окончить свою работу. Я укрепил последний камень; я заштукатурил его. Против новой кладки я воздвиг старую стену из костей. Прошло полстолетия, и ни один смертный не потревожил их. In pace reauiescat! [23].
Бес превратности
Изучая способности и побуждения, prima mobilia, души человеческой, френологи упустили из вида одну склонность, которая, представляя несомненно коренное, первичное, основное чувство, ускользнула также от внимания их предшественников – философов. Наперекор очевидному свидетельству разума мы все проглядели ее. Проглядели единственно вследствие недостатка веры: в Откровение, или в Каббалу. Мысль о ней никогда не являлась нам просто потому, что она не требуется нашим представлением о человеке. Мы не видели надобности в таком влечении, в такой склонности. Не могли взять в толк, на что она нужна. Не могли понять, то есть не могли бы понять, если бы сознание этого prima mobilia явилось само собою, – не могли бы понять, каким образом она может содействовать целям человечества, преходящим или вечным. Нельзя отрицать, что френология и в значительной степени метафизика создались a priori. Человек отвлеченного разума и логики, а не просто мыслящий и наблюдающий, принимался выдумывать планы, – назначать цели для бога. Измерив таким образом к собственному удовольствию глубину намерений Иеговы, он строил на основании этих намерений бесчисленные системы духа. В отношении френологии, например, мы прежде всего и довольно естественно определили, что в намерения бога входило одарить человека способностью питаться. Согласно этому мы наделили человека шишкой позыва к пище, каковая шишка и представляет из себя стрекало, посредством которого божество заставляет человека питаться во что бы то ни стало. Далее, решив, что волей божией человеку предназначено продолжать свой род, мы открыли орган влюбчивости; затем – орган драчливости, идеальности, пытливости, творчества, – словом, разыскали органы для каждой способности чистого разума. В этом установленном порядке ргinсipiarum человеческой деятельности шпурцгеймисты, правильно ли, нет ли, целиком или отчасти, шли по следам своих предшественников, выводя и устанавливая все свои заключения из предопределенной судьбы человека, на основании целей творца.
Было бы умнее и вернее строить классификацию (если уж нам необходимо классифицировать) на основании того, что человек обыкновенно или случайно делает и всегда делал, а не на основании того, что, но нашему мнению, предписало делать божество. Если мы не можем понять бога в его творении видимом, то вам ли уразуметь непостижимую глубину его мыслей, вызвавших творение к бытию! Если мы не можем понять бога в его внешних творениях, то нам ли понять его в его внутренних целях или фазах творения!
Индукция a posteriori заставила бы френологию допустить в качестве прирожденного и первичного закона человеческой деятельности противоречивую склонность, которую я назову, за неимением более точного слова, превратностью. В том смысле, как я понимаю ее, она представляет mobile без побуждения, причину беспричинную. Она подстрекает нас действовать без всякой определенной цели; или, если этот способ выражения не покажется противоречивым, я скажу, что, подчиняясь ее внушениям, мы совершаем поступок на том основании, что его совершать не следует. В теории, – основание совершенно не основательное; на деле – едва ли не сильнейшее из всех. При известном настроении, при известных условиях, оно становится безусловно непреодолимым. Я уверен так же твердо, как в своем собственном существовании, что убеждение в безнравственности или ошибочности поступка сплошь и рядом является непобедимой силой, которая – и только она одна – заставляет нас совершать этот поступок. Это всепобеждающее стремление делать зло для зла не подлежит исследованию, не разлагается на составные начала. Это коренное, первичное, стихийное влечение. Мне скажут, что эта наклонность совершать известные действия, потому что их не следует совершать, – только видоизменение «воинственности» френологов. Но легко доказать несостоятельность этой идеи. Френологическая воинственность имеет в своей основе необходимость самозащиты. Это наша порука против несправедливости. Принцип ее касается нашего благополучия; и таким образом желание блага для себя возбуждается соответственно ее развитию. Отсюда следует, что желание блага для себя должно возникать одновременно со всякой наклонностью, которая будет только видоизменением воинственности. Но проявления того, что я называю превратностью, связаны отнюдь не с стремлением к собственному благу, а с совершенно противоположными чувствами.
В конце концов, лучшим опровержением софистического об'яснения, о котором я сейчас говорил, будет обращение к собственному сердцу. Никто, разобравшись до конца и испытав, как следует, свою собственную душу, – никто не станет отрицать, что склонность, о которой идет речь, – несомненно коренная душевная черта. Она так же очевидна, как непонятна. Не найдется человека, который не испытывал бы когда-нибудь сильнейшего желания, – например, подразнить слушателя в разговоре. Он знает, что речь его не нравится; он хочет нравиться; его обычный способ изложения ясен, точен, сжат; у него вертятся на языке самые подходящие и меткие слова; он боится и не желает вызвать досаду в слушателе; но у него мелькает мысль, что известные вставки и отступления вызовут эту досаду. Эта мысль является толчком, толчок превращается в позыв, позыв в стремление, стремление в страстное, неудержимое желание, которое и осуществляется (презирая все последствия, – к великому огорчению и досаде самого оратора).
Нам необходимо поскорее окончить важное дело. Мы знаем, что отсрочка грозит бедой. В нашем существовании готовится переворот, – он призывает нас, как боевая труба; он требует воли и деятельности. Мы жаждем, мы томимся нетерпением начать работу, блестящие следствия которой заранее воспламеняют нам душу. Надо, необходимо начать ее сегодня, – тем не менее мы отлагаем до завтра, – почему? Ответ один: потому что нас обуяла прихоть, – употребляя слово, не выражающее определенного побуждения. Наступает завтра, – а с ним еще более нетерпеливое стремление, – растет и неиз'яснимое, жадное, во истину страшное по своей загадочности желание, отложить. Время идет, а оно, это желание, собирается с силами. Наступает последняя минута. Мы дрожим от мучительной внутренней борьбы решения с нерешимостью – тела с тенью. Но, если уж борьба зашла так далеко, тень одолеет, как мы ни бейся. Часы бьют отходную нашему благополучию. Вместе с тем они, как пение петуха, изгоняют обуявшего нас беса. Он бежит – исчезает – мы свободны. Прежняя воля возрождается. Теперь мы готовы работать. Увы, слишком поздно!
Мы стоим на краю бездны. Мы смотрим в бездну, – чувствуем головокружение и слабость. Наше первое побуждение бежать от опасности. Безотчетно, – мы остаемся на месте. Мало по малу головокружение, слабость, ужас исчезают в тумане чувства неиз'яснимого. Еще незаметнее, еще постепеннее туман принимает облик: как пар, вылетавший из бутылки и превратившийся в гения в «Арабских Сказках». Но из нашего тумана, над краем пропасти, возникает облик страшнее всякого сказочного гения, или демона, – хотя это только мысль; правда, зловещая, от которой сладкий трепет ужаса пронизывает нас до мозга костей. Это мысль о том, что бы мы почувствовали, падая стремглав с такой высоты; и это падение, это головокружительное уничтожение, – именно потому, что оно связано с самым зловещим, самым отвратительным образом смерти и страданий, какой когда-либо рисовался нашему воображению, – именно потому оно начинает неудержимо манить; и так как разум наш отводит нас от пропасти, то – мы влечемся к ней. Нет такой дьявольски нетерпеливой страсти, как та, которая обуревает человека, когда он стоит над краем бездны и с дрожью думает: – что, если кинуться? Потратить хоть минуту на размышление значит погибнуть неизбежно, так как размышление заставляет нас бежать, и потому, говорю я, мы не можем бежать. Если дружеская рука не удержит нас, если не одолеет первый порыв откинуться от пропасти, – мы бросаемся в нее и гибнем.
Разбирайте как угодно эти и подобные действия, – вы увидите, что они проистекают только из духа превратности. Мы совершаем их просто потому, что чувствуем, что не должны совершать. Иного об'яснения невозможно придумать; и мы готовы бы были приписать эту извращенность прямому внушению дьявола, если бы иногда она не приводила к добру.
Я распространялся обо всем этом для того, чтобы дать хоть сколько-нибудь удовлетворительный ответ на ваш вопрос, – об'яснить вам, как я попал сюда, – указать хоть слабое подобие причины, которая довела меня до кандалов и тюрьмы. Если бы я не распространился так подробно, вы бы, пожалуй, вовсе не поняли меня, или, вместе с толпой, приняли за сумасшедшего. Теперь же вы без труда поймете, что я одна из бесчисленных жертв беса превратности.
Вряд ли какой-нибудь поступок был совершен так обдуманно. По неделям, по месяцам я обсуждал способы убийства. Я отверг тысячи планов, потому что исполнение их не исключало возможности обнаружения. Наконец, в одной французской книге я прочел о случае с m-me Пилау, которая чуть не умерла по милости отравленной свечи. Эта идея поразила мое воображение. Мне была известна привычка моей жертвы читать на ночь в постели. Я знал также, что спальня его была тесная и плохо проветриваемая комната. Но не буду удручать вас неприятными подробностями. Не буду описывать, как ловко мне удалось подменить свечу на его ночном столике. Наутро он был найден мертвым, и коронер решил: «умер попущением божиим».
Я получил в наследство его состояние и в течение нескольких лет жил спокойно. Мысль о возможности обнаружения ни разу не приходила мне в голову. Я уничтожил огарок роковой свечи. Я не оставил и тени ключа, с помощью которого можно бы было обвинить, или хоть заподозрить меня в преступлении. Вы не можете себе представить, с каким наслаждением я думал о своей полнейшей безопасности. В течение долгого времени я часто упивался этим сознанием. Оно доставляло мне больше радости, чем все житейские блага. Однако, в конце концов, наступило время, когда это упоительное чувство постепенно, незаметно превратилось в неотвязную и несносную мысль. Она была несносна, потому что неотвязна. Я ни на минуту не мог избавиться от нее. Довольно обыкновенное явление, что вас неотвязно преследует, раздаваясь в ваших ушах, или точнее в вашей памяти, какая-нибудь пошлая песенка или ничтожный оперный мотив. Если далее песенка хороша, если опера не лишена достоинств – ваше состояние ничуть не менее мучительно. Так и меня преследовала мысль о моей безопасности, и я не раз ловил себя на том, что повторяю вполголоса: – я в безопасности.
Однажды, бродя по улицам, я заметил, что повторяю довольно громко те же слова. Из чистого дурачества я переделал их таким образом: – я в безопасности… я в безопасности… да, если только не буду так глуп, что признаюсь в своем преступлении.
Не успел я договорить этой фразы, как холод оледенил мое сердце. Я уже был знаком, по собственному опыту, с этими припадками извращенности (природу которых затруднялся об'яснить) и хорошо помнил, что мне никогда не удавалось справиться с ними. И эта мысль, возникшая случайно, путем самовнушения, – мысль, что я могу сознаться в своем преступлении, – встала передо мной, как призрак моей жертвы, – и гнала меня к смерти.
Сначала я попытался стряхнуть с своей души этот бред. Я ускорил шаги – быстрее, быстрее – наконец, пустился бежать. Я испытывал безумное желание закричать во весь голос. Всякая новая волна мысли леденила меня новым ужасом, потому что… увы!.. я слишком, слишком хорошо понимал, что думать в моем положении значило погибнуть. Я все ускорял свой бег. Я летел, как сумасшедший, по людным улицам. Поднялась тревога, за мной пустились вдогонку. Тогда-то я почувствовал, что судьба моя свершилась. Если бы я мог вырвать себе язык, я вырвал бы его… но вот грубый голос раздался в моих ушах… тяжелая рука схватила меня за плечо. Я обернулся, задыхаясь. На мгновение я почувствовал припадок удушья, – в глазах потемнело, голова закружилась – но тут невидимый враг точно толкнул меня в спину. Долго скрываемая тайна вырвалась из моей души.
Мне передавали потом будто я говорил ясно, отчетливо, но с заметной восторженностью, страстно, торопливо, точно боялся, что кто-нибудь прервет поток признаний, осуждавших меня на виселицу и в ад.
Высказав все, что было нужно для безусловного обвинения, я упал без чувств.
К чему рассказывать дальше? Сегодня я в оковах и здесь. Завтра я буду без оков! – но где?







