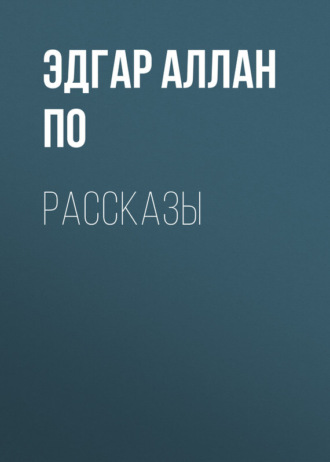
Эдгар Аллан По
Рассказы
– одной единственной адской мыслью.
Несколько минут я пролежал не двигаясь. Почему же? Сделать усилие, которое открыло бы мне участь мою, я не смел, а между тем сердце подсказывало мне, что она совершалась. Отчаяние, – подобного которому не может вызвать никакое другое несчастье, – одно отчаяние заставило меня после долгой нерешимости поднять отяжелевшие веки. Я открыл глаза. Кругом тьма – непроглядная тьма. Я знал, что припадок кончился. Знал, что кризис давно совершился. Знал, что теперь я вполне владею способностью зрения, – и все-таки кругом была тьма – черная тьма – полное, совершенное отсутствие света, ночь, которая никогда не проходит.
Я попытался крикнуть; губы мои и пересохший язык судорожно зашевелились, но никакого звука не вылетело из легких, которые, точно под тяжестью целой горы, корчились и трепетали вместе с сердцем при каждом мучительном и прерывистом вздохе.
Движение челюстей при этой попытке крикнуть показало мне, что они подвязаны, как это обыкновенно делают у покойников. Я чувствовал также, что лежу на чем-то жестком, и что-то жесткое сжимает мне бока. До сих пор я не пытался пошевелить хоть одним членом, – но теперь разом поднял руки, которые были вытянуты и сложены крест на крест. Они стукнулись о дерево, находившееся дюймов на шесть над моею головой. Не оставалось более сомнений, я лежал в гробу.
В эту минуту бесконечного ужаса скользнул ко мне кроткий херувим надежды, я вспомнил о своих предосторожностях. Я стал судорожно биться, старался поднять крышку, – она не двигалась. Я искал веревку от колокола, – ее не было. И вот ангел утешитель отлетел от меня, и еще горшее отчаяние восторжествовало. Я не мог не заметить отсутствия обивки, которую так тщательно приготовил, и в то же время мое обоняние внезапно было поражено сильным специфическим запахом сырой земли. Вывод был неотразим: я находился не в склепе. Припадок застиг меня вне дома – среди чужих людей, когда или как, я не мог припомнить; и меня зарыли как собаку, – заколотили в простом гробу и схоронили глубоко, глубоко в обыкновенной, безвестной могиле.
Когда это страшное убеждение пронизало мою душу, я снова попытался крикнуть; и на этот раз попытка удалась. Долгий, дикий, бесконечный крик или вой агонии огласил тишину подземной ночи.
– Эй! эй! что такое! – раздался в ответ чей-то грубый голос.
– Что за чертовщина! – крикнул другой.
– Вылезай отсюда! – подхватил третий.
– Что ты там воешь словно влюбленный кот? – сказал четвертый; затем меня без всяких церемоний схватили и принялись трясти какие-то молодцы очень грубого вида. Они не разбудили меня – я и без того проснулся – но вернули мне обладание памятью.
Это происшествие случилось близ Ричмонда в Виргинии. В сопровождении приятеля, я предпринял охотничью экскурсию по берегам Джэмс-Ривер. Вечером захватила нас буря. Небольшая баржа, нагруженная садовой землей, стоявшая на якоре у берега, оказалась единственным нашим убежищем. За неимением лучшего, мы воспользовались им и проведи ночь на барже. Я занял одну из двух кают, – а можно себе представить, что такое каюта баржи в шестьдесят или семьдесят тонн. В той, которую занял я, постели вовсе не было. Наибольшая ширина ее равнялась восемнадцати дюймам; столько же она имела в высоту от пола до потолка. Мне стоило не малого труда залезть в нее. Тем не менее, я заснул крепко; и все мое видение, – так как это не был сон, или бред, – явилось естественным следствием моего положения, обычного направления моих мыслей и обстоятельства, о котором я уже упоминал: неспособности собраться с мыслями, а особенно овладеть памятью долгое время после пробуждения. Люди, которые трясли меня, были хозяева баржи и работники, нанятые для выгрузки. Запах земли исходил от груза. Повязка под челюстями был шелковый платок, которым я обвязал голову за неимением ночного колпака.
Во всяком случае, пытка, которую я испытывал в течение некоторого времени, была ничуть не меньше мук погребенного заживо. Она была ужасна, невыразима; но нет худа без добра: самая чрезмерность страдания вызвала в душе моей неизбежное противодействие. Мой дух окреп, – успокоился. Я уехал за границу. Предался физическим упражнениям. Дышал чистым воздухом полей. Стал думать о других предметах, кроме смерти. Расстался с медицинскими книгами. «Бухана» я сжег. Перестал читать «Ночные мысли», всякую ерунду о кладбищах – бабьи сказки – в роде той, которую сейчас рассказал. Словом, я стал другим человеком и зажил жизнью человека. Со времени этой достопамятной ночи я навсегда расстался со своими могильными страхами, а вместе с ними исчезли и каталептические припадки, быть может, бывшие скорее следствием, чем причиной этих страхов.
Бывают минуты, когда даже в глазах трезвого рассудка наш печальный мир становится адом. Но воображение человеческое не Коратид, чтобы безнаказанно спускаться в такие бездны. Увы! мрачные могильные ужасы существуют не в одном воображении; но подобно демонам, в, обществе которых Афразиаб спустился с Оксуса, они должны спать, – иначе растерзают нас; а мы не должны тревожить их сна, – иначе погибнем.
Поместье Арнгейм
От колыбели до могилы благополучие не изменяло моему другу Эллисону. Я употребляю слово благополучие не в его обыденном смысле. Я подразумеваю под ним счастье. Подумаешь, что мой друг родился для оправдания доктрин Тюрго, Прайса, Пристлея, Кондорсе, – для олицетворения в личном примере того, что считалось грезой перфекционистов. В кратковременном существовании Эллисона я вижу опровержение догмата, по которому в самой природе человека таится начало, несовместимое с блаженством. Тщательное изучение жизни его показало мне, что все бедствия рода людского происходят от нарушения немногих простых законов человеческой природы, что нам доступны еще неисследованные элементы довольства, что даже теперь, при современной темноте и безумии взглядов на великий социальный вопрос, отдельная личность может быть счастлива при известном необычайном стечении обстоятельств.
Мой молодой друг придерживался таких же мнений, так что его неизменное довольство было в значительной степени следствием сознательного отношения к жизни. Ясно, что, не обладая той инстинктивной философией, которая так успешно заменяет при случае опыт, мистер Эллисон уже вследствие своих необычайных успехов в жизни не избежал бы бездны несчастия, зияющей перед исключительно одаренными личностями. Но я отнюдь не собираюсь писать трактат о счастии. Взгляды моего друга могут быть переданы в нескольких словах. Он допускал только четыре основных закона, или, скорее, условия блаженства. Главным он считал (странно сказать!) простое и чисто физическое условие: пребывание на воздухе. – Здоровье, – говорил он, – достигаемое другими средствами, не заслуживает этого названия. – Он с увлечением говорил об охоте и доказывал, что земледельцы единственный класс, который по самому положению своему счастливее всех остальных. Вторым условием была в его глазах любовь к женщине. Третьим и самым трудным – презрение к честолюбию. Четвертым – иметь какую-нибудь цель в жизни. Он утверждал, что, при прочих равных условиях, степень счастья соответственна возвышенности этой цели.
Судьба с удивительной щедростью осыпала Эллисона своими дарами. Красотою и грацией он превосходил всех смертных. Ум его был из числа тех, которым знания даются сами собою без малейших усилий. Семья принадлежала к знатнейшим в империи. Невеста была прелестнейшая и добрейшая девушка. Он обладал значительным состоянием, когда же достиг совершеннолетия, судьба разрешилась в его пользу одним из тех сюрпризов, которые производят сенсацию в обществе и почти всегда глубоко изменяют характер тех, на чью долю достались.
Оказалось, что, лет за сто до появления на свет мистера Эллисона, умер в одной захолустной провинции некто мистер Сибрайт Эллисон. Этот господин нажил значительное состояние и, не имея близких родственников, вздумал оставить завещание в том смысле, чтобы его капиталы оставались нетронутыми в течение столетия. Затем они должны были достаться, со всеми накопившимися процентами, его ближайшему по крови родственнику, носящему фамилию Эллисон, который окажется в живых по истечении ста лет. Много попыток было сделано обойти это странное завещание; являясь ех post facto, они все оказались тщетными; но внимание правительства было возбуждено, и воля завещателя утверждена особым актом.
Этот акт не воспрепятствовал юному Эллисону, по достижении им двадцати одного года, вступить во владение, в качестве наследника своего предка Сибрайта, состоянием в четыреста пятьдесят миллионов долларов [21].
Когда в обществе узнали о таком колоссальном наследстве, было, как водится, высказано немало догадок о способе его употребления. Громадность суммы смущала всех, кто думал об этом предмете. Нетрудно представить себе тысячи вещей, на которые может быть израсходовано обыкновенное состояние. Капиталист, средства которого немногим превосходят средства его сограждан, может употребить их на светские причуды своего времени, на политические интриги, на погоню за министерским портфелем, на приобретение знатных титулов, на собирание редкостей, на роль щедрого покровителя наук, искусств, литературы, на благотворительные заведения, украшенные его именем. Но для такого неизмеримого богатства, как в данном случае, эти способы применения, как и все обычные способы, представляли слишком ограниченное поле действия. Доходы с наследства, считая только три процента, составляли четырнадцать миллионов пятьсот тысяч долларов в год, то есть миллион сто двадцать пять тысяч в месяц, или тридцать шесть тысяч девятьсот восемьдесят шесть в сутки, или тысячу пятьсот сорок один в час, или двадцать шесть долларов в минуту. Таким образом публика была совершенно сбита с толку и не знала, какое назначение придумать этим деньгам. Высказывалось даже предположение, что мистер Эллисон постарается отделаться по меньшей мере от половины своего наследства, как чересчур обременительного, обогатив толпы своих родственников. Ближайшим из них он действительно предоставил очень крупное состояние, то, которым обладал до получения наследства.
Я не удивился, что он долго ломал голову над тем же вопросом, который вызвал столько разговоров среди его друзей. Не особенно изумило меня и принятое им решение. В отношении личной благотворительности он успокоил свою совесть. В возможность какого-либо улучшения, в настоящем смысле этого слова, общих условий человеческой жизни деятельностью самого человека он (с сожалением сознаюсь в этом) плохо верил. В итоге, он, к счастью или несчастью, обратился к самому себе.
Он был поэт в обширнейшем и благороднейшем смысле этого слова. Он понимал истинный характер, возвышенные цели, величие и достоинство поэтического чувства. Инстинкт подсказывал ему, что наиболее полное, быть может, единственное, удовлетворение дается этому чувству созданием новых форм красоты. Воспитание или склад ума придали его нравственным воззрениям отпечаток так называемого материализма; может быть, эта особенность и была причиной, приведшей его к убеждению, что самое благородное, пожалуй, даже единственное заключается в создании новых образцов чисто физической красоты. Таким образом он не сделался ни музыкантом, ни поэтом, если употреблять этот последний термин в общепринятом смысле. Или, быть может, он не сделался ни тем, ни другим под влиянием своей идеи, что презрение к честолюбию есть одно из основных условий счастья на земле. В самом деле, если великий гений неизбежно честолюбив, то величайший, быть может, выше честолюбия? Быть может, не один поэт, превосходивший Мильтона гениальностью, добровольно остался «немым и безвестным». Я думаю, что мир еще не видал и – если только стечение исключительных обстоятельств не заставит гений высшего порядка обратиться к ненавистным для него занятиям – никогда не увидит высочайших образцов искусства, на которые способна человеческая природа.
Эллисон не сделался ни музыкантом, ни поэтом, хотя вряд ли был на свете более страстный поклонник музыки и поэзии. Возможно, что при других обстоятельствах он занялся бы живописью. Ваяние, при всей своей поэтичности, слишком ограничено в средствах и действиях, почему и не могло увлечь его.
Я перечислил все области, в которых, по общему мнению, может развернуться поэтическое чувство. Но Эллисон находил, что самая богатая, самая подлинная, самая естественная, может быть, даже самая обширная область остается в непонятном пренебрежении. Никому не приходило в голову называть поэтом садовника; между тем, по мнению моего друга, устройство сада-ландшафта представляло великолепное поприще для истинной Музы. Здесь открывалось богатое поле для игры воображения в бесконечном сочетании форм новой красоты, так как начала, входящие в эти сочетания – прекраснейшие создания земли. В бесчисленных формах и красках цветов и деревьев он усматривал самые непосредственные и могущественные усилия природы к созданию физической красоты. Направлять и приводить в порядок эти усилия – или, точнее, приспособлять их к глазам, которые будут любоваться ими на земле – вот дело, на которое он решил употребить свое состояние, – осуществляя не только призвание поэта, но и возвышенные цели, ради которых божество одарило человека поэтическим чувством.
«Приспособлять их к глазам, которые будут любоваться ими на земле». Своим объяснением этих слов мистер Эллисон помог мне разрешить одну загадку, – я разумею тот факт (который могут отрицать разве невежды), что в природе не существует таких картин, какие может создать гениальный живописец. На земле нет такого рая, какой сияет перед нами на картинах Клода. В самых восхитительных естественных ландшафтах всегда найдется какой-нибудь недостаток или излишество, – много недостатков или излишеств. Отдельные части могут соперничать с величайшими созданиями искусства, но, в расположении этих частей всегда можно найти недостатки. Словом, на всей обширной земле не найдется такого естественного пейзажа, в «композиции» которого глаз артиста не открыл бы при упорном наблюдении черт, оскорбляющих чувство прекрасного. Обстоятельство совершенно непостижимое! Во всех других отношениях мы справедливо считаем природу образцом совершенства. В подробностях мы отказываемся соперничать с нею. Кто передаст краски тюльпана, или усовершенствует форму ландыша? Утверждая, что скульптура или портретная живопись скорее идеализирует природу, чем подражает ей, критика ошибается. Соединяя известные черты человеческой прелести, ваяние и живопись только приближаются к красоте живой и дышащей.
Упомянутый критический закон верен лишь в отношении ландшафта, и, чувствуя, что он верен в этом отношении, мы распространили его на все области искусства в силу свойственного нам стремления обобщать. Я сказал: чувствуя, – потому что чувство это не аффектация или химера. Математика не доставит более совершенных доказательств, чем чувство прекрасного художнику. Он не только верит, но положительно знает, что такие-то и такие-то, по-видимому, произвольные сочетания материи – и только они одни – составляют истинную красоту. Но его основания еще не нашли себе выражения. Чтобы исследовать и выразить их, требуется такой глубокий анализ, какого еще не видал свет. Тем не менее, инстинктивные мнения его подтверждаются голосом всех его собратий. Положим, что «композиция» имеет недостатки; что она нуждается в поправке; представьте эту поправку на суд любого художника, – и он признает ее необходимость. Более того: каждый член братства художников укажет одинаковую поправку для исправления недостатков композиции.
Повторяю, только в сочетании составных начал ландшафта можно превзойти физическую природу, и эта-то возможность улучшения только в одной единственной точке всегда казалась мне неразрешимой тайной. Я пытался объяснить ее так: первоначальная воля природы была устроить земную поверхность так, чтобы она являлась для человеческих чувств совершенством прекрасного, возвышенного, живописного, но эта первоначальная воля была искажена известными геологическими переворотами – изменениями в сочетании форм и красок. Задача искусства исправить или сгладить эти изменения. Но при таком взгляде приходилось допустить неестественность и бесцельность геологических переворотов. Эллисон объяснял их, как предвестие смерти. Он говорил: – Допустим, что первоначальным намерением было земное бессмертие человека. В таком случае первичное устройство земной поверхности приспособлено к блаженному состоянию, еще не осуществившемуся, но предназначенному. Перевороты явились в связи с изменившимся замыслом, как подготовка к новому, смертному существованию.
То, что мы считаем усовершенствованием ландшафта, быть может, действительно таково с нравственной или человеческой точки зрения. Быть может всякое изменение естественного вида местности испортило бы картину, – если рассматривать ее в общем, – в целом, – с какой-нибудь точки, удаленной от земной поверхности, хотя и не выходящей за пределы атмосферы. Нетрудно понять, что поправка, которая усовершенствует подробности при близком наблюдении, может испортить целое или впечатления, получаемые только издали. Могут быть существа, когда-то человеческой природы, ныне же незримые людям, для которых, издали, наш беспорядок кажется порядком, неживописное для нас – живописным. Это земные ангелы, и, может быть, для них-то, а не для нас, для их утонченных чувств бог раскинул обширные сады-ландшафты на обоих полушариях.
При этом мой друг привел выдержку из одного писателя по садоводству, считавшегося авторитетом:
«Собственно говоря, есть лишь два рода ландшафтного садоводства: естественный и искусственный. Первый стремится выставить на вид естественную красоту местности, приспособляя ее красоты к окружающей картине: взращивая деревья в связи с волнистым или ровным характером страны; открывая и выставляя напоказ гармонические сочетания форм и красок, скрытые от обыкновенного наблюдателя, но очевидные для опытного глаза. Следствие естественного стиля, скорее отсутствие всяких пробелов и уродливостей – преобладание здоровой гармонии и порядка, – чем создание каких-либо особых эффектов и чудес. Искусственный стиль так же разно – образен, как вкусы. Он находится в известном отношении к различным архитектурным стилям. Таковы стройные аллеи Версаля; итальянские террасы; старинный смешанный английский стиль, имеющий связь с готическими постройками и архитектурой елизаветинского времени. Что бы ни говорили против злоупотреблений искусственного ландшафтного садоводства, но примесь чистого искусства усиливает естественную прелесть ландшафта. Она частью радует глаз, обнаруживая порядок и план, частью действует на чувство нравственное. При виде террасы со старой, заросшей мхом, балюстрадой воображение рисует прекрасные образы, мелькавшие на ней в былые дни. Малейшее приложение искусства свидетельствует о человеческих заботах и желаниях».
– Из всего мною сказанного, – продолжал Эллисон, – вы можете видеть, что я не отвергаю первый способ. Естественная красота не поравняется с той, которую вносит искусство. Конечно, все зависит от выбора местности. То, что здесь сказано насчет открывания и выставления напоказ гармонических сочетаний красок и форм – одна их тех красот слога, которыми прикрывается неясность мысли. Эта фраза может значить что угодно, или ничего не значить, и во всяком случае не дает никакого руководящего закона. Утверждение, что истинная цель естественного стиля – отсутствие пробелов и уродливостей, а не создание каких-либо особенных эффектов или чудес, более подходит к трусливой пошлости толпы, чем к пылким грезам гения. Эта отрицательная красота измышлена той же хромой критикой, которая превозносит Аддисона в литературе. Дело в том, что отрицательное достоинство, состоящее в простом избегании недостатков, обращается непосредственно к рассудку, а потому, может быть, возведено в закон и ограничено его пределами, тогда как достоинство высшее, воплощенное в творчестве, воспринимается только в следствиях своих. На основании правил можно создать «Катона», но тщетно объясняют нам, как создается Парфенон или «Ад». Когда же произведение готово, чудо совершилось, и способность восприятия оказывается всеобщей. Софисты отрицательной школы, насмехавшиеся над творчеством вследствие своей неспособности созидать, восторгаются больше всех. То самое, что в зачаточной форме закона возмущало их осторожный рассудок, в зрелом состоянии законченного создания приводит их в восторг, пробуждая инстинкт красоты.
Замечания автора насчет искусственного стиля более правильны. Примесь чистого искусства возвышает красоту ландшафта. Это справедливо, как и указание на сочувствие человеческим желаниям. Закон, высказанный в этих словах, неопровержим, но за ним может скрываться нечто большее. В согласии с этим законом может быть цель, неосуществимая при обыкновенных средствах, какими располагают отдельные лица; – но раз осуществленная, она придает саду-ландшафту несравненно больше прелести, чем простое чувство человеческого интереса. Поэт, обладающий громадными денежными средствами, может, удерживая необходимую идею искусства или культуры, или, как выражается наш автор, интереса, внести в замыслы свои такое величие и новизну красоты, что они будут внушать чувство духовного вмешательства. Достигнув этого, он сохранит все выгоды интереса или плана, освободив свое создание от грубости и ремесленности обыкновенного искусства. В самом угрюмом, в самом диком естественном ландшафте очевидно искусство творца, но очевидно только для размышления и ни в каком случае не имеет непосредственной силы чувства. Предположим теперь, что это чувство плана всемогущего на одну степень смягчено – приведено в известное согласие, или соотношение с чувством человеческого искусства, образует переходное звено между тем и другим; например, представим себе ландшафт, который, соединяя обширность с определенностью, красоту и великолепие с необычайностью, внушает мысль о заботе, или культуре, или надзоре со стороны существ высших, но родственных человеку; в таком случае, чувство интереса сохранено, так как искусство, внесенное в ландшафт, принимает вид посредствующей, или вторичной природы, – природы, которая, не будучи богом, ни излиянием бога, остается тем не менее природой в смысле творения ангелов, парящих между богом и человеком.
В осуществлении этой мечты с помощью своего чудовищного богатства, в постоянном пребывании на вольном воздухе для надзора за исполнением замыслов своих, в непрестанном стремлении к цели, осуществлявшейся в этих замыслах, в возвышенно духовном свойстве цели, в презрении к честолюбию, которое действительно не могло играть роли в его деятельности, в постоянном удовлетворении, без возможности насыщения, своей господствующей страсти, жажды прекрасного, а главное, в любви к женщине, прелесть и нежность которой облекли его существование пурпурной дымкой рая, – Эллисон думал найти, и нашел избавление от обычных забот человечества и несравненно больше положительного счастья, чем сулят его упоительные сны на яву De Stael.
Я отчаиваюсь дать читателю ясное представление о чудесах, созданных моим другом. Я желал бы описать их, но смущаюсь трудностью и колеблюсь между подробностями и общими чертами. Быть может, самое лучшее будет соединить крайности того и другого.
Прежде всего, конечно, мистер Эллисон занялся вопросом о местности. Сначала его внимание привлекла роскошная природа островов Тихого океана. Он уже решил отправился туда, но, поразмыслив об этом, отказался от своего намерения.
– Будь я мизантропом, – говорил он, – такая местность была бы мне кстати. Замкнутость и уединенность острова, трудность доступа и выезда были бы, в таком случае, лучшими из его прелестей; но я пока не Тимон. Я желаю покоя, а не гнетущего уединения. Я должен сохранить за собой возможность распоряжаться степенью и продолжительностью моего отшельничества. Нередки будут минуты, когда мне понадобится сочувствие других людей. Поищу же местности по соседству с многолюдным городом, кстати, близость его будет полезна для осуществления моих замыслов.
Разыскивая подходящую местность, Эллисон провел в путешествиях несколько лет, позволив мне сопровождать его. Тысячи местностей, приводивших меня в восторг, он отверг без всяких колебаний на основании тех или других соображений, которые всегда убеждали меня в его правоте. Наконец, попалось нам обширное плоскогорье, удивительного плодородия и красоты, с громадной панорамой, не уступавшей по обширности виду, открывающемуся с Этны, но далеко превосходившей этот прославленный вид истинной живописностью, по нашему общему мнению.
– Я уверен, – сказал Эллисон, со вздохом глубокой радости, после того, как целый час точно очарованный смотрел на эту картину, – я знаю, что на моем месте девять десятых самых требовательных людей остались бы довольны. Панорама действительно великолепная, и мне не нравится в ней только избыток великолепия. Все архитекторы, каких я только знал, считают необходимым помещать здание на вершину холма ради «вида». Ошибка очевидная. Величие во всех своих формах, а особенно в форме громадного пространства, поражает, возбуждает и, вследствие этого, утомляет, угнетает. Для случайного зрелища ничего не может быть лучше, для постоянного вида нет ничего хуже. Самая опасная сторона в постоянном виде – размеры, а в размерах – громадность расстояния. Она противоречит чувству уединения, которое мы стремимся удовлетворить, «уезжая в деревню». Глядя с вершины горы, мы невольно чувствуем вокруг себя мир. Меланхолик избегает далей, как чумы.
Только к концу четвертого года наших странствий мы нашли местность, которой Эллисон остался доволен. Не нужно говорить, где это место. Недавняя смерть моего друга открыла известному разряду посетителей доступ в его имение, доставила Арнгейму род таинственной, глухой, если не торжественной, славы, вроде той, которой так долго пользовался Фонтгилль, но бесконечно выше по степени.
Обычный способ сообщения с Арнгеймом был по реке. Посетитель выезжал из города рано утром. До полудня он ехал среди прекрасного, мирного ландшафта, – широких лугов, яркая зелень которых пестрела белыми пятнами бесчисленных овец. Мало-помалу идея культуры сменялась впечатлением простой пастушеской жизни. Это последнее понемногу исчезало в чувстве уединения, которое, в свою очередь, сменялось сознанием одиночества. С приближением вечера река становилась уже, берега круче, одевавшая их зелень богаче, роскошнее, темнее, вода – все прозрачнее. Поток прихотливо извивался, так что блестящая поверхность его в каждую минуту была видима лишь на небольшом расстоянии. Казалось, что лодка находится в заколдованном кругу с непроницаемыми зелеными стенами, ультрамариновой атласной кровлей и без пола; киль покачивался с удивительной точностью на киле призрачной лодки, опрокинутой вверх дном, и сопровождавшей настоящую, поддерживая ее. Река превратилась в ущелье, хотя слово это не совсем подходящее, и я употребляю его только потому, что не знаю в нашем языке другого слова, которое могло бы лучше выразить самую поразительную, самую выдающуюся особенность этой картины. Характер ущелья выражался только в высоких параллельных берегах, но не в остальных чертах картины. Стены ущелья (среди которых по– прежнему струилась чистая вода) достигали ста и даже полутораста футов вышины и так наклонялись одна к другой, что заслоняли свет небесный, а длинный перистый мох, свешивавшийся густыми прядями с кустарников, придавал всему оттеток могильной грусти. Извилины становились все чаще и круче, так что путешественник давно уже начинал терять понятие о направлении. Кроме того, он был поглощен особенным чувством необычайного. Идея природы еще оставалась, но свойство ее изменилось; волшебная симметрия, поразительное однообразие, странная чистота сказывались на всех ее произведениях. Нигде не было видно сухой ветки, увядшего листка, валяющегося голыша, клочка бурой земли. Хрустальные воды окаймлялись блестящим гранитом или чистым зеленым мхом с отчетливостью очертаний, восхищавшей и поражавшей глаз. Проплыв в течение нескольких часов в этом лабиринте, где сумрак сгущался с минуты на минуту, лодка делала быстрый и неожиданный поворот, и перед путником открывался круглый бассейн обширных размеров сравнительно с шириной ущелья. Он имел ярдов двести в диаметре и был окружен со всех сторон, кроме одного пункта, находившегося как раз перед лодкой, холмами, достигавшими такой же высоты, как стены ущелья, но совершенно иного вида. Они спускались к воде под углом в сорок пять градусов и с вершины до подошвы были одеты сплошным ковром пышных цветов; ни единого зеленого листка не видно было в море ярких благоухающих красок. Водоем был очень глубок, но вода так прозрачна, что дно, состоявшее, невидимому, из множества мелких круглых алебастровых голышей, виднелось совершенно ясно по временам, то-есть, когда глаз мог не видеть в опрокинутом небе отражение цветущих холмов. На холмах не было деревьев, ни даже кустарников. Впечатление, охватывавшее наблюдателя, было впечатление богатства, тепла, красок, спокойствия, однообразия, мягкости, изящества, утонченности, неги и чудного совершенства культуры, наводившей на мысль о новом племени фей – трудолюбивом, исполненном вкуса и упорном; но, когда взор поднимался по склону, пестревшему мириадами цветов, от резкой линии разграничения с водой до вершины, терявшейся в облаках, трудно было отделаться от впечатления потока рубинов, сапфиров, опалов и золотистых ониксов, – потока, безмолвно катившегося с небес.
Посетитель, вступивший так внезапно в этот бассейн из мглы ущелья, восхищен и поражен полным диском заходящего солнца, так как думал, что оно уже давно зашло. Но оно оказывается перед ним в конце безграничной панорамы, открывающейся в другое ущелье, на противоположной стороне бассейна.
Здесь посетитель оставляет лодку, которая везла его так долго, и садится в легкий челнок слоновой кости с ярко красными узорами внутри и снаружи. Корма и нос челна высоко поднимаются над водою в виде неправильного полумесяца. Он покоится на поверхности озера с гордой прелестью лебедя. На дне его, обитом горностаем, лежит весло из атласного дерева, но ни гребца, ни рулевого нет. Путешественника просят не беспокоиться – сама судьба о нем позаботится. Большая лодка исчезает, и он остается один в челне, который, по-видимому, стоит недвижно в середине озера. Раздумывая, куда же ему двинуться, путешественник замечает, что прекрасная лодочка начинает тихонько двигаться: медленно поворачивается носом к солнцу, – плывет не слышно, но с быстротою возрастающей, а легкие струйки воды, ударяясь о слоновую кость, кажется, порождают божественную мелодию, – единственную причину нежной и грустной музыки, происхождение которой изумленный путник тщетно старается об'яснитъ себе.







