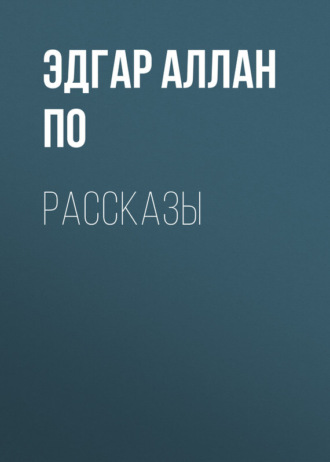
Эдгар Аллан По
Рассказы
ГЛАВА III
У меня тотчас мелькнула мысль, что это записка от Августа, что какой-нибудь непредвиденный случай помешал ему освободить меня из заточения и он придумал этот способ уведомить меня о положении дел. Дрожа от нетерпения, я вновь принялся отыскивать спички и свечи. Я смутно припоминал, что упрятал их очень тщательно перед тем, как улегся спать, и до своего путешествия к люку хорошо помнил, в каком месте положил их. Но теперь я тщетно старался припомнить это место и целый час провел в бесплодных поисках. Вряд ли когда-нибудь я испытывал такое адское беспокойство и нетерпение. Наконец, ощупывая всюду (и случайно высунув голову из ящика), я заметил какой-то странный свет. Изумленный, я попытался добраться до него, так как он находился неподалеку от меня. Но, сдвинувшись с места, я потерял из вида свет и, только приняв прежнюю позу, поймал его снова. Тогда я стал осторожно водить головой из стороны в сторону и вскоре убедился, что, двигаясь потихоньку в направлении, противоположном тому, которое я принял в первый раз, могу приблизиться к свету, не потеряв его из вида. Добравшись до него по извилистым, узким проходам, я убедился, что свет исходит от спичек, валявшихся на пустом опрокинутом бочонке. Я недоумевал, каким образом они попали сюда, когда рука моя нащупала два или три комка воска, очевидно, изжеванного собакой. Я тотчас догадался, что она сожрала весь мой запас свечей, и потерял всякую надежду прочесть письмо Августа. Незначительные остатки воска так перемешались с сором, что я не мог извлечь из них никакой пользы и бросил их без внимания. От спичек осталось всего две-три головки фосфора; я подобрал их и вернулся к ящику, где Тигр оставался все время.
Я не знал, что предпринять дальше. В трюме было так темно, что я не мог рассмотреть свою руку, даже когда подносил ее к самому лицу. Белый клочок бумаги был едва различим, и только когда я смотрел на него не прямо, а искоса. Можно судить по этому, как темно было в трюме. По-видимому, записке моего друга, если только это была его записка, суждено было окончательно истерзать мою и без того измученную душу. Тщетно я придумывал всевозможные способы раздобыть свет, способы один другого нелепее, какие могут прийти в голову разве курильщику опиума и кажутся ему то удивительно разумными, то никуда не годными, смотря по тому, рассудок или воображение берут верх. Наконец у меня мелькнула мысль, показавшаяся мне вполне рациональной, так что я только подивился, как не пришла она раньше. Я положил бумажку на переплет книги и натер ее кусочками фосфора, которые нашел в бочонке. Бумага немедленно засветилась ярким светом, и если бы на ней было написано что-нибудь, я, без сомнения, прочел бы без труда. Но ни единой буквы!.. Белая, гладкая бумага и больше ничего. Через несколько мгновений свет мало-помалу замер, и сердце мое замерло вместе с ним.
Я уже говорил, что перед этим мой ум был близок к состоянию полного помешательства. Были, конечно, минуты совершенной ясности и пробуждения энергии, но очень редко. Надо помнить, что я в течение многих дней дышал зачумленной атмосферой замкнутого трюма на китобойном судне при очень скудном запасе воды. В течение последних четырнадцати-пятнадцати часов я вовсе не пил и не спал. Соленое мясо было моей единственной пищей после порции баранины; правда, у меня имелись еще сухари, но они были так сухи и жестки, что положительно не шли в мою пересохшую и распухшую глотку. Я был в жару и, вероятно, не на шутку болен. Только этим и объясняйся, как мог я провести несколько часов в состоянии самого Жалкого отчаяния и лишь тогда сообразить, что следовало посмотреть и другую сторону бумажки. Не пытаюсь изобразить бешенство (так как гнев господствовал над всеми остальными чувствами), овладевшее мною, когда мысль об этой оплошности внезапно озарила меня. Само по себе упущение было бы нетрудно исправить, если бы не моя безумная, ребяческая выходка: увидев, что на бумаге ничего не написано, я разорвал ее на клочки и бросил их, так что теперь не мог найти.
Однако сообразительность Тигра помогла мне справиться с самой трудной частью задачи. Найдя после долгих поисков клочок бумаги, я поднес его к морде Тигра и старался дать ему понять, что он должен разыскать остальные. К моему изумлению (так как я никогда не обучал его разным штукам, которыми славятся его собратья), он, по-видимому, сразу понял, что мне нужно и, пошарив кругом, вскоре принес мне другой довольно большой клочок. Сделав это, он приостановился, тыкаясь носом в мою руку, как будто ожидая моего одобрения. Я погладил его по голове, и он снова отправился на поиски. Прошло несколько минут, пока он вернулся, – зато на этот раз принес мне третий и последний клочок бумаги, которую я разорвал только на три части. К счастью, мне не трудно было отыскать оставшиеся кусочки фосфора – по свету, который они испускали. Затруднения, которые я испытал, выучили меня осторожности, и я хорошенько подумал, прежде чем приступил к делу. По всей вероятности, что-нибудь было написано на той стороне бумаги, которую я не рассматривал, но где же эта сторона? Сложив куски вместе, я мог быть уверенным, что слова (если только они есть) окажутся все на одной стороне в той же связи, как были написаны, – но на какой именно стороне? Необходимо было выяснить это обстоятельство, потому что остатков фосфора не хватило бы на третью попытку, если бы вторая не удалась. Я разложил бумагу на переплете книги, как раньше, и в течение нескольких минут обдумывал, как приняться за дело. Наконец мне пришло в голову, что на исписанной стороне могут оказаться какие-нибудь неровности, которые можно заметить при тщательном ощупывании. Я немедленно приступил к делу и осторожно провел пальцем по бумаге, – ничего особенного не было заметно, тогда я перевернул бумажку, снова провел по ней пальцем и заметил слабый, чуть видный свет. Он мог исходить только от частичек фосфора, которым я натирал бумагу в первый раз. Стало быть, записка, если только она была, находилась на противоположной стороне. Я снова перевернул бумагу и повторил свой прежний опыт. Когда я натер ее фосфором, она засветилась ярким светом, и мне сразу бросились в глаза несколько строчек, написанных, по-видимому, красными чернилами. Но свет, хотя яркий, длился всего мгновение. Не будь я так взволнован, я успел бы прочесть все три фразы, – я ясно видел, что их было три. Но, торопясь прочесть все разом, я схватил только шесть последних слов: «Кровью, – сиди смирно, или ты пропал».
Если бы я прочел всю записку, понял весь смысл предостережения, полученного от моего друга, если бы это предостережение было связано с самым трагическим, самым ужасным происшествием, я наверно не испытал бы такого мучительного, неизъяснимого, ужаса, который возбудила во мне эта отрывочная фраза. «Кровь», – зловещее слово, всегда, во все времена связанное с тайной, страданием, ужасом, с каким утроенным значением оно явилось предо мной, как мрачно и глухо отдались его смутные слоги (не связанные с предыдущим и последующим содержанием письма и тем более загадочные) среди мрака моей темницы в глубочайших изгибах моей души!
Без сомнения, у Августа были основательные причины желать, чтобы я остался в своем убежище, я тщательно придумывал тысячи объяснений этому, – ни одно из них не давало удовлетворительного решения тайны. Вернувшись из своего путешествия к люку и еще не заметив странного поведения Тигра, я решился во что бы то ни стало дать знать о своем существовании экипажу или, если это не удастся, попробовать самому выбраться на палубу. Надежда на исполнение которого-нибудь из этих проектов давала мне силы переносить мое бедственное положение. Но вот несколько слов, прочтенных мною, разом убили эту надежду, и тут-то я в первый раз вполне почувствовал весь ужас моей горькой участи. В припадке отчаяния я снова кинулся на матрац и долго, не менее суток, валялся в забытьи, лишь изредка на минуту приходя в себя.
Наконец я стал размышлять о своем ужасном положении. Возможно я мог бы прожить еще сутки без воды, но протянуть Дольше было решительно невозможно. В первое время моего заключения я пользовался напитками, которые оставил мне Август, но они только возбуждали лихорадочное состояние, ничуть не утоляя жажды. Теперь у меня оставалось четверть пинты крепкой персиковой настойки, которой решительно не выносил мой желудок. Колбасы были съедены дочиста, от окорока остался только кусок кожи, а от сухарей только крошки – все остальное было съедено Тигром. В довершение всего голова моя болела все сильнее и сильнее, и бред почти не прекращался с той самой минуты, когда я заснул в первый раз. Я едва мог переводить дыхание, и всякий вздох сопровождался жестоким колотьем в груди. Но был у меня и еще источник беспокойства, и такого ужасного, что оно заставило меня очнуться от забытья. Причиной этого беспокойства было странное поведение собаки.
Я заметил перемену в ее поведении, когда в последний раз натирал фосфором записку. В это время Тигр с глухим ворчаньем ткнулся мордой в мою руку, но я был так возбужден, что не обратил внимания на это обстоятельство. Вскоре потом я бросился на матрац и впал в состояние, близкое к летаргии. Внезапно я услышал какое-то хрипение над самым моим ухом и, очнувшись, убедился, что это Тигр; он задыхался и хрипел, по-видимому, в страшном возбуждении, а глаза его светились диким огнем во мраке трюма. Я окликнул его, он отвечал глухим ворчанием, затем успокоился. Я снова впал в забытье и снова очнулся при таких же обстоятельствах. Это повторялось три или четыре раза, пока наконец поведение Тигра не внушило мне такой страх, что я окончательно пришел в себя. Теперь он лежал у входа в ящик, и, глухо рыча, скрежетал зубами. Я не сомневался, что вследствие спертой атмосферы или недостатка воды он взбесился, и решительно не знал, что мне предпринять. У меня не хватало духа убить его, а между тем это было необходимо для моего спасения. Я ясно видел его глаза, устремленные на меня с выражением лютой злобы, и с минуты на минуту ожидал нападения. Наконец я не мог более выносить этого положения и решил во что бы то ни стало выйти из ящика и, если это окажется необходимым, убить собаку. Но, чтобы выбраться из ящика, надо было перелезть через Тигра, а он, по-видимому, решился предупредить меня, поднялся на передние лапы (я угадал это по изменившемуся положению его глаз) и оскалил свои белые зубы, блестевшие в темноте. Я взял остатки кожи от окорока, бутылку с водкой и большой кухонный нож, оставленный мне Августом, затем, закутавшись как можно плотнее в плащ, двинулся к выходу из ящика. Лишь только я пошевелился, собака с громким рычанием кинулась на меня. Она ударилась всей тяжестью своего тела о мое правое плечо, и я упал влево, в то время как бешеное животное перескочило через меня. Я упал на колени, запутавшись головой в одеялах, это спасло меня от вторичного нападения: я чувствовал, как острые зубы вонзились в шерстяное одеяло, окутывавшее мою шею, но, к счастью, не прокусили его насквозь. Я, однако, находился под животным и через несколько мгновений должен был очутиться в его власти. Отчаяние придало мне силы: я приподнялся, отбросил от себя собаку, накинул на нее одеяло и матрац, и прежде чем она выпуталась из них, выскочил из ящика и задвинул отверстие. Во время этой борьбы я выпустил из рук остатки ветчины, так что теперь все мои съестные припасы ограничивались несколькими глотками водки. Когда я заметил это, мной овладел один из тех припадков своенравия, которые свойственны избалованным детям: приставив бутылку к губам, я залпом осушил ее и затем с бешенством швырнул об пол.
Не успело замереть эхо этого удара, как я услышал свое имя, произнесенное торопливым шепотом. Это было так неожиданно, а мое волнение было так велико, что я не мог вымолвить слова. Язык совершенно отнялся у меня, и я стоял между тюками в смертном страхе, что друг мой, не слыша ответа, сочтет меня умершим и вернется на палубу. Стоял, судорожно дрожа всеми членами, задыхаясь в бесплодных усилиях произнести хоть слово. Если бы тысячи миров зависели от одного слога, я не мог бы произнести его. Послышался слабый шорох среди клади в направлении каюты. Шорох становился слабее, слабее, слабее. Забуду ли когда-нибудь мои чувства в эту минуту? Он уходил – мой друг, мой товарищ, от которого я ожидал так много, он уходил, покидал меня, уходил! Он оставлял меня на жалкую смерть в отвратительной и ужасной темнице, а между тем одно слово, один звук могли бы спасти меня, но я не мог выговорить этого слова! Конечно, я испытывал агонию, которая в тысячу раз сильнее самой смерти. Голова моя закружилась, и я упал на ящик.
При этом кухонный нож выскользнул из-за моего пояса и со звоном упал на пол. Никогда никакая музыка не раздавалась так сладко в моих ушах! Я вслушивался с замирающим сердцем, какое действие произведет этот шум на Августа, так как никто кроме Августа не мог окликнуть меня по имени. В течение нескольких мгновений все было тихо. Наконец я снова услышал имя Артур, произнесенное тихим и нерешительным голосом. Возродившаяся надежда развязала мой язык, и я заорал во всю глотку:
– Август! Август!
– Тише, ради Бога молчи! – отвечал он дрожащим от волнения голосом, – я сейчас проберусь к тебе.
Долго я прислушивался, как он пробирался среди груза, и каждая минута казалась мне веком. Наконец я почувствовал его руку на плече, и в ту же минуту он поднес бутылку с водой к моим губам. Только тот, кому случалось быть вырванным из когтей смерти или испытать нестерпимые муки жажды при таких же ужасных обстоятельствах, только тот способен понять невыразимое блаженство высочайшего из физических наслаждений.
Когда я несколько утолил жажду, Август вынул из кармана три или четыре вареных картофелины, которые я с жадностью проглотил. С ним был потайной фонарик, и отрадный свет доставил мне почти столько же наслаждения, как пища и питье. Но я сгорал от нетерпения узнать причину его продолжительного отсутствия, и он приступил к рассказу о том, что случилось на корабле со времени отплытия.
ГЛАВА IV
Как я и предполагал, бриг снялся с якоря час спустя после того, как Август оставил мне свои часы. Это было двадцатого июня. Если помните, я в то время уже третьи сутки сидел в трюме и в течение всего этого времени на бриге стояла такая толчея и беготня, особенно в каютах, что друг мой ни разу не мог заглянуть ко мне, не рискуя выдать тайну. Когда наконец он явился ко мне, я уверил его, что чувствую себя как нельзя лучше, и течение двух следующих дней он не особенно беспокоился обо мне, хотя все-таки поджидал случая спуститься в трюм. Случай представился только на четвертый день после отплытия. Не раз в течение этого периода его подмывало открыть тайну отцу и выпустить меня, но мы все еще находились в виду Нантукета, и по некоторым замечаниям капитана Барнарда можно было предположить, что он вернется, если узнает о моем присутствии. Кроме того, Август не мог себе представить, чтобы я в чем-нибудь нуждался или в случае надобности не вылез бы сам. Итак, он решил оставить меня в покое, пока не представится случай навестить меня незамеченным. Как я уже сказал, случай представился на четвертый день после отплытия или на седьмой, считая с того момента, когда я спрятался в трюме. Он спустился ко мне, не захватив с собой ни воды, ни провизии, намереваясь вызвать меня к люку и затем уже подать мне из каюты все, что понадобится. Спустившись, он убедился, что я сплю; по-видимому, я храпел очень громко. Это был тот самый сон, что овладел мною тотчас по возвращении моем от люка с часами и который, следовательно, длился три дня и три ночи. Недавно я имел случай убедиться по собственному опыту и свидетельству других в усыпляющем действии запаха старого рыбьего жира в замкнутом помещении; и когда я подумаю о тесном трюме и о долгом времени, в течение которого наш корабль служил китобойным судном, то удивляюсь скорее тому, что проснулся наконец, чем продолжительности своего сна.
Сначала Август окликнул меня вполголоса, не опуская люка, но я не отвечал. Тогда он опустил люк и крикнул громче, потом очень громко, я продолжал храпеть. Он не знал, что делать. Чтобы пробраться между кладью к моему ящику, требовалось немало времени, и капитан Барнард мог заметить его отсутствие, так как Август помогал ему вести и приводить в порядок бумаги, касающиеся цели плавания, и мог понадобиться каждую минуту. Итак, подумав немного, он решил вернуться в каюту и дождаться другого случая. В этом решении поддерживало его, то обстоятельство, что я, по-видимому, спал самым спокойным сном, значит, не испытывал никаких особенных неудобств. Пока он раздумывал обо всем этом, внимание его привлечено было каким-то странным шумом, раздавшимся, по-видимому, в капитанской каюте. Он поспешно выскочил из трюма, захлопнул люк и отворил дверь своей каюты. Не успел он перешагнуть через порог, как выстрел из пистолета опалил ему лицо и удар гандшпугом сбил с ног.
Чья-то сильная рука схватила Августа за горло; и все-таки он мог видеть, что делается вокруг. Отец его, связанный по рукам и по ногам, лежал на ступеньках лестницы ничком, с глубокой раной на лбу, из которой кровь струилась ручьем. Он ничего не говорил и, по-видимому, находился при последнем издыхании. Помощник, наклонившись над ним с дьявольской улыбкой, обыскивал его карманы, из которых вытащил в эту минуту толстый бумажник и хронометр. Семь человек из экипажа (в том числе повар-негр) обыскивали каюты на правой стороне, где было сложено оружие, и вскоре появились оттуда с ружьями и порохом. Всего, кроме Августа и капитана Барнарда, в каюте находилось девять человек самых отъявленных бездельников на судне. Негодяи поднялись на палубу, куда потащили и моего друга, связав ему руки за спиной. Тут они подошли к баку, в то время запертому; двое стали у дверей с топорами, двое у главного люка. Помощник громко крикнул:
– Эй вы, внизу! Вылезайте наверх поодиночке и без разговоров!
Прошло несколько минут; наконец один англичанин, юнга выполз с горькими слезами, униженно умоляя о пощаде. Ответом ему был удар по лбу. Бедняга грохнулся на палубу не пикнув, а черный повар поднял его на руки, как ребенка, и выбросил в море. Услышав падение тела и всплеск воды, находившиеся внизу наотрез отказались выйти на палубу, и ни угрозы, ни обещания не могли выманить их, пока кто-то не предложил выкурить несогласных. Тогда они разом кинулись наверх, и была минута, когда могло показаться, что победа останется за ними. Однако бунтовщики успели затворить бак, когда выскочили всего шесть человек. Эти шестеро, видя, что численный перевес на стороне бунтовщиков, и будучи к тому же безоружными, сдались после непродолжительной борьбы. Помощник успокаивал их ласковыми словами – без сомнения, для того, чтобы обмануть оставшихся внизу, так как они могли слышать каждое его слово. Результат доказал его сообразительность так же, как его дьявольскую гнусность. Оставшиеся внизу согласились сдаться и вылезли поодиночке на палубу, где их связали и бросили рядом с первыми шестью – всего не участвовавших в бунте оказалось двадцать семь человек.
Затем последовала ужасная бойня. Связанных матросов перетащили к трапу. Здесь повар убивал их ударами топора по голове, а остальные мятежники тотчас выбрасывали жертву за борт. Таким образом были убиты двадцать два человека, и Август считал себя погибшим, с минуты на минуту ожидая своей гибели. Наконец, однако, злодеи устали от своей кровавой работы, бросили четырех оставшихся, в числе которых оказался и Август, достали водку, и началась попойка, длившаяся до самой ночи. Во время пирушки они обсуждали, что делать с оставшимися в живых пленниками, которые лежали в четырех шагах и могли слышать каждое слово. По-видимому, водка оказала смягчающее действие на некоторых бунтовщиков, потому что раздались голоса, советовавшие пощадить пленников с условием присоединиться к бунту и разделить добычу. Но черный повар (во всех отношениях сущий черт, пользовавшийся таким же, если не большим влиянием, как сам помощник капитана) не хотел ничего слушать и несколько раз вставал, намереваясь продолжить бойню. К счастью, он был так пьян, что менее кровожадные без труда могли удержать его. В числе последних оказался некто Дэрк Петерс, лотовой. Этот человек был сын индеанки из племени упсарокас близ Скалистых гор у верховьев Миссури. Отец его, кажется, торговал звериными шкурами, во всяком случае имел сношения с торговыми стоянками индейцев на реке Льюис. Сам Петерс был человек необычайно свирепого вида. Небольшого роста, не более четырех футов восьми дюймов, он, однако, обладал геркулесовским сложением. В особенности кисти рук его поражали своей чудовищной величиной, напоминая скорее звериные лапы. При этом руки и ноги были искривлены самым странным образом и, казалось, вовсе лишены способности сгибаться. Голова у него тоже была пребезобразная – огромная, заостренная кверху и совершенно лысая. Чтобы скрыть этот последний недостаток, вовсе не зависевший от возраста, он носил парик из первой попавшейся шкуры, например из шкуры испанского дога или американского серого медведя. В то время, о котором я говорю, у него был парик из медвежьей шкуры, придававший еще больше свирепости его лицу, сохранившему племенные черты упсарокас. Рот у него доходил почти до ушей; тонкие губы, как и остальные черты, отличались неподвижностью, так что выражение его лица оставалось неизменным при самом сильном возбуждении. Чтобы иметь понятие об этом выражении, представьте себе необычайно длинные выдающиеся зубы, никогда не прикрывавшиеся губами. С первого взгляда можно было подумать, что он смеется, но, вглядываясь пристальнее, вы с ужасом убеждались, что если это выражение веселья, то, веселья дьявольского. Много россказней ходило об этом человеке среди нантукетских моряков. Россказни эти посвящены были главным образом его чудовищной силе, особенно в минуты возбуждения, а некоторые из них заставляли сомневаться в его рассудке. На «Грампусе», однако, к нему относились, по-видимому, с пренебрежением. Я распространяюсь о Дэрке Петерсе, потому что, несмотря на свою свирепую наружность, он сделался главным спасителем Августа, а также потому, что мне не раз придется упоминать о нем в дальнейшем рассказе. Рассказе, последняя часть которого, замечу мимоходом, говорит о происшествиях, настолько выходящих за пределы человеческого опыта и, следовательно, человеческой доверчивости, что у меня нет ни малейшей надежды снискать доверие публики. Я надеюсь, однако, что время и успехи науки подтвердят мои как важнейшие так и невероятнейшие открытия.
После долгих колебаний и бурных споров решено было посадить пленников (за исключением Августа, которого Петерс желал во что бы то ни стало сохранить в качестве конторщика, как он выражался) в маленький вельбот и пустить на произвол судьбы. Помощник капитана отправился в каюту посмотреть, жив ли еще капитан Барнард, который, если припомнит читатель, был брошен внизу, когда бунтовщики отправились наверх. Минуту спустя оба вернулись на палубу, капитан, бледный, как смерть, но несколько оправившийся от раны. Он обратился к матросам, уговаривая их едва внятным голосом не бросать его на произвол судьбы, а вернуться к исполнению своих обязанностей и обещая высадить их, где они захотят, и не преследовать судом. Но с таким же успехом он мог бы говорить ветрам. Два негодяя схватили его за руки и бросили за борт в лодку, которая уже была спущена на воду. Четверым пленникам развязали руки и велели следовать за капитаном, что они и исполнили без разговоров, только Август остался на палубе связанным, хотя бился и молил позволить ему проститься с отцом. Затем спустили в лодку мешок сухарей и кувшин с водой, но ни мачты, ни паруса, ни весла, ни компаса. В течение нескольких минут лодку тащили на буксире, потом, посоветовавшись еще раз, бунтовщики обрезали веревку. Наступила ночь – темная, безлунная и беззвездная ночь, море глухо шумело и волновалось, хотя сильного ветра не было. Лодка моментально скрылась из виду с несчастными пловцами, которым, конечно, нечего было рассчитывать на спасение. Впрочем, это происходило под 35®30' северной широты и 61®20' западной долготы, следовательно, поблизости от Бермудских островов. Ввиду этого Август старался утешить себя мыслью, что лодке, быть может, удастся достигнуть берега или наткнуться на какой-нибудь корабль.
На бриге подняли все паруса и продолжали путь к юго-западу; кажется, бунтовщики задумали какую-то разбойничью экспедицию. Насколько можно было понять, дело шло о захвате корабля, шедшего с островов Зеленого Мыса в Пуэрто-Рико. На Августа не обращали никакого внимания; он был развязан и мог свободно ходить всюду, кроме кают. Тем не менее положение его оставалось очень шатким; матросы постоянно были пьяны, и он не мог рассчитывать на их добродушие или беззаботность. Но пуще всего терзало его беспокойство обо мне, – так он говорил мне, и я верю этому, потому что никогда не имел повода сомневаться в искренности его дружбы. Не раз он решался сообщить бунтовщикам о моем пребывании на корабле, но его удерживало воспоминание об их жестокости и надежда подать мне помощь при первом удобном случае. Однако несмотря на то, что он все время был настороже, случая не представлялось в течение трех дней. Наконец однажды ночью поднялся сильный ветер с востока, так что все матросы принялись убирать паруса. Воспользовавшись этой суматохой, он незаметно проскользнул в свою каюту. Каково же было его огорчение и ужас, когда он убедился, что каюта превращена в складочное место для разных запасов, а на люке лежит громадная якорная цепь, которую перетащили сюда из рубки! Отодвинуть ее значило бы выдать тайну, и потому он поспешил вернуться наверх. Лишь только он показался на палубе, помощник капитана схватил его за горло, спрашивая, зачем он таскался в каюту, и хотел уже бросить его за борт, но тут вступился Дэрк Петерс и еще раз спас ему жизнь. На этот раз Августу надели на руки колодки (на корабле было несколько пар), связали ноги, стащили его в переднюю каюту и бросили на койку, сказав, что он не выйдет на палубу, «пока бриг не перестанет быть бригом». Так выразился повар, бросивший его на койку. Трудно понять, что он хотел сказать этой фразой. Но происшествие в конце концов привело к моему избавлению, как сейчас увидит читатель.







