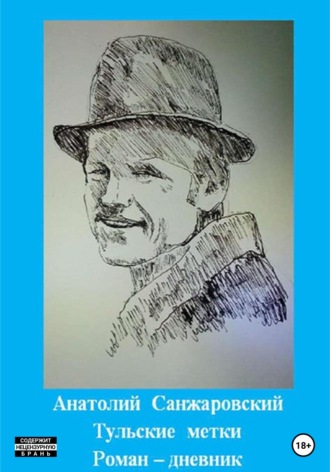
Анатолий Никифорович Санжаровский
Тульские метки
7 июня
Последний экзамен
Неделю отзанимался я у мамушки в Нижнедевицке.
И вот снова Ростов. Завтра последний госэкзамен. По печати. Лечу в «Южную», 424 номер. Тут всё наше кодло.
Синицын держит билеты, подписанные деканом Бояновичем.
Готовятся субчики-бульончики.
Микора:
– По этому вопросу всё прекрасно написано между строк в моей программе. Теорию знаю, а что относительно газетного дела – ни в зуб бутылкой! Пойду сдавать вслед за практиком.
– А я, – говорит Полябин, – пойду сдавать самый последний. Когда останется один-два билета. Уж это-то я буду знать.
Я сдал на четвёрку.
Выхожу из кабинета.
Под дверью суёт мне руку Каменский:
– Поздравляю тебя с высшим!
– И я тебя с тем же!
9 июня
Гульбарий
Весь день буянил несусветный дождяра. Будто старался смыть все наши грехи, что накопились за шесть лет учёбы.
К вечеру ливень утихомирился, и все принаряженные шестьдесят выпускников чинно пришли в ресторан «Театральный».
Длинный Г-образный стол.
Наш угол ворчит. Мало-де коньяка, водки, шампанского.
Методист Нина Фотиевна:
– Хочу пить и целоваться!
Подлетает Летников:
– Ниночка!
Они пьют на брудершафт и целуются.
Препод Лебедев неприкаянно бродит меж рядами, бухтит всем на ухо: «За родную землю! За родной народ!» – и, чокаясь, пьёт со всеми.
Я подошёл к Каменскому. Он уже хорош!
Хвастается:
– Умкнул со стола винтарь[70] водки, бутылку коньяка и две шампанского. Научился на юбилее «Сельской жизни». Держу свой армянский бронепоезд[71] у себя под стулом. Пить буду с избранными. И начну с тебя…
Староста Милованов уводит меня в соседнюю комнату. По его цэушке я пишу благодарность официанткам. Тем временем Милованов берёт пошлину натурой: гладит пухлявую молоденькую официанточку по спине. Она рада. Милованов тоже не в горе.
Около полуночи выкатились на улицу.
Тепло, сыро.
Решено всем базаром с песнями идти на Дон.
А Каменского повело на гасиловку[72] с милицией. Ну, чего просили, то и уважили. Кое-кому перепало резиновой дубинкой по ушам.
Мы с Сашей Лужецкой потихоньку откололись от коллектива и отчалили в парк.
– Меня, – говорила Саша, – по очереди спаивали Тихонов и Ружин. Что они наделали? Я совсем пьяная. Но почему я оказалась с тобой? Вот интересно… Я не понимаю… Почему ты такой горячий?
Я ткнул указательным пальцем в небо:
– Это вопрос к Богу!
10 июня
Сухая рыба горюет в кармане
В последний раз собираемся сегодня всем курсом.
На вручение дипломов.
Вот явился не упылился Николашка Удод.
– Это что за авария? – тычу я пальцем на две бордовые полосы у него на щеке.
– А-а… Автограф вчерашней вломинадзе[73] после разгуляя. Не обращай внимания… На спине ещё покруче. Вся исполосована. Ты ж откололся… А мы всем генералитетом рулим к Дону. Вдруг на аллее на нашем пути возникают три фараона. Наш Гончаров приказно орёт: «Убирайсь! Вы портите весь пейзаж!» Назаров ещё куражистее: «Во-она отсюда, полиция!!!» Его хоп за шкирку и потащили в хмелеуборочную.[74] Я не растерялся и бац козлогвардейца[75] в ухо. А он – дубинкой. И пошло-поехало. Тут наши человек сорок подоспели. Ментозавры в воронок да дёру… Крепко я выручил Пашку Назарова. А то б горяченьких суток пятнадцать себе испёк…
– Мда… И сказать нечего.
В сторонке грустно светит улыбкой кэнязь Юсупов.
– Ну что, Серёжа? – подаю ему руку.
– Да что, старичок… Кошки в душе… Сухая рыба горюет в кармане, запить нечем. После вручения организуем…
Университетский клуб.
В тринадцать началось вручение.
– Поздравляю всех вас! – сказал проректор Павел Константинович Кужеев. – Сколько ж вы попортили нам и себе нервов и здоровья… Трудно заочникам. Кончают университет лишь 58 процентов. Скажем спасибо преподавателям. Тут два титана: преподаватели и вы. Что же вам пожелать? Всего лучшего. Чтобы не останавливались. Росли. Расширяли свои знания. Всяческих успехов! Здоровья!
За столом рядом с Кужеевым Людмила Павловна, секретарь с бухгалтерской книгой. Сначала расписывается ди пломник в этой книге. Потом методист Нина Фотиевна передаёт диплом и значок Кужееву. Кужеев вручает и поздравляет.
Лица…
Лица…
Лица…
Вручив последний диплом, Павел Константинович с улыбкой спрашивает:
– Какие будут к нам претензии?
Все хором:
– Больше нет!
Ребята обмениваются адресами.
Охи, вздохи, расставанья…
В голосах скулят рыданья…
Пробита тропинка в университет
– Ну-ка, похвались, братове, на что ты кинул шесть лет цветка жизни молодой! – шумнул Григорий, едва переступил я гнилой порожек нашей убогой засыпушки.
Гриша с почтением принял от меня и диплом, и значок. Уважительно рассматривает, восхищённо цокает языком:
– Ну, Толик, ты первый в нашем роду окончил университет.
Пробил для нас тропинку. Мы с братцем Митюшкой тоже по ней побежим. Спасибо тебе! Первопроходцам всегда трудно…
Митя хмыкнул:
– Да с тебя, брате, причитается!
Сквозь набежавшие слёзы заговорила мама:
– Спасибо тоби, сынок… Подай Бог счастья… Покы я довольна, шо не пошли куда здря… Хоть оно без отца возростали… Жили в Насакиралях… Совхоз-колония… Не приходилось краснеть. На родительском собрании завуч Сергей Данилович Косаховский як казав? «Берите пример с Санжаровских. Работать они первые, учиться – тоже. Хоть живут в бедности, но умнее этих трёх ребят у нас нет. А вот у сынков Талаквадзе своя машина, а учиться не хотят…». Спасибо, сыночки… А шо пережили… Вспомнить страшно. В войну я получала пятьсот граммив кукурузного хлеба. На пятерёх! Начальник грузин мне долбил: «Пускай твоя старша син Дмитрэ идёт да работай рядом с тобой на чай, и ви будете получать эщё триста грамм хлэба». Не польстилась я на те триста граммив кукурузной глины. Митьке було тилько десять годив. Куда срывать его с учёбы на чай?.. Катюха Комиссарова стебала мне всё по глазам: «Дура ты, Полька! Жить не можешь! Зачем ты их учишь? Я своим четырём чертякам сказала: работайте! И работают!» А сама бутылку да кусок сала в узелок и бегом к полюбовнику. Советовали мне ссыпать вас всех в суворовское училище. Не сдалась… Как ни трудно, а никого не отсадила от учёбы… Как могла, тянула из последних жил. И зовсим не здря…
После ужина Гриша убежал в клуб на концерт ансамбля «Тамбовские зори».
Мы с мамой остались одни. Сидели на её койке у печи и вспоминали прошлую жизнь-беду…
– Помню, – говорила мама, – февраль сорок второго. Растаял снег. Я с Гришей – ему було семь годов – в горном селении выменяла на батькив кустюм да на свою юбку проса, пшеницы, луку. Бредём с клунками назад. Уже ночь, луна. Речка. Кинуты с берега на берег два бревна. Из-под кладки вырынает вода буруном. Я боюсь переходить. Положили мы на бережку клунки, гадаем, шо робыты. Я кажу: «Гриша! Мы ж утонем, и наши клунки сиротами зостанутся одни на берегу. Жалко…» – «Я ничего не боюсь!» Он перебежал по кладке, оставил там своё зерно. Дважды возвертался ко мне. Перенёс обе мои сумки. Потом взял меня крепко за руку и повёл бочком через кладку. Закрыла я глаза, дрожу, как бы бандюга страх не пихнул меня в ревучую воду. А Бог смиловал. Перешли! Там радости було! Теперь мы сёгодни подкормим своих. Бабка дала нам чурека, сыру… А то… Тебя со всей детсадовской площадкой лагерем посылали летом в горное местечко Бахмаро. Вернулся… Я тебя не узнаю. Спрашую: «Ты шо такый худый? Иля вас тамочки не кормили?» – «Кормили, да мало. Зелёную алычу ели. Да вы сами приезжали два раза, привозили чёрный хлеб и мундирные картохи. Вечером укладывают спать. Воспитатели приказывают: «Закрывайте глаза. Вот так! Вот так! – И сами сильно жмурятся. – А кто не заснёт, того волки унесут в лес и скушают! Вот так делаешь, делаешь, как учили воспиталки, а глаза не спят!»
Оказывается, и в детстве мы были работящие хлопцы. Меня во втором классе как отличники посылали в детский лагерь на целый месяц куда-то под Тифлис. Митюшка в четвёртом классе за отличную учёбу получил вместе с Васюхой Мамонтовым по отрезу синей ткани на костюмчик.
Мама подхваливала нас:
– Учитесь увсегда хорошо. Будут тогда вас все уважать, как агронома Илюшу. Он ездит по плантациям на коняке, а все ходят пеше. Какая цена вон грамотному человеку!
Сколько себя помню, мы ещё маленькими всегда помогали маме. Я вечерами загонял козлят, уток, кур. Гриша растапливал печку, чистил картошку. Митька таскал от криницы воду.
– Мам! Вы совсем не рассказываете об отце. Какой он был? Как Вы с ним совстретились?
– Ох, сынок, цэ дужэ горькая песня…Зараз ты вжэ в годах… Поймэшь… Був у мене парубок в нашем хуторке Собацком. Сосед. Серёга Махонин. Сбиралась за него… Да… Пойшла як-то к тётке в соседнее село Новая Криуша, там и встрела Никифора. Он на новой неделе приехал на бричке к нашим соседям Махониным. Через них вызвал меня и спрашуе: «Поля! Ты не против, если я пришлю сватов?» Я отмолчалась. Не посмела при Серёге отвечать. За Никифора меня и просватали. А я була против. Хотелось к Махонину. Тогда батько сказав: «Пидэшь тико за Никифора. Там у его батькив домяка якый! Панский! Сады, быки, коровы! Живуть широко. Не пидэшь за Никифора – убью! А за Махонина чего сдуряку и цеплятысь? Повна гнила хатынка комсомольцив-лодыряк и у всех голые задницы. Чего нищебродов плодить?» Мама моя потянула мою руку: «Махонины с нами соседи. А ездить к Никише у гости дужэ далэко…» – Батько и отхлестни: «Выездную царскую карету тебе подавать будуть!» На том всё и примёрло.
– И как Вы прожили с Никифором?
– А негромко. Парубок он був работящий, аккуратный. Очень любил меня, всех вас. И я притихла, сама потянулась к нему… Воевал на Кавказе. Под ним коня насмерть убило в грудь. А вскоре не стало и Никиши…
14 июня
Крутилка
В «Молодом коммунаре» я гегемонил отделом сельской молодёжи «Колос».
Под моей рукой был лишь один литраб.
Да и тот Николай Крутилин. Гонористый, занозистый.
Редактор Волков частенько выпевал мне:
– Толя! Гоните из отдела этого Крутилку. Ручку ж человек в руках держать не может! Зачем он нам? Накрутит статью – вешайся с тоски!.. Да ещё не чист на руку. За гонорарные махинации я хотел его уволить. Да пожалел. А зря! А сейчас говорю открытым текстом. Го-ни-те!
– Жалко… Бывший детдомовец… Двое детей… Кормить хоть через раз надо…
– А у нас что? Собес или редакция? У человека семь классов… Не понимаю, зачем вы переписываете его классику? Почему вы на него пашете, как папка Карло? Возьмите к себе Женю Воскресенского. Или Лёню Балюбаша. Асы! А Крутишку не всякая и районка подберёт. Гоните! За вашу доброту он вам подвалит окаянную подляночку. Вспомните ещё меня!
Я пожимал плечами и молча уходил.
И вот я уехал в Ростов, в университет, где заочно учился на факультете журналистики.
Уехал защищать диплом.
Приезжаю и сразу с вокзала в редакцию.
Час ранний.
Можно было отвезти вещи домой.
Но ехать мимо редакции и не зайти?
Во всей редакции хлопочут лишь уборщица бабушка Нина, да настукивает в машбюро старая девулька Аля. Дома холодные стены кусаются. Бежит в редакцию чуть свет.
– А у нас новостей полный мешок! – торопливо докладывает Аля, едва увидев меня на пороге. – Зося-то наша!.. Задурила Зосенька с Шингарёвым! Несчастная! Как она с ним спит!?
– Наверно, закрыв глазки.
– Ага! У этого усатого бугая поспишь! Он же старый как чёрт! Толстый! Седой! Громадный, как шкаф! Ему все пятьдесят два! А ей двадцать! Ровесница его сына! Ну Зося! Ни стыда ни совести. Ничего не боится. Какая смелая!
– Что вы так убиваетесь? Будто вам предстоит оказаться на месте этой сладкой пышечки Зоси. Ночью в кровати все молодые и красивые!
– Я бы, тютька, всё равно не смогла б.
– Потому-то вы и сидите за машинкой тут почти безвылазно. А Зося молодец. Не промахнулась. Сергей Исидорович – сурьёзный товарисч. Солидный, внушительный. С уважением относился ко всем в редакции. Большой военный чин. Полковник. Вышел в отставку. Самого Гагарина учил летать! Такие на глупости не распшикиваются. У нас был комиссаром отряда «Искатель».
– Так вот дал Шингарь тягу. Позавчера приходил, забрал трудовую. Потом говорит: «Дайте и книжку Аиста». Это он так Зосю величает. Зося раньше прислала заявление по почте. Стыдно глазки показать. Ну надо! Прихватизировала слона! Отбыла скандальная парочка на житие в столицу. С квартирой Шингарю помог сам Гагарин.
– Подумать… Самого Гагарина учил летать! Какие птицы залетают к нам в «Молодой»! Я думаю, у Зоси с Сидорычем всё вырулится на добрый лад… Сильно не преживай за них. Ладно… Хватит о них. Как тут все наши? Неугомонный герр Палкинд всё бесшабашно штурмует редакцию вагонами своей пустозвонной, кошматерной стихомути?.. Что наш красавей Вова Кузнецов напечатал в моё отсутствие? Золотое перо! А разменивается на газетную ламбаду. Как жалко… За серьёзную прозу надо садиться парню!..
Тут, горбясь, глаза в пол, прошила к себе в дальний угловой кабинет Северухина. Я к ней в кабинет.
– Ну, как вам жилось месяц без меня, товарисч заместитель редактора? – спрашиваю.
– По-всякому, Толя… Наверно, меня здесь скоро не будет.
– А с чего такой пирожок?
– Тут надо мной такое… Тульские умельцы… Третьего дня прибегаю утром и с ходу падаю в кресло читать ботву[76] в номер. По старой привычке, не отрываясь от рукописи, наливаю из графина попить, подношу стакан ко рту и тут мне шибанул в нос специфический запах… Оха, тульские умеляки… И блоху подкуют, и цыганский долг мне в графин отдадут… Как чисто эти тульские умельцы всё сляпали… Горлышко у графина такое узкое… Как смогли?.. Нипочём не пойму… Даже сразу и не заметишь…
– Да что ж таковецкое свертелось?
– Мне, Толя, говоря открытым текстом, в графин, пардон, напи́сали и накакали тульские мастеровиты. Только и всего. И под графин подпихнули красочную открытку с застольным весёлым призывом: «Пей до дна! Вся годна!.. Пей до дна! Вся годна!.. Пей до дна! Вся годна!..»
– Мда-с… Кому-то вы сильно пересолили. Кого подозреваете?
– Только не тебя. – Она тоскливо усмехнулась. – У тебя алиби. Будь спокоен. Ты не мог из Ростова приехать на такое громкое мероприятие. Да что выяснять… Уеду я к себе в Нижний… Хватит обо мне. Давай о деле. Защитился?
– На отлично.
– Хвались!
Я подал ей развёрнутый диплом.
Она рассматривает его, восхищённо цокает языком:
– Я, дурка подкидная, мечтала о журфаке, да сдуло в педик, в этот чумной, – она кисло поморщилась, – анстятут благородных неваляшек… А ты, ей-богу, молодчук! Журналиссимус! Другого не могло и быть. При твоих способностях да теперь и при дипломе журналиста ты можешь быть востребован в высших кругах области. Мы это будто предчувствовали и подготовили тебе достойную смену. Беда нас врасплох не накроет. У нас уже готов завотделом сельской молодёжи.
– Послушайте! Я что-то не пойму. Вы тут меня без меня женили? Куда вы меня сватаете? Про какую смену ваша высокая песнь песней?
– Про Колю Крутилкина. Пока ты месяц блистал отсутствием, Николенька вырос на пять голов! И тут у нас сложилось такое мнение, что ты его, извини, затирал. Не давал ходу… Как я где-то вычитала, «кто не может дать сдачи, с тем рассчитываются сполна». Похоже, рассчитывался ты с ним круто…
– Да, да! Именно я затирал, именно я не давал ходу его бодягам, доводил до газетных кондиций его галимэ.[77] Рубите прямо!
– За этот месяц Крутилкин по строчкам выкрутился в асы! А при тебе он постоянно плёлся в отстающих. Часто за месяц не набирал шестисот строк и платил пятирублёвые штрафы. А тут… За всю свою работу в «Молодом» выбился в геройки! Как тебе это? То всю жизнь стриг концы. А тут – первый! У него открылся великий дар организатора авторских выступлений!
– Так, так! И кто эти авторы? Сиськодёрки,[78] свинарки, механизаторы, пастухи?..
– Конечно, публика не от сохи, – замялась в ухмелке Северухина. – Но всё же…
У неё на краю стола лежала подшивка.
Я пролистнул несколько последних номеров газеты.
– Мне всё ясно. Пока я вам ничего не скажу. Ключик от этого ларчика у меня. Встретимся после обеда. Дядька я добрый. Но если кто наступит мне на хвост – останется без головы!
– Толь! – залисила она. – Ты только не наезжай на него круто. Я как понимаю?.. Зачем шуметь? Надо съезжать с горы тихо. На тормозах…
– А вот это, уважаемая Галина Александровна, дело вкуса. И у каждого свой вкус!
– Конечно, конечно… «О вкусах не спорят: кто-то ест ближнего, кто-то дальнего»…
В областной библиотеке я накинулся внимательно просматривать подшивки районок.
И моё предположение подтвердилось.
Местные журналисты, напечатав свои материалы у себя в районной газете, стали по просьбе Крутилкина засылать их к нам в «Молодой». Одну и ту же статью человек прокручивал дважды. Это уже не дело. А главное – каково после районки печатать материал в областной газете?
Удар по престижу нашей газеты наносился невероятный.
Когда про всё это я рассказал Волкову, он позеленел:
– Вот вы, Толя, и дождались сладкого гостинчика от дорогуши Колянчика! Я предчувствовал… Ну-ка все вместе уши развесьте! Завтра же – собрание! Чтоб были все! Кину я Крутилке железного пенделя под зад! По статье шугану из редакции!
На собрание Крутилкин не пришёл.
Заявление об уходе передал через Северухину.
23 июня
Нафига генсеку чирик?
Бёздник[79] согнал полредакции в дупло Колюни Кириллова.
Мне не хотелось идти, да любопытство таки притащило. Всё ж занятно понаблюдать за падением Коляшки.
Был парень как парень. Великий борец за справедливость!
Был я с ним в добрых отношениях. Я и моё окружение не давали его в обиду. Когда он захлёбывался навозной жижей, мы за бороду вытаскивали его из этой жижи. Когда его рвали на куски, мы склеивали эти куски и вдыхали в них жизнь. Защищали насмерть! Удержали на работе, с мясом вырвали ему квартиру.
И вот благодарность.
Он переметнулся к тем, кому клялся перегрызть глотку, разорвать рот и набить его шлаком. Теперь он подхалимски заливает этот рот вином.
Конечно, в виду маячит Чубаров.
Это горьковский пришелец.
Живёт этот чёрный алкаш и грязный бабник в обкомовском общежитии со мной в одной комнате. Почти каждый вечер притаскивает какую-нибудь фефёлу и каково терпеть по ночам пьяные кувыркания в шаге от тебя на соседней койке?
Или…
Если когда и придёт вечером один, так всё равно не легче. Случалось, так был хорош, что не мог лечь на койку и укладывался рядышком на полу и всю ночь напролёт бубнил, для согрева пяля на себя стул…
Из последних сил молчу. Неудобно подымать хипеш. Вроде в одной конторе служим…
И вот открывают новый отдел. Ставят завом Чубарова и Колюню из-под моего крылышка переводят под чубаровскую руку.
Вот тут-то Колюня и переломился.
Выставил нос по ветру. Подхалимно ловит каждый позыв бугра[80] улыбаться.
Ага, что любит новый начальнушка? Выпить!
Будет!
И Колюня тихонько бегает в гастроном и на свои кровные каждый день попаивает Чуба.
Сменил и рабочую линию.
– Всё! – заявил Коляка. – Бросаю ходить по судам, прочь от кляузников! Буду писать, как Вован Чубаров о прекрасных строителях коммунизма. Ориентир – очерк Вована «Сполохи кочуют по земле».
Начокавшись до положения ваньки-в-стельку, Чуб подсаживается к Колюне. Ватно прохлопал спину, трудно заговорил:
– Кола!.. Дружища!.. Слушай, что я тебе скажу… Просыпаясь, отжарь так свою жёнку, поставь так крепко градусник, чтоб у неё на весь день отпала охота дать кому-то ещё. Сидя в трамвае, уступи место старику: может, это твой отец. Когда идёт тебе навстречу мальчишка, погладь по голове: может, это твой сын. Придя домой, крепко бей жену. Она знает за что…
Коля готовно рапортует:
– И отжарю! И уступлю! И поглажу!.. Бу всё сделано в наилучшем виде.
– Вот это по-моему…
Чуб подсаживается ко мне.
– Аятолла Тола!.. Я знаю, ты не в восторге от меня… Скажи, ты не исполняешь ли про меня арии шефу?
– Нафига генсеку чирик? Доказательства на бочку!
– Доказательств нет.
– Тогда и болтовни не должно быть. Допечёшь – я тебе в глаза скажу. И понадобится, только при тебе рубну кому и повыше.
– Понял… Понял… Я в ауте… Принято к сведению.
Всякому алкашу кажется, что непьющий человек для него самый опасный.
Вот и сейчас Шакалинис толкнул шар в мою лузу:
– Ты, Толя, тихий референт. Работаешь тихо, без шума.
– Спасибо, шеф, за комплимент, – качнул я головой.
Кириллов:
– Прошу в моём доме не оскорблять Сана. А то могу и в рог дать.
Шакалинис:
– Извини, старик. Я шутя. Поросёнок же я.
Я:
– «Поросёнок в ходе роста превращается в свинью».
Угодливый, бесхребетный Колюня всё же понимает, что жизнь – это мяч. Не знаешь, от кого он к тебе и подлетит. Связи со мной не рвёт. Авось пригожусь.
Он наклоняется ко мне. Шепчет:
– Старик! Продаю тебе тайну своей мамки Нели. (Жену он называет мамкой.) Она подыскала такую подружку, что – он шумно поцеловал бутон из пальцев – закачаешься!
– Ну-ну…
– Сделаем просто. Мы приглашаем тебя на чашку чая. Ты приходишь. Вы знакомитесь. Мы с мамкой удаляемся.
Я вежливо поблагодарил, но от чая отказался.
Вечеринка идёт к концу.
Кириллов аккуратно «выравнивает картинку». Он старательно проигрывает Павленке партию за партией. Павленко котовато поглаживает свои усы, хвастается:
– Всегда я проигрывал Коле. А сегодня беру все партии у именинника. Кириллов, какой позор!
И невдомёк Павленке, что задумчивый Коляша тонко ему льстит и тем берёт моральный реванш в отношениях. Теперь всё мажется к норме. Нынче дают взятку не топорно, а стараются проиграть начальнику то ли в карты, то ли в шахматы, то ли скрадчиво сунуть бутылочку винца в начальничий стол. Павленко хоть и малый, но бугор. Ответственный секретарь. Захочет – сегодня поставит твой материал в номер. Захочет – поставит лишь через месяц.
Расходясь, все умилялись восклицанием Конищева:
– Революцию в семнадцатом сделала шайка пьяных моряков!







