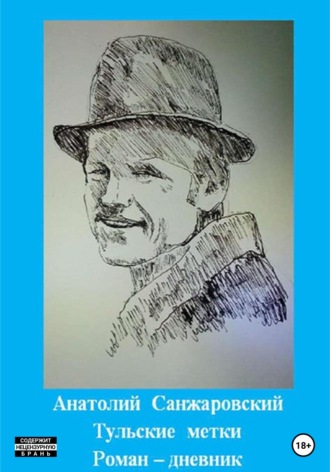
Анатолий Никифорович Санжаровский
Тульские метки
В тридцатые годы было много споров о том, что нужно писать наполовину о хорошем и наполовину о плохом.
«Пропорция «спирта и воды 50 на 50» не живая; это мёртвая схема. Я лично в своей работе мало с этим считаюсь».
Как ни был Кольцов против принципа «50 на 50», но всё-таки с ним считался. Это несколько объясняет его благосклонность к фельетону-сопоставлению.
Иное дело повествовательный фельетон, фельетон- новелла.
Этот фельетон остросюжетен. Писать надлежит так, чтоб человек, начав читать, не мог оторваться. Фон, детали – всё очень важно.
Все эти подробности создают у читателя определенное настроение, с которым он воспринимает и оценивает преподносимый факт. Это настроение, создающее оценку факта, и есть эффект полезного действия фельетона.
Поскольку речь зашла об эффекте, два слова о коэффициенте полезного действия первой фразы.
Она должна быть пулей, которая обязательно поразит цель. Она должна быть магнитом, который не отпустит читателя, пока он не дойдёт до подписи автора. Фраза должна заинтриговать, сообщить определенный тон, настроение.
Довелось мне как-то писать о бывшем прокуроре-сутяге. На пенсии. Взялся высудить квартиру у комсомолки. Ничего ему не докажешь, не понимает стыда.
О таких говорят – выжил из ума.
После он бегал по инстанциям в поисках на меня управы. Доказывал:
– Я прощаю 345 строчек. Но не прощаю первой. «Оказывается, прокуроры тоже стареют». Подумать, я выжил из ума!
Старик понял меня правильно.
Частенько меня, фельетониста, называли борцом с ветряными мельницами. Но в данном случае мне удалось помочь восторжествовать справедливости. Квартира осталась за комсомолкой.
Больше всего читатель не терпит назиданий.
Ему не надо разжёвывать, к нему не надо приставать с нотациями, с выводами. Ты покажи, а он сам разберётся. Взвесит.
Неужели кто подумает, что за описываемое в фельетоне надобно премировать, а не наказывать?
Притчей во языцех стали концовки фельетонов.
Прорва здесь ремесленничества.
Особенно распространена концовка-апелляция к вышестоящим инстанциям, долженствующим навести порядок. И начинается это концовка словами «До каких пор?»
Плохо.
Это понимают в областных газетах.
Понимают в центральных.
Очень часты концовки: «Куда смотрит комсомол?», «Куда смотрит прокуратура?», «Ау, милиция, отзовись!», «Мы надеемся, что конец припишет прокуратура»…
Это непростительный шаблон.
Правомерен ли в фельетоне вымысел?
Скажем, в языке?
Если вы уверены, что в данной ситуации герой может так сказать, приписывайте смело ему эти слова.
Один фельетонист был на Кавказе, вернулся из командировки. Отписался. Напечатал.
Скоро приехал герой с кинжалом на боку до пят, разыскал своего «благодетеля»:
– Слюши, кацо, когда ти бил у мне, разве я бил на папах? Я бил бэз папах! Ти писал – я бил на папах. Вот я срэжу твои голова – ти тожэ сразу будэш бэз папах!
Как видите, и детали дорого стоят. В обращении с ними нужно быть внимательным.
Но это редкий случай.
В описании природы, вещей, места действия, одежды героя можно не бояться вымысла.
Разумеется, он не должен выходить за пределы.
Допустим, вы не запомнили, в каких туфлях, чёрных или жёлтых, был герой. Не убивайтесь.
Если герой жулик – покажите нам жулика.
Читателям неважно, в каких он туфлях.
Да и герою тоже.
24 марта
Три желания Хрущёва
Я снова у мамы в Нижнедевицке.
На один день вырвался Григорий со своих воронежских курсов.
– Ма! Отчитайтесь, – присмехнулся он, – что купили на мою десятку к Восьмому марту?
– Чайник.
Привёз Гриша анекдотец.
– Ты знаешь, – спрашивает меня, – какие три желания не успел выполнить Хрущёв, как слетел с генсековского насеста?
– Скажешь… Буду знать.
– Не сблизил потолок с полом, не выдал замуж Загладу[60] и не посеял кукурузу на Луне.
25 марта
Перед дипломом
Я подсел к маме на койке в кухоньке. Мама ещё лежала.
– Ма! У Вас вон на окошке стоит цветок. Как его зовут?
– Кто звёздочкой, а кто дурочкой.
– Почему?
– А цветёт он всё время. Дурочки всегда цветут!
– Ма… Раньше я не замечал, что лежите Вы как-то странновато. Ноги не выше ль головы? Сидя лежите?
– Да почти…
– И чего так?
– Да сетка забастувала подо мной. Обленилась вся… Провисла чуть не до полу.
– Это исправимо.
В сарае я нашёл моток проволоки, схватил койку с боков. Сетка уже не так сильно провисала.
– А лучше и не треба, – сказала мама. – По науке в самый раз.
– Это ещё какая наука?
– У меня заниженное давление. И врачица подсоветовала на ночь шо-нэбудь класть под ноги, шоб они булы каплюшку повыше головы. Сетка раньче меня сообразила, провисла и ничо не трэба кидать под ноги.
– Гм… А Вы помните, как я в первом классе учил Вас грамоте?
– Я щэ трошки поучилась бы…
– Так будем учиться?
– Буду. Читать я хочу… Писать тебе письма сама хочу…
– Ну, – подал я ей газету, – почитайте заголовки покрупней.
Мама засмеялась и в испуге сжалась. Глянула ещё раз на газету, зарделась и отвернулась.
– Ну чего же Вы?
– Буквы я прочитаю… А как сложить их в слово? Не получается…Чудное слово у меня выходить и сказать стыдно. Було б мало буквив, я б сложила… А так… Они у меня не укладываются вместе…
– В одно слово?
– Ну да…
– Уложим! Вот пойду куплю букварь и будем учиться!
Я сбегал вниз, в центр села. В книжный магазин.
Букварей не было.
В грусти возвращаюсь.
И вижу: два чумазика барбарисничают у нас.
В кухоньке на столе наше сало, их четвертинка.
Мама старательно подживляет аликов:
– Йижьте сало! Шо ж вы даже не попробовали?
Питухи оказались вежливыми. Пригласили меня выпить с ними.
– Мне врачи не велят! – холодно буркнул я и прошёл в другую комнатку.
Политруки[61] тут же и убрались.
– Ма! Это что за пиянисты были?
– Та я откуда знаю? Прости люды… Шли мимо, стучат в окно: «Не найдётся ли пустого стаканчика?» Я и кажу: «Та шо ж вы навстоячки да на улице? Заходьте у хату».
– Молодцы!
– Та хай выпьють! Шо мне стола жалко? Сала подала…
– Доброта хороша. Да не к алкашам!.. Ну да ладно. Проехали… Забыли… В книжном нет букварей. Но учиться мы всё равно будем!
– Будэмо, – подтвердила мама. – Читать я люблю. Як две-три буквы – учитаю слово. А як нацеплялась их цила шайка – я сразу и не скажу слово. Если перечитаю по одной буквушке… Цэ довго…
– Словом, надо учиться. Когда начнём?
– Тилько не зараз. Зараз холодно. И я ничо не запомню. Та и зараз некогда. Вот посадим картошку… Будэ тепло… Вот тоди и засядэмо мы с Толенькой за учёбищу… Та я, сынок, и сама занимаюсь. Я тоби зараз покажу, шо я за зиму написала…
Из ящичка в столе она достала измятый листок и подала мне:
– Сама писала. Безо всякой чужой всепомощи. Особо я люблю писать слово часнок…
Чеснок – шесть ног…
2 апреля
Ритуал
Часов в одиннадцать прибежал Дмитрий.
– Ма! Картошки пожарьте! Ко мне приехала шишка из области.
Мама отмахивается:
– Не-е! Та ну их с этими шишками!
– Ну что вы!? Будут я, Иван Семёнович и он. Какой он там шишкарь! Как я. Только инженер в управлении. Горюче-смазочное надо зажевать картошкой.
Мама жарит, и Дмитрий вприбег уносит картошку.
Пить будут в кабинете директора.
Ритуал встречи командированных нарушать нельзя.
10 апреля. Пасха
На кладбище чокаются с крестами…
Я проснулся в девять, когда пришли Дмитрий и Степан, муж Лидкиной сестры Нинки.
Влетел какой-то бухарик биться на яйцах. Выиграл пяток крашеных яиц и выбежал.
За попойкой Степан рассказывал, как в их деревне проводили Пасху.
Ночь. Святят куличи.
Ребята жгут у церкви забор. Хозяин только зубами скрипит, но молчит. Пасха!
Старухи, освятив куличи, оставляют их («Святое кто тронет!?») и отходят в сторонку посплетничать. А ребята сумками уносят всё старушечье добро.
С полудня вереницы потянулись мимо наших окон к кладбищу. Несут яйца, водку, куличи. Пьют на могилах, чокаются с крестами, катаются в судорогах на могильных холмиках.
До полуночи со стороны кладбища слышны гармошки и плачи.
14 апреля
Поход в гусёвку
В шесть утра пошли мы с мамой за картошкой в Гусёвку к одной тётушке.
У её погреба валялась ржавая, с дырками, немецкая каска.
– А из другой, нехудой, я кур пою, – сказала тётушка. – Врыла в землю, налью воды, и курочки попивают, важно задирая клювы. У-у, эти гады фашистские густо разбрасывались своими головами, – глухо проговорила тётушка, глядя на прогнившую каску.
Тётушка одна за три дня убрала двести пудов картошки. Заболела. Операция. Не может теперь поднять пустого ведра.
Себе в мешок мама всыпала два ведра картошки.
Я хотел нести три ведра.
– Мужику надо вдвое больше таскать, – сказала тётушка. – Он свой вес унесёт.
Я взял четыре ведра. И легко нёс. Уверил себя, что хватит сил.
Наша сила зависит не от наших мускул, а от веры в свою силу. Чем больше веры, тем больше силы.
30 апреля
Гуляки
Митя получил сто рублей премии и бежит с нею домой. Навстречу мама.
Митя рванул в кусты. Испугался, что премию отнимут?
Но уже через час, обнявшись со Степаном, гудели дуэтом у винного магазина:
Зять на тёще капусту возил,
Молодую жену в пристяжке водил…
Бросили это, затянули другое:
– Не топись, не топись в огороде баня!
Не женись, не женись дурачок Ваня!..
– Сундук слева, сундук справа –
Вот и вся моя держава! Сундуки! Сундуки!
– Калинка, малинка моя,
Где лежу, там и жинка моя…
Митя бросил петь и вздохнул:
– Что деется! Весна! Копать огороды! Сажать! За этой работой и голливуд[62] запустишь! Эха-а горе-е…
18 мая
Вернулся из Ростова. Защитил дипломную на четыре.
Защиту я запомню. Написал о ней целый фельетон.
«Мой фельетон»
Ну что может сказать в своё оправдание тот, кто не виноват?
М. Генин
Завтра – защита!
В панике я прочёсывал последние кварталы города, но рецензента, хотя бы завалящего, ни кафедра, ни Бог не посылали. Как сговорились. Ну куда ещё бежать листовки клеить?[63]
У-у, как я был зол!
Я был на грани съезда крыши.
Преподаватели почтительно встречали меня на пороге и, узнав цель моего визита, на глазах мрачнели.
Уныло слушали мой лепет утопленника, вздыхали и, глядя мимо меня на голубое майское небо, твердили одно и то же (порознь, конечно):
– Не знаю, чем вам помочь. Вот он свободен! Идите к…
– Я от него…
– Вот вам пятый адрес. Божко выручит. Придите, покажите, – лаборантка провела ребром ладони под подбородком, – и он, слово чести, вас поймёт!
Я обрадовался, как гончая, которая напала на верный след.
Меня встретил красавец, похожий на Эйсебио.[64]
Я провёл рукой, как велели и где велели. Молча отдал работу и сел на ступеньки.
Он расстроился:
– Ничего. Всё обойдётся. Сходи́те в кино. А завтра – защищаться.
Я выполнил наказ молодого кандидата наук.
Наутро он крепко тряс мою руку, будто собирался выжать из неё что-нибудь путное.
– Молодца! Я вам отлично поставил!
– Ты сегодня? – ударил меня по плечу в знак приветствия староста Распутько.
– Сегодня.
– Кидай на бочку двадцать коп за цветы! Во-он у комиссии на столе они.
Я расчехлился на двадцать копеек и гордо сел в первом ряду.
Звонок.
Гора дипломных на красном столе.
Голос из-за спины:
– Начните с меня. Я тороплюсь.
Подбежала моя очередь.
Председатель комиссии Безбабнов безо всякого почтения взял моё сокровище. Брезгливо пролистнул и принципиально вздохнул.
Пошла, сермяжная, по рукам.
– Мы не можем допустить вас к защите. Ваша работа оформлена небрежно.
Я гну непонятки. Делаю большие глаза:
– Не может быть. Я сам её печатал.
– Посмотрите… Дипломные ваших товарищей в каких красивых папках! Берёшь и брать хочется. Ваша же папка никуда не годится. Вся потёрлась!
– Потёрлась, пока бегал искал рецензента.
– А ведь работу вашу будут хранить в библиотеке. Её будут читать! – торжественно пнул он указательным пальцем воздух над головой.
– Не будут, – уверенно комментирую я. – Кроме рецензента в неё никто никогда не заглянет. А рецензент уже прочёл.
– Надо быть скромней, молодой человек. Вы назвали свою работу «Мой фельетон». Самокриклама! Ни Кольцов, ни Заславский себе такого не позволили б!
– Моя дипломная – творческая. Я говорю о своих фельетонах. Почему из скромности я должен не называть вещи своими именами? Хоть я и не Петров, но, судя по-вашему, я обязан представляться Петровым! Тут рекламой и не пахнет, – независимо подвёл я итог.
Конечно, рекламой не пахло. Зато запахло порохом.
– И вообще ваша работа нуждается в коренной переделке! – взвизгнул председатель. – О-очень плохая!
– Не думаю, – категорически заверил я. – О содержании вы не можете судить. Не читали. А вот рецензент читал и оценил на отлично. Я не собираюсь извлекать формулу мирового господства из кубического корня, но ему видней.
Председатель не в силах дебатировать один на один со мной. А потому кликнул на помощь всю комиссию.
– Товарищи! – обратился он к комиссии.
Я оказался совсем один на льдине!
Пора без митинга откланиваться.
Перебив председателя, спешу аврально покаяться на прощание:
– Извините… Что поделаешь… «У каждого лилипута есть свои маленькие слабости». Я искренне признателен за все ваши замечания. Я их обязательно учту при радикальной переработке дипломной! – и быстренько закрываю дверь с той стороны.
Вылетел рецензент.
На нём был новенький костюм. Но не было лица.
– Что вы натворили! Теперь только через год вам разрешат защищаться… Не раньше… Даже под свечками![65] Ну… Через два месяца. Вас запомнили!
– Океюшки! Всё суперфосфат! Приду через два дня.
В «Канцтоварах» я купил стандартную папку.
Какая изумительная обложка!
Главное сделано.
На всех парах лечу в бюро добрых услуг.
– Мне только перепечатать! – с бегу жужжу машинистке. – Название ещё изменить. «Мой фельетон» на «Наш фельетон». И всё. Такой вот тет-де-пон.[66] Спасите заочника журналиста!
Машинистка с соболезнованием выслушала исповедь о крушении моей судьбы:
– Рада пустить в рай, да ключи не у меня. Сейчас стучу неотложку. Только через месяц!
С видом человека, поймавшего львёнка,[67] я молча положил на стол новенькую-преновенькую хрусткую десятку.
– Придите через три дня.
Положил вторую десятку.
– А! Завтра!
Достал последнюю пятёрку.
– Диктуйте.
На этом потух джентльменский диалог.
Через два дня вломился я на защиту.
Однокашники хотели казаться умными, а потому, дорвавшись до кафедры, начинали свистеть, как Троцкий.[68]
Я пошептал Каменскому:
– Следи по часам. Чтобы разводил я алалы не более десяти минут. Как выйдет время, стучи себя по лбу, и я оборву свою заунывную песнь акына.
На кафедре чувствуешь себя не ниже Цицерона.
Все молчат, а ты говоришь!
Нет ничего блаженнее, когда смотришь на всех сверху вниз, а из них никто не может посмотреть на тебя так же. И если кто-то начал жутко зевать, так это, тюха-птюха плюс матюха, из чёрной зависти.
Что это фиганутый Каменский корчит рожу и из последних сил еле-еле водит пальцем у виска, щелкает?
Догадался, иду на посадку:
– Мне стучат. У меня всё.
Председатель улыбнулся.
Я не жадный.
Я тоже ему персонально улыбнулся по полной схеме. Для хорошего человека ничего не жалко.
– Вы мне нравитесь! – пожимает он мне руку.
Как же иначе?
25 мая
Чемодан
Полусонный лечу на шестичасовой воронежский автобус.
Чемодан бросил у входа на станцию, а сам шнырь в очередь.
Вылезаю без улова. Нет на шестичасовой.
Так нет и моего чемоданика.
Бесприютно торчит у входа какой-то похожий на мой. Беру. Пробую открыть – не открывается.
А вдруг кто по ошибке цапнул мой, оставив этот, и уже в пути? Как догонять? На своих двух клюшках кривых?
Иду с «похожим» на второй рейс и вижу, чую что-то родное в руках одной девицы. Да, конечно, у неё – мой!
Я рванул свой чемодан к себе. Девица заорала:
– Л-люди! Отнимают чемодан! Помогите!
– Не мучайся дурью! Забирай свой – сунул ей её чемодан, – да отдавай мой!
На том и притухло дельце.
Наконец-то поехали.
Вдруг выясняется, наш шофёр забыл отвёртку. Всем базаром едем к нему домой. Водила не может достучаться в свою хату. Во спит жёнушка!
Бабка с соседнего сиденья!
– Генеральски спить. А я так не могу… Кто как спит…
Дедок с белым чубчиком:
– Да как? Кто вниз пузом, а кто и вверх!
26 мая
Техника экзамена
Ростов. Дом колхозника.
В комнате тринадцать коек.
Садись на чём стоишь да ещё ножки вытяни!
Консультация по истории КПСС. Экзаменатор – экстра! С юмором:
– Поясняю технику экзамена. Все вопросы, что будут в билетах, я вам дал, и вы их знаете уже наизусть. Хорошо чтобы сдать надо не только знать предмет, но и знать, – а это главное, что любит наша уважаемая госкомиссия – отвечать бойко даже и тогда, когда говорите не то. Не робеть! Я вас пойму, а комиссия не станет вмешиваться: она не будет вас слушать. Она тогда обратит внимание на вас, когда вы начнёте мычать или вообще в конфузном аврале заглохнете. А говорить можно что? Вы же журналисты. Должны сориентироваться. В комиссии десять человек. Не волнуйтесь. Их будет не более трёх. Да и те… Кто выйдет попить… Кто, вспомнив наказ жены, – нечего попусту терять время! – дунет по магазинам с авоськой в кармане… Дополнительные вопросы? Их любит задавать начальство. Если оно нагрянет из горкома или из обкома, не волнуйтесь. Вопросы слушайте внимательно – начальство надо уважать! – а отвечать не обязательно. Если вопрос для вас неожиданный – я это сразу увижу по вас, – я скажу, что вопрос не по теме, и удар будет отведён. Не переживайте. Сейчас шесть часов вечера. Идите покушайте и отправляйтесь к своим любимым. На экзамен только со свежей головой! До встречи!
До завтра, милый профессор!
Ну, люди мы послушные. Куда нас посылали, мы туда и пошли. К себе в компанию я подбил Колюнчика Удода.
Моя знакомка Голошапкина уверяла, что я нашёл прекрасного парня для её подруги, и просила подыскать ещё одного такой же масти для её второй подруги, которая живёт в Тихорецке.
– Что я, сват на весь юг России?!
28 мая
Яйца в шляпе
Три тридцать утра.
Стук в окно, властный голос:
– Петро, подымайсь! Поехали!
Щупленький казачок Петро сел на койке. Глядя с тоской на безмятежно спящих вокруг, гортанно завопил:
– Все бляди городские спят, а ты, честняга колхозник, один вставай! Во-о жизня! Только подумай… Все спят, а ты вставай! А отчего не наоборот? Отчего?! – в отчаянии выкрикнул он пропитым фальцетом.
Все проснулись.
Началась дискуссия, кто должен идти. Пришли к одному выводу: идти тому, кому надо.
Недовольный Петро заерепенился ещё круче:
– Зашибають нашего брата. Вскакуй в три и беги. А горожанин проснётся тольке в девять! Через шесть часов! Наденет шляпу и пошёл крутить яйцами!
Из дальнего угла шумнул университетский дипломник.
– А почему ты ничего не делал, чтобы и ты мог крутить яйцами в шляпе? Думаешь, это легко даётся? У меня вон не осталось ни одной волосинки! – Дипломник повыше поднял голову, представил для всеобщего обозрения голый череп. – И желудок испорчен! Хоть вырежь да собакам брось!
– Неубедительно! Брешешь, зараза! По глазам вижу!
Поднялся кацо:
– Слюши! Даи спат!
– А-а, кацо! Я тебе сейчас дам… С кроватью выброшу в форточку и поеду!
Вошёл живший в номере на одного начальник казачка:
– Ну что?
– Иван Митрович, я сейчас, сейчас, сейчас!.. Тут Кацо Мандариныч слегка недовольны…
– А-а… Ему спешить некуда.
Начальник ушёл, и Петро рявкнул:
– Раз я не буду спать, то и вы не будете! Ну-ка все проснулись! Все, все, все! Кто ещё спит? Скоренько а ну отзовись!!! Не молчи же!..
Все в комнате с энтузиазмом, с каким в семнадцатом тёмной ночкой брали Зимний, готовы были ринуться на Петра.
Я встал в пять и до десяти просмотрел весь учебник истории.
На двери кафедры журналистики, где шёл экзамен, в уголке сиротливо бледнела цифра 26, выведенная карандашом. Это сигнал, предупреждение: никто не трогай этот билет. Его могу взять только я!
Вчера сдавала первая группа.
Я попросил Гришу-одессита с рассечённой губой на обороте его билета поставить по углам точки карандашом. Гриша это добросовестно сделал. Я могу идти на свидание со своим билетом.
Тут ко мне подбежал Колюня Удод. Вчера он не знал ни одного вопроса по своему билету. Ему передали шпаргалку из комитета спасения «Дело утопающего – не его личное дело, а наше общее!» Ещё этот комитет называют и так: «Вперёд, комсомольцы!», «Кинь другу свой круг!»
Колюне вчера кинули и он выплыл на пятёрку.
Сейчас он совал мне от имени комитета шпору для Микоры.
Этот дистрофан[69] мне крайне неприятен. Он метит на красный диплом. Пожалуйста! Только честно! Он же бегал к рецензентам домой с бутылками коньяка, выбивал себе пятаки.
Микора военный. Стройный, подтянутый, высокий. Честь и хвала! Только вот куда денешь его бутылочные набеги на неустойчивых преподов?
Микора вносил знамя на двадцатом съезде Украины. Избран на пятнадцатый съезд комсомола страны.
И что?
Мне со знамёнами не мотаться по съездам.
Но и со шпорами тож.
И я не пошёл к своему билету. Чуть позже пойду, лишь бы ничто не связывало меня с Микорой.
Прошло человека три. Потом пошёл и я.
Вот он, мой роднулечка, с точками по углам! Пятёрка верная!
Мне стало стыдно.
«Неужели я Микора? Неужели я такой тупарь?»
Я брезгливо отвернулся от билетов и наугад взял, какой подбежал под руку.
Восемнадцатый!
Говорил о фракции большевиков в Четвёртой Думе и об очередных задачах Советской власти.
В клюве вынес четвёрку.
Выхожу. Под дверью Каменскому подносит спичку Полябин. Рука трясётся. Хоть балалайку подставляй.
Ему идти сдавать.







