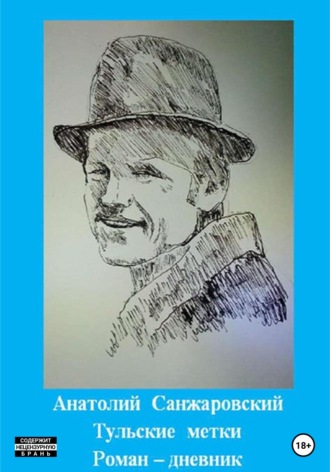
Анатолий Никифорович Санжаровский
Тульские метки
30 мая
Кинь отвальную!
После обеда я в типографии. Дежурю по номеру.
И снова в коридоре сшибаюсь лбом с Люськой.
– Слушай, – клянчит она занудно. – Досрочно устрой мне сегодня Юрьев день. Сам не женишься и другим не даёшь ходу…
– Я тебя за ручку держу? Нафига генсеку чирик?
– Ну чего вот ты не женишься? Какая акварелька увядает! Открой глазки. Всмотрись! Ну… В чём затор? Старше тебя на три года? Так не страшуха. Ну, худая… Так не гремлю арматурой…[39] Шугани меня от себя. Сама я не отлипну… Кинь отвальную! Сегодня приезжает мой актёрка из камышинских гастролей. Дай я попробую выйтить взамуж. Ну… Да… Где уж нам уж выйтить замуж? Мы уж так уж как-нибудь… Не получится – к тебе вернусь. Ну да-ай попробую…
На улыбке грожу ей пальцем:
– Пенколюбка! Я тебе попробую, неверная!.. А вообще… Пробуй. Дерзай. Скачи!
Вечером возвращаюсь автобусом домой – увидел на окраинной остановке свою Люську с актёром. Она преданно тёрлась лицом об его плечо и восторженно заглядывала ему в глаза.
Дай-то Бог, чтоб сварили они свою вкусную кашу.
А меня повело на весёлые стишата.
Пужанула тётя Люся:
– Вот возьму и отелюся!
– От кого? – жених замялся
И в раздумьях растерялся.
Тётя Люся ворчит,
Злость в жилах шкварчит:
– Врёшь! Не любишь, паразит!
– Под тебя бы динамит!
И сказала тётя Люся:
– Отпусти меня, дедуся.
Я к актёру пойду,
Глядишь, замуж сойду.
Может, буду его любить,
О тебе не тужить.
Не поддастся актёр –
В твой вернусь я шатёр.
В тот же день ввечеру
Юрке пела на юру:
– Ты бесценный и родной,
Мой карасик золотой…
6 июля
Билет
Вы только мост, чтобы высшие прошли через вас! Вы означаете ступень: не сердитесь же на того, кто по вас поднимается на высоту.
Ницше
Вокзал. Кассы.
На проходящий нет билетов.
Я к дежурному по вокзалу. Тот разводит ручками:
– Раз в кассе нет, значит нет. Не могу подсодействовать.
Не можешь ты, попробую я!
Подлетаю к кассирше и ломлю с апломбом:
– Дежурный велел дать!
Она хмыкнула, встала и, поправив юбку, роняет сквозь зубы:
– Пойду уточню…
Конечно, осечка.
А на подходе очередной скорый в сторону Ростова.
В лихорадке влетаю в будку телефона-автомата, по 09 узнаю номер касс.
Звоню.
Трубку берёт «моя» кассирша. Она от меня наискосок. За проходящими-пробегающими туда-сюда субъектами не может видеть меня.
– Девушка! – ору я в трубку. – Что у вас там творится? Говорят из приёмной первого секретаря обкома партии Ивана Харитоновича Юнака. Мы срочно посылаем в Ростов сотрудника молодёжной газеты. Только что он нам позвонил и сказал, что вы не даёте ему билет на проходящий.
– Ну если нет…
– Как так нет?! Дальние поезда мотаются туда-сюда каждые десять минут… И нет одного билета до Ростова? Не забывайтесь! С первым же поездом товарищ должен уехать. Вы поняли?
– Поняли, Иван Харитонович…
– Ещё не хватало, чтоб сам Иван Харитонович вам звонил. Я всего лишь его помощник…
– Всё равно поняли.
– Вот и хорошо. Спасибо. Всего вам доброго.
Выхожу из будки, смотрю на кассиршу. Она звонит куда-то… Через минуту к ней подходит дежурный.
Я гордо прохожу медленно мимо касс.
Кассирша увидела меня, высунулась в окошко, ласково машет мне:
– Идите! Идите сюда!
И я уже с билетом.
Дежурный виновато:
– Плацкартный вагон. Без места. Вы уж, пожалуйста, не ругайтесь там, если сразу не окажется свободного места. Потерпите, пока поезд не тронется.
– Постараюсь.
Местечко присесть нашлось сразу.
Вот я и поеду теперь спокойно на сессию.
4 августа
Салют персональному сералю!
Женщина создана именно для того, чтобы нравиться мужчине. Конечно, мужчина в свою очередь должен ей нравиться, но в этом уже нет прямой необходимости: сила является его достоинством.
Жан-Жак Руссо
Ур-ра!
Прощайте, Нюрка + бабка!
Салют персональному сералю!
Обкому комсомола дали под общежитие трёхкомнатную квартиру. И меня, как кота, первым пустили обживать этот ханский дворец.
То койка в чужом чуме, а тут целый дворец пока на одного!
Сегодня в моих прекрасных хоромах отмечается два праздника. Моё новоселье и проводины наших трёх практиканток, студенток с журфака Ленинградского университета, питерских совьетто-ебалетто-шик![40] Совместили приятное с ещё более приятным.
На новоселье шеф подарил мне будильник и пепельницу – рыба на сковородке.
Будильник мне очень понравился. Но кому-то из гостей понравился сильней, чем мне, и через полчаса я уже его больше не видел. Уплыла тут же и пепельница. Обошлось без слёзолитий. Я не курю, и мне она нужна как кенгуру авоська.
После третьего стопарика всем стало хорошо.
И это хорошество сунуло Пенькова в окно. Лететь Яну пришлось недолго. Всё-таки первый этаж.
На прыжок Яна толкнули улыбчивые, радостные ромашки перед окном. Целая огромная поляна!
Надёргал Яник приличный букет и старым маршрутом – через окно – снова вернулся в тёплую компашку.
Поднёс он цветы своей питерской пассии Натке Шагиной и стал принципиально допытываться у меня:
– Пить мне или хватит? Как думаешь, старик?
– Я думаю, хватит. Иначе при повторе прыжок может потерять ориентир и понесёт тебя не к земле, а к Боженьке.
Всю вечёрку я арабил в сфере обслуживания. Искал по приёмнику весёлую музыку и, найдя, следил, чтобы она не пропадала. За музыкой я не спускал голодных глаз с питерской очаровашки Жанночки Власенковой. Она это заметила и шепнула мне на ухо:
– Санчик! Ты чего жадно пялишься на меня, как кот на сметану?
– Потому что сметана очень свежая.
И тут она рухнула на колени трёх скучающих парней, вразвалку сидели вприжим на моей койке.
И всем мигом нашлась срочная работа. Кто щекотал ей пятки, «добывал смех вручную», кто гладил королевские коленушки, а кто целовал в сладкие уста. Всяк старательно работал с тем сектором молодого тела, что был к нему ближе, и не забегал на чужую территорию.
Третья питерская акварелька была Саша Бутакова. Мне в охотку болталось с нею. Я похвалился ей чужим стишком:
– Догорает заря и проблема законного брака.
Мне себя для тебя ни вот столько не жаль.
Я в вопросах любви съел такую собаку,
Что на выставке ей дали б медаль…
Саша грустно вздохнула:
– Рекламируешь себя? Очень жаль, что такой медалист повстречался мне в последний вечер. Завтра же мы уезжаем…
Она рассказала мне такую байку.
Её подруга вышла замуж. Но муж ей не верил. И что подстроил… Изменив голос, назвался по телефону именем красавца сокурсника жены и страстно позвал свою щеколду на свидание. Та радостно прибежала. Вот и доказательство, что она была неверной женой!
После первой брачной ночи сводил жену к врачу и спросил:
– Правда, что я первый у неё?
– Правда, – сказал врач и выдал даже справку.
И Саша так заключила свой рассказ:
– Чем коварнее женщина, тем радостней победа!
1 сентября
Сон
Любовь – непрерывный подвиг веры.
Ромэн Роллан
Нижнедевицк.
Ночью накатилась обломная буря с дождём. Понаворотила… Воистину, «бушующий ураган не заботится, как бы не наделать беспорядка».
А наутро тихо, солнечно.
Это в природе.
Да на душе у меня «беспорядок», тоска.
Этой грозной ночью мне снилось не приведи Господь что.
Был я в какой-то праздничной восточной стране. Иду. А вокруг осенние гранатовые плантации. Тысячи солнц. И сверху, с небес, улыбающееся лицо моей Валентинки. Вдруг среди этой радости поддевают меня на копьё и бросают в пропасть.
Конечно, я заорал. Не забыл позвать маму. Звал я так громко, что проснулись и мама, и Гриша, и я сам.
Я сел на койке. Не знаю, что и подумать.
Я уже более года как из Рязани. А вижу её перед глазами всегда, будто только что переговорил с нею… Да… Истинное бывает однажды. И больше ничего подобного у меня не будет?
Я ей писал, я ей звонил. Не нужны ей больше мои письма, мои звонки. Ну почему?
Отупел я от несчастья.
Кто так искренне ещё полюбит меня?
4 сентября
Докучливое бесконечное бубуканье за окном.
Это соседка Домка, десятикласска, выясняет отношения со своим кавалером.
Лишь ближе к полуночи бубуканье прекратилось.
Утром мама вышла и скоро слышу её угрозы:
– Учителям скажу!
Голос Домки:
– Не надо, бабушка!
Оказывается, ух и с прихватом у этой Домахи поклонники. Объясняясь в любви, они испытывают чудовищную тягу к делам и в знак доказательства силы своей страсти – («Для тебя что хошь сделаю!») – рвут из земли столбы.
Это уже второй столб-пострадалец. Вырвали и тут же у ямки положили.
Первый раз ей объяснялись в апреле.
Тогда наш угловой столб постигла та же участь. Тогда был разгорожен вдобавок и наш плетень.
Тот кавалер любил круче.
5 сентября
Гришина байка
Полдень. Жара.
Сижу на одеяле под корявой, безродной грушей в диком, заброшенном детдомовском саду. Загораю и попутно читаю «Двенадцать стульев».
Рядышком прилёг и Гриша.
– У нас, – говорит он, – есть на заводе слесарь… Уборные чистит, тянет водопровод… Иван Павлович. Вот человек! В молодости, бывало, на ярмарке мужики шумят ему:
«Иван Павлович! Не покажешь ли девкам свой факел за пол-литра?»
«А чего не показать?»
Накупят ему конфет в длинный подол рубахи.
Скликают:
«Девки! Кто охоч до конфет!?»
Сбегаются озорушки.
Только она хвать конфетку – он резко вскидывает край рубахи, и девка ненароком хватает совсем другую горячую конфету, торчащую красным боевым колышком.
Был женат. Жена от него ушла.
В получку забавлялся как?
Привяжет пятёрку или десятку на пятиметровую нитку, кинет её через плечо и «ведёт» денежку в столовку. А ветер треплет далеко позади его шелестелку,[41] силясь отнять.
Столовка закрыта. Стучит. Подбегает буфетчица.
Он снимает картуз. Бьёт челом:
– Вот привёл вам непокорную на пропитание. А то самогонщики отнимут.
Врач Прозорова попросила Ивана Павловича вырыть новую уборную рядом со старой. Старая вот-вот переполнится. А лето. В тени плюс тридцать пять.
– Семьдесят рублей стоит, – ставит условие Иван Павлович.
– Сорок.
– Семьдесят.
– Пятьдесят.
– Не торгуйся. Заплатишь вдвое! – пригрозил Иван Павлович и, уходя, сыпанул в уборную пригоршню дрожжей.
Батюшки! Через день «дрожжи» бешено рванули по улице.
Врач с мольбами кинулась к Ивану Павловичу:
– Иван да свет Павлович! Родненький! Вступись!
– Сто сорок!
– Сто!
– Сто сорок!
Врачиха заикается:
– Твои!!!
– Знамо, мои!
Этим летом на кладбище – оно в полукилометре от нашего дома – копал Иван Павлович с одним могилу. Всё кругом заросло. Не понять, где «чистая» земля, где под могилой. И разрыли они старую могилу. Неясно увидели признаки черепа. А бутылку «Столичной» увидели ясно!
Натощак хлебанули. Окосели. И оба уснули в могиле.
Принесли покойника.
Вытащили копачей из ямы, углубляют могилу.
Сидит Иван Павлович на бугорке свежей земли и бормочет: «Похмелиться бы!..», – а сам глазами рыщет по покойнику.
Все заняты рытьём могилы.
Улучив момент, Иван Павлович хватает покойника за грудки, поднимает, чуть ли не сажает и с великой надеждой смотрит на дно гроба. Ничего! Пусто, как в Арктике!
Он бросает жмурика и с сарказмом ухмыляется, глядя на него:
– А раньше вашему брату больше клали почёту… Лучше хоронили…
Вечером Гриша идёт в сквер.
Зачем?
Постоять у танцплощадки под деревьями с Шуриком?
Шурик сияет:
– Господи! И сыт, и пьян, и никому не должен!
Красивые тридцатилетние жеребцы весь вечер толкутся под деревьями, а на танцы – ни- ни, искренне полагая, что «по коренным законом общества, в танцующем кавалере ума не полагается».
Глядя на них, торчащих под деревьями, говорят:
– Американцы на своём посту.
Гриша спрашивает Шурика:
– Ты почему не был на воскреснике?
– А я бабтист!
И снова тягостное молчание.
6 сентября
Лекарство для курицы
К маме пришла мать директора маслозавода.
– Михаловна, это у вас курица была с яйцом да с яйцом? Никак не снесется?
– У нас. Четыре дня с утра до вечера криком горюшка кричала, не могла уродить. Зарезали.
– Мы тоже так сделаем. То лучшее лекарство от беременности.
8 сентября
Не воровать нельзя!
Последний день в Нижнедевицке.
Проводины.
Пришли Дмитрий с Лидой.
Григорий с Дмитрием дули водочку. С полглотка принял и я.
Начокался Митюша. Повело похвастаться. Посмотрев на свою жёнку – она с икрой[42] – хлопает себя по животу-бочонку:
– У кого больше? У меня… Моя трудовая мозоль… Мои соцнакопления… Обзавожусь атрибутами начальства…
– Атрибуты вот они, под рубахой, – подкалывает Лида. – Да где начальство?
– В перспективе! – с вызовом бросает в ответ Митя и поворачивается ко мне: – Так готовим мы тебе невесту?
– А невеста богатая, – подхватывает Лида. – Нинушка, моя закадычка… Шифоньер, подушки, – задрала руки вверх, – во высокущие! Перина…
– Ляжешь – потеряешься! – подхватывает Митя. – Лови момент. Соглашайся! Лида – прямой провод с Нинкой.
Обижать сиюминутным отказом не хочется и я молчу.
Но не молчится Мите.
Как выпьет – рта не может закрыть.
– Не воровать нельзя! – стукнул он вилкой по поллитровке. – Как начальник – первый жулик. Эха и жизня! Вон директору бригадой за счёт завода ремонтировали дом. Материал заводской…
Молодые засобирались уходить.
Митя расставил сетку:
– Вот пойду сейчас в заводской сад и буду воровать. От политики сыт не будешь. Духовная пища не то. Ты калории подавай! Воровать! Воровать!! Воровать!!!
Жутко. Когда это у него прорезалась жестокая страсть к воровству?
Лида с насмешкой:
– Воришка-плутишка! Не потеряй кошелёк. Там сто рублей отпускных.
– Кошелёк я не потеряю. Как бы тебе, заряженная,[43] юбку не потерять!
Всем базаром Митю уговаривают не идти в сад. И он неохотно соглашается. Я вижу на его лице сожаление о том, чего не делал раньше, – не воровал.
Молодые ушли.
Я решил побриться на дорогу. Сел за стол, потянулся и нечаянно толкнул ногой четверть с вишневой настойкой на утюг. Четверть разбилась.
Повиниться бы перед мамушкой, а я кисло выговариваю:
– Блин горелый… Ну зачем Вы пихаете всякую всячину под стол? У неё нет глаз. Нет глаз и у моих ног…
В досаде я выхожу из хатки.
Напротив, за пыльной дорогой, жгли костёр.
Молнии. Подбежал дождь. Темно.
Я побрёл в сад, где загорал у оврага.
Надо попрощаться…
Жалоба матери
Истинная добродетель критики не боится.
Игнац Красицкий
В Рязани поезд ещё толком не остановился.
Я прыг с подножки и бегом к телефонной будке.
Звоню своей Радости.
Нет ответа. Наверное, на занятиях в радиотехническом.
Позвоню ближе к вечеру.
А сейчас чего б не нагрянуть в свою контореллу?
И я побрёл в «Рязанский комсомолец».
Ленина, 35.[44]
Насупленный угловой трёхэтажник. Помнит Салтыкова-Щедрина, знает Солженицына, но про меня-то хоть слыхал?
Редакция… Боже, как здесь тихо. Как в могиле.
Первой мне встретилась полнушка Марина Покровская. Кажется, мне она обрадовалась:
– Хороша твоя девушка! Но ты-то куда пропал?! Жалко… Любченко… Этот лукавый помойный лис… Гнусно лгал на сотрудников. С треском выперли. Припомнили ему, как выкуривал тебя, Маркова. Нагло отбрёхивался. Орал, что это он воспитал Санжариньо до зава тульской популярной газеты. Ты чуешь, кто тебя воспитал? Кто твой крёстный папка?
Марков снова в «Рязанском комсомольце». Заведует отделом сельской молодёжи. Длинный, сухой, нескладёха. Зоя его – она из Старожилова, и он звал её мисс Старожилово – за стенкой. В «Ленинском пути» литрабом. Пашет незабвенный Валера под недремлющим оком жены.
Ну и Костюня! То выгнал Маркова, то вернул назад в редакцию с повышением…
У Рябого хариус красный, в страшных угрях. В злых глазах полыхает ненависть.
Увидел меня – сморщился. Как задница после бани.
– А-а, туляк!
Рук мы не подали друг другу.
Квиты.
Вечером я позвонил Валентине по 7-21-20.
Ответил женский голос, смутивший меня.
– Это Валентина Николавна? – спросил я.
– Да.
– Голос что-то постарел… Некрасивый…
– Некрасивый?
– Ну да. Это я. Как бы мне забрать словарь украинского языка Гринченки…
Расставаясь, я оставил у неё свой четырёхтомник. Конечно, я бы мог не оставлять. Но, решил я, это пусть будет мой полпред в светлице моей царицы, отвергнувшей меня. Пусть хоть книжки мои будут у неё. Всё остаётся тут кто-то мой живой. Всё какая-то будет живая ниточка нас свивать…
– А кто это? – спрашивает незнакомый голос.
Я назвался.
В трубке раздался горький плач.
И сквозь слёзы женщина говорит:
– Это мама Вали. Александра Васильевна. Разве вы не знаете, что случилось с Валей? Разве вы не знаете, что её у нас уже нет?
– А где она? Что с нею?
– Вспоминали мы вас… И вот… Где же вы были всё это время?
– Ка-ак где?.. Я ей писал. Ответа три куцых получил … Больше она мне не отвечала… Да где она, Александра Васильевна?
– Если интересно, приходите. Расскажу.
У меня заколотилось сердце. Что? Что?? Что???
Во рту пересохло.
– Я иду… Правда, я небритый…
Зачем-то пошоркал туфли шёрсткой, что попалась в кармане под руку.
Скоро я был у заветной двери. Звоню.
Александра Васильевна, плача, открыла, провела в Валину комнату.
Симпатичный стол у окна. Ящик открыт. За этим столом Валя учила уроки.
Александра Васильевна села на диван, а я на стул у круглого маленького столика. На нём лежала стопка рязанских газет.
– Нет Вали, – сквозь слёзы падали слова. – Она больше не учится… Выскочила замуж чёрт знает за кого! Нет у неё будущего! Пропала!
– Ка-ак?
– В октябре прошлого года она привела его. Говорит, мой товарищ, идём в театр. Тут звонок. Вы звоните. Папа подошёл…
– Он сказал мне, что уже поздно. Звонить не надо…
– А нам сказал, что звонили с его завода насчёт каких-то деталей. Только когда ушли молодые, папа сказал, что звонили вы. Ну… Пошли они в театр, а нам через час звонят: Валя в ресторане. Ах-ах! В полночь является Валя и объявляет, что в ресторане она была с законным мужем. «Можете поздравить!» Отец побагровел. Молчит. Я выпрыгиваю из себя: «Учиться надо! Пользуйся, пока родители живы!.. Не-ет! Я позвоню в загс и скажу, чтоб вас не расписывали!» – «А ты, мамочка, забыла, что мне уже девятнадцать, и в загсе тебя так же не послушают, как и я?» Шестого ноября они расписались. Я не ходила. Вот тот момент, когда я прокляла всё!
Александра Васильевна достала из верхнего ящичка стола пузатенький конверт, плеснула на столешницу фотографии:
– Загс. Чиновник, замученно улыбаясь, жуёт слова пожелания. Ему в ответ улыбаются Валя и Володя. На Вале всё белое: платье, туфли, перчатки, шапка-колпак. Он во всём чёрном, в очках. Одного роста. На лице выражение несостоявшегося бизнесмена. Недурён собой. Чёрные вьющиеся волосы, лицо мясистое, какое-то сплюснутое. От этого глаза, рот кажутся вытянутыми. За молодыми стоят Валин отец Николай Карпович и мать Володи. На обоих лицах выражения неверия в то, что происходит. Мать от удивления, что её сын-забулдыга сочетается с такой высокой особой, разинула рот. Мой Карпыч оскорблённо стиснул зубы и так выпучил глаза, что вот-вот, кажется, из глазниц выпадут яблоки. Он не верит своим глазам. Ка-ак дошло до того, что его директорская дочка так низко пала до брака с маляром-шабашником, картёжником и пьянюгой? У отца стиснуты кулаки, будто собирался прибить жениха вместе с его бабочкой на шее. Вот полюбуйтесь…
Александра Васильевна подаёт мне карточку.
Я отрешённо всматриваюсь в родные мне когда-то Валины черты.
– Что за человек рядом с нею?
– Я и сама понятия не имею. У Вали хватило ума оставить себе свою девичью фамилию. А он долгоносик.[45] Володя Айзенштат. Фамилия у него какая – то с припёком, кончается на штат. И Валина бабушка окрестила его на свой лад. Володя США! Завели свои Штаты! Мотался по области, калымил. Маляр. Вале назвался художником с репинской жилкой… У каждого Абрама своя программа… Я ничего не имею против евреев. Это люди высокоинтеллектуального труда. А тут – малярка… Я слышала такую байку. Одна биробиджанская газета объявила конкурс очерков о доярке-еврейке. Проходит месяц-другой. Никто не прислал ни одной строчки. Тогда редакция объявила: огромная сумма будет выплачена тому, кто назовёт адрес конкретной сиськодёрки[46] -еврейки. До сих пор всё ищут. Так и не нашли. А здесь безо всяких поисков нарвались на малярика… Николай Карпович поговорил с ним и понял, что он за художник. Позже Володя говорил: «Вот приду, всё покрашу у вас!» Видите, бесплатно. Свой человек! Женился, мне кажется, из корысти. Куковал в общежитии с дружками. Карпыч выхлопотал ему комнату. Устроил в Рязани на работу. А я не могу на него смотреть. Он украл у нас доченьку. Он украл у неё будущее. У него всего-то пять несчастных классов. Как-то учительница написала в его дневнике родителям: «От вашего Вовы дурно пахнет». Его отец тут же, в дневнике, ответил: «Вову не нюхать, а учить надо!» Учили, учили, учили… Выше пятого класса не выпрыгнул Вова. Незнакомым представляется художником с репинской закваской. По глухим деревням шабашит. Заборы, стены на фермах красит. А что ещё ему делать с пятью классами? Она тоже тянется за ним. Осталась вне института. Родила от него. Он не любит её, взял, повторяю, из корысти. Когда ни приду, Валя сидит одна. «А где Володя?» – «Только ушёл». Никогда его нет дома. Валя сидит на столе. Плачет. Ждёт его. Он играет в карты. Однажды они просили у нас денег. Назавтра я вечером приношу. Валя: «Не надо, мама, вашей помощи. Вчера вечером Володя выиграл в очко тридцать рублей!» – «А где он сейчас?» – «Пошёл к Вите, маляру, отметить это событие». Говорит Валя, надо купить шкаф, просит этот стол, за которым готовила уроки. Не дам! У них я уже месяц не была. И Валя не идёт. Гордость показывает. А каково матери? – Слёзы снова потекли у неё по щекам. – О нём что ей скажу я – тут же передаёт ему. Он при встрече допытывается: «Александра Васильевна, за что вы меня ненавидите?» Будто он не знает…
– Куда Валя торопилась?
– А спросите у неё. Боялась в девках закиснуть. Её подружка Люба тоже вышла.
– Ей ли бояться?
– Вот именно. При её красоте и положении нашёлся бы человек куда лучше. О вас она говорила, что вы умный. А про Володю такого не говорит. Говорила, что собирается за вас замуж. А вышла?
– Какое у неё общество?
– Какое там грёбаное ёбщество! Маляры-алкашники! Говорила я про это Вале. А она: «А разве девушки из sosтоятельных семей не живут с простыми?» Как-то сидим у них. Все вокруг такие замурзанные. Валя одна – барыня! Я ей: «Ты боялась остаться девой. Украшай теперь ёбщество маляров!» Стала Валя какая-то дёрганая, хитрая, скрытная. Стала называть нас с отцом китайскими и японскими разведчиками. О себе ни гугу. В десять ложилась спать. Всё по чести. И вдруг – законный муж! Приловчилась как-то иначе встречаться с Володей. Никогда не откроется.
– Отчего она начала хитрить?
– После вас стали мы её укорять. Раз папа бил её. И перестала она после того откровенничать. Раньше была разговорчивая. Потом стала жаловаться на наши попрёки, на то, что плохо одеваем, обуваем. Да, мы её не баловали. Я сама ходила в школу в форме в заплатках. Мы только собирались одевать её, невесту. А она уже вышла! Володя что нам выпевает? «Вы ничего ей хорошего не сделали. У неё всего два платья!» – «А мы не готовили её в невесты». У неё было старенькое пальто. Не покупали дорогих чулок. Школьница ж ещё! Мы хотели, чтоб у неё была коса. А она стрижётся под мальчишку!
Сама мама тоже пострижена под дядю.
– Она же умная девчонка! – говорю я.
– О том и речь. Способная… А в школе не очень хотела всерьёз учиться. В институт сама поступила. Как переживала я! Она с экзамена – я ей цветы! Помню, она что-то сдала на тройку. Плакала. Я гордилась – хочет учиться! Сидели над математикой они с отцом. (Он окончил академию.) За неуспеваемость отчислили её. Ей приказ прочли. Я ходила в деканат, рассказала всё про домашнюю трагедию. Оформили ей до осени академический отпуск. Пришло время идти в институт. А она мне: «Иди уж ещё ты раз». И не пошла. Нет, не учиться теперь ей в институте. Хоть бы в техникум пошла. Ленивая жена. Нам ли всё давалось просто? Я говорю: «Валя! Папа харкает кровью. Наверное, туберкулёз из-за тебя». – «А если у папы и у тебя, мама, будет насморк, так тоже из-за меня?» Ядовитая…
– Не надо сильно опекать её. Дайте почувствовать, что на вас нечего ей располагать. Сама возьмётся за ум. А станете заставлять – назло не возьмётся. Вы своей слепой любовью прогнали её из дома. Ваша любовь хуже каторги.
– Наверно. Вот месяц не была у них, не видела родную дочушку, – опять Александра Васильевна затонула в слезах – и она не идёт. Гордая… Она доверчивая. И мужчины пользуются этим.
– Что она сейчас делает?
– С месяц не работала. Болели зубы. В обеденный перерыв ходила к отцу, просила устроить куда-нибудь. Домой к нам из-за меня не приходила. Отец её любит. Девять лет из детей у нас одна Валя была. Устроил чертёжницей в конструкторское бюро возле комбайнового завода. Чтоб не забывала своё дело. Получает пятьдесят рублей. Володя говорит, что он мог бы её устроить на шестьдесят рублей, если бы не папины принципы.
Александра Васильевна в цветастом коротком платье. Я вмельк поглядываю на гордые колени. Она закрыла двумя пухлявыми ладошками одно колено, а на второе царское колено не хватило ещё пары ладошек. Она плотная. Очень похожа на Валю. Достала домашний альбом. Отец увлекался фотографией. Очень много снимков. Снимал Валю и в пелёнках, и потом, постарше, уже лет пяти, в соломенной украинской шляпке. И потом…
– Володя если придёт, то отцу не о чем с ним говорить. Только пьют молча… Валя очень скрытная. Отдыхали в Солотче. Я танцевала с нею, чтоб никто не подходил к ней. Провожала до дома. Я с отцом в доме отдыха, а Валя с подружкой жила у знакомых. Оттуда я шла в дом отдыха. И никогда Валя ничего не говорила о своих парнях.
– Валя умная. Я не собираюсь лицемерить, но лучше Вали я никогда никого не встречу. До той минуты, покуда я не открыл вашу дверь, я думал о ней, как о своей вечной спутнице… Теперь ничего нет… Некого ждать. Не для кого стараться… А было время, я провожал её по утрам до школы. У нас были свидания по утрам, вечером она всегда ложилась вовремя. Её письма, где по сто раз написано в три столбика «Люблю»… Всё это было мне. Теперь – ничего. Говорила, что утопится, если не возьму.
– Где же её клятвы!? Быстро она их забыла. Вы не теряйте с нами связи. В жизни всего можно ждать. Валя и с ребёнком может себе найти спутника. Ведь всё может быть. Какая безобразная молодёжь пошла. Валя видная девушка… Семейство наше из благородных. А такая трагедия. Стыдно на работе показаться. Почему у нас такая дочь? Злая, скрытная, нервная, всегда чем-то недовольная. Перед тем как привести в дом Володю, видела её часто в слезах. По ночам плакала. Но мне не открылась. К ней нужен подход да подход.
– В падении надо придерживаться границы. Она же опустилась безгранично низко. Почему?
– Она старалась всё делать назло.
– Наверное, от чрезмерного внимания к ней. Конечно, девушку тяготит одиночество. С этим тоже надо считаться. Наука ещё не дала совета, как воспитывать обеспеченных детей. В семьях победнее труд и нужда прекрасно всё делают. Здесь же этих воспитателей пока нет.
Я не решаюсь прямо спросить о главном.
Наконец я выдавливаю, заикаясь:
– А что… что же?..
– Что? Где же вы были целый год?
– А Вам Николай Карпович не говорил? Задолго до отъезда я встречался с ним на заводе в его кабинете… Один на один… Говорил…
– О чём? Чем кончилась ваша говоруха? Разбитым корытом? Ни о каком вашем разговоре с ним он не говорил…
– Я говорил о женитьбе, о благословении… Он сказал, что Вале ещё два месяца до восемнадцати. Без института. Рановато таки пока ей замуж. Надо год-полтора подождать. Спрашивал совета у Николая Карповича, как нам быть…
– О Господи! – на вскрике перебила она. – Нашёл у кого спрашивать совета! Дурак пришёл к дураку за советом!
– Ну как же? Отец же…
– Да отец тут я! Ко мне надо было идти! Тогда б не было этой нашей глупой пустобрешины! К чему теперь разводить этот базар?
Было уже три часа ночи.
– Николай Карпович в Москве. В командировке. Вы ляжете на диване. Я сейчас принесу простыню.
– Что вы! Что вы! Я уйду.
– Если будет интересно, звоните. Узна́ете о дальнейшей судьбе Вали.
За углом в гостинице «Первомайской» я проспал до шести на коротком диване.
Позже я позвонил Вале по её новому телефону 7-58-32. Она не стала говорить и положила трубку.







