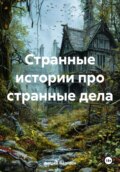Андрей Владимирович Фёдоров
Идрис и Пифон
– Остался единственный вопрос, – прокуратор выставил перед собой руки и развёл их, воскликнув, – Qui est contra8? – наступила гробовая тишина. Пилат осмотрел людей и ещё громче повторил вопрос, – Qui est contra?
Молчание было таким, что, казалось, люди готовы сию же минуту придушить любого, кто посмеет высказаться в защиту подсудимого, таким сильным было напряжение вокруг. Люди гневно озирались друг на друга, не дай Бог, кто издаст даже звук. И стало в один момент так тихо, что был слышен лай собак вдали и редкий кашель, несмотря на то, что взглянуть на казнь собрались тысячи людей. Наблюдавший это весь охрипший после холодной и сырой темницы подсудимый расхохотался, понимая, что обречён.
– A potiori9 – заключил Пилат, после того, как осмотрел толпу. Но вдруг, оттолкнув стражников, внезапно для всех и даже для себя в центр дороги выскочил Идрис и воскликнул:
– Я протестую!
Пилат подозрительно посмотрел на него. Толпа же гневно оскалилась, готовая растерзать. А уже, считай, осуждённый выпучил глаза, заворожено и с любопытством глядя на своего заступника.
– Ты кто будешь? – спросил Пилат.
– Идрис Озаряющий! Победитель Нерона!
– А я Понтий Пилат, прокуратор Иудеи. Приятно познакомиться, конечно. Только твоё имя мне ни о чём не говорит, – и пожал плечами.
Толпа рассмеялась, а Идрис тревожно взглянул на Данте, который просто улыбнулся и показал поднятый вверх большой палец. Худшей поддержки в такую трудную минуту от него и придумать было нельзя.
– Я великий маг и ясновидящий!
– Прямо, как оракулы из Дельф?
– Да!
– А мы тут судим это чудовище, так что не мешай! У нас таких оракулов слабоумных по улице толпы гуляют – не знаем куда девать…
– Судите?! – полный праведного гнева, усмехнулся Идрис и выдал:
«А судьи кто? – За древностию лет
К свободной жизни их вражда непримирима,
Сужденья черпают из забытых газет
Времен Очаковских и покоренья Крыма;
Всегда готовые к журьбе,
Поют всё песнь одну и ту же,
Не замечая об себе:
Что старее, то есть хуже.
Где, укажите нам, отечества отцы,
Которых мы должны принять за образцы?
Не эти ли, грабительством богаты?
Защиту от суда в друзьях нашли, в родстве,
Великолепные соорудя палаты,
Где разливаются в пирах и мотовстве
И где не воскресят клиенты‑иностранцы
Прошедшего житья подлейшие черты10».
– потом замолчал, несколько секунд, зависнув перед лицом проказницы-памяти, и тяжело вздохнул, – дальше не помню, но, думаю, ясно выразился!
Учитель литературы в этот момент Димой бы гордилась.
– Выразился ясно и красиво, спору нет! – отвечал Пилат и довольно покивал головой, попутно похлопав в ладоши, – только вот с чего бы я вообще должен к тебе прислушиваться? Только потому, что считаешь меня не заслуживающим права осуждать?! Ни ты, ни твои звания и прозвища мне ни о чём не говорят, как и слова мне незнакомого поэта. А тут собрался весь свет Иерусалима: купцы, чиновники, знать. И всё они требуют одного – убить это ничтожество. Почему я должен прислушиваться к тебе, а не к ним?
Идрис и сам в эти секунды задался тем же вопросом. В голове крутились нужные слова, предательски отказывавшиеся выстраиваться в соответствии со смыслом и логикой. Поэтому что ответить он так и не придумал, но зато вспомнил вдруг, как говорят герои фильмов, если кого-то по сюжету начинают обвинять.
– А с чего вы вообще решили, что он виноват? Он признался? Есть улики? – Пилат задумчиво опустил глаза и неловко молчал, очевидно, сам не радовавшийся происходящему. Идрис ухватился за этот шанс, – просто поймали человека с улицы рядом с местом преступления и наказываете его?
Подсудимый тихонько со злорадством похихикал, услышав вопрос. Данте, улыбнувшись, довольно покивал головой. Некоторые из толпы недоумённо поглядели на Пилата. Никогда ещё римская машина правосудия не подводила так своих владельцев, и это на глазах покорённого народа! Прокуратор отвечал:
– Да, его поймали на месте преступления. Это всё, что у нас есть, – толпа ахнула, – но не всё так просто! Не всё так просто! – воскликнул Пилат, одновременно руками призывая толпу затихнуть. Та повиновалась, – есть ещё кое-что.
– И что же? – усмехнулся Идрис, не всерьёз, а хохмы ради ожидая услышать, что ясновидящему пришло видение.
– Сон жреца Иудейского Храма! – он показал рукой на храм, от которого и с этого ракурса за высокими стенами было видно только крышу.
Толпа окончательно замолкла и вновь навострила свои уши. Поспорить с древним человеком, сказав, что чудес не бывает – всё равно, что заставить атеиста верить в Бога, доказывая строчками из Библии.
– Какой ещё сон? – промямлил, еле поднимая губы, Идрис. Не думал он, что шутка станет сложнейшей проблемой, с которой ещё предстояло разобраться, а Дмитрий уже с трудом представлял как.
– Ему приснился мужчина. Тощий, длинно и черноволосый, с чудесными серыми глазами, в чёрной рубахе и чёрных штанах странного пошива, а сам весь такой таинственный, загадочный, будто он соприкасается с божественными сущностями каждый божий день. Верхние пуговицы расстёгнуты так, что через разрез было видно грудь до самого солнечного сплетения. Ещё у него была трость с черепом, а на груди висел амулет с изображением пентаграммы.
Неожиданно для себя Идрис узнал в описываемом Пилатом персонаже себя. Закрыв глаза от шока, он спросил:
– А как его звали?
– Странное имя. Локи.
– Локи? – недоумевая, переспросил Идрис, никогда раньше не замечавший сходства между собой и Томом Хиддлстоном.
– Он самый, – кивнул Пилат, – и он сказал, что виноват именно этот мужчина – показал на подсудимого.
Народ оживлённо начал обсуждать происходящее.
– Видение богов подтвердило – он виновен!
– С богами спорить смысла нет. Он виновен!
– Коли так, то пусть ещё сильнее страдает!
– Даже высшие силы благоволят нам! Так пусть же он умрёт!
Идрис неожиданно для себя понял, что потерял инициативу, но ещё больше уверовал в то, что подсудимый был невиновен, ведь история с тем мужчиной из села, которого он оклеветал в шоу, повторялась. Любые попытки его оправдать терпели фиаско в глазах жителей, не собиравших разбираться, кто был плохой, а кто хороший. Грубо говоря, если по Ломброзо рожа кривая – точно преступник. Но пусть ситуация и была безысходной, в душе Дмитрия теплилась надежда, что беднягу ещё можно спасти. Оставалось только догадаться, как можно было это претворить в жизнь, и последний ключ в кармане! Только вот как сделать и не быть убитыми римской стражей?
Ответ на этот вопрос пришёл сам собой.
– Виновен! – воскликнул Пилат, – наказание – смерть через распятие! И обжалованию не подлежит!
Толпа взревела, будто трибуны сборной России в момент, когда Марио Фернандес забил гол в ворота сборной Хорватии на Чемпионате мира в 2018 году. Идрис протестовал как мог:
– Нет! Нет! Нет! Так нельзя! – но в шуме и гаме выкликов и свиста восторженных горожан не слышал даже собственного голоса. Но когда гул толпы стих, стоило прокуратору призвать к тишине и порядку, только его и было слышно, – так не может быть! Так не должно быть!
– Почему это не должно? – нахмурившись, спросил Пилат.
– Потому что богов не существует! Никаких! И духов никаких нет! – толпа возмущённо зажужжала, словно тысячи пчёл, – и возмущайтесь, сколько можете! То, что привиделось вашему оракулу – всего лишь его сон и фантазия! Не более того! С помощью снов и галлюцинаций от психотропных гадостей будущее предсказать невозможно! И хотите – верьте, хотите – нет, но сейчас вы отправите на мучительную смерть невиновного человека! А так быть не должно! – показал указательным пальцем на Пилата, – и ты это прекрасно знаешь! Только не говори, что не понимаешь о чём речь! Мы же помним, какую ошибку ты совершил пару лет назад, поддавшись кровожадности жителей Иерусалима! Такое невозможно забыть, правда, ведь?
Лицо Пилата исказилось в болезненной гримасе, кожа побледнела, со лба потёк холодный пот, руки затряслись, а ноги ослабли, а кости в них стали, будто тоненькие, сухие, деревянные веточки, ломающиеся от любого давления. А глаза словно бы потухли от невыносимых мук, что он испытывал с тех самых пор, как распял Христа. И было ему стыдно, что пошёл на поводу у толпы, что осудил невиновного, но был тогда не в силах что-либо исправить, пусть и наплевать ему было на его судьбу по большому счёту. Вот и сейчас прекрасно понимал, что иного выхода быть не может – подсудимый должен быть казнён, дабы в городе не поднялось восстание, и никто бы не признал слабости власти ромеев, после слов Идриса желал отпустить им же уже приговорённого на волю. Правда, в таком случае пришлось бы утопить Иудею в крови. Но что лучше: смерть невиновного человека или тысяч ослеплённых невежеством людей, желающих его гибели? Презревший за долгие годы власти жителей Иерусалима Пилат с радостью бы согласился на кровавую баню, но понимал, что после этого уже его голова приказом императора лишится плеч, да и долг перед сенатом и гражданами Рима выполнить для истинного римлянина, коим был прокуратор, было нужно безотлагательно, без отговорок и промедлений. Если империя требует, чтобы Пилат правил достойно и не позорил Рим, то он должен быть для этого сделать всё возможное. Cor meum – Roma!11
– Обжалованию не подлежит! – с болью в сердце произнёс Пилат и собирался, было, удалиться в крепость. Но тут Идрис, срывая голос, воскликнул:
– Неужели я не могу облегчить его страдания?!
Люди из толпы посмотрели на него, как на глупца. Данте и Кассандра ушам своим поверить не могли. Услышать, мол, Идрис готов к самопожертвованию! С чего бы вдруг?
– Зачем тебе это? – прищурился прокуратор.
– Исправить ошибки прошлого и прийти к покаянию… – он сам не ожидал, что скажет это, но спутников своих этими словами порадовал даже больше, чем желанием облегчить страдания бедняги
Пилат задумчиво усмехнулся и обернулся к приговорённому.
– Будешь нести за него крест, раз уж тебе так хочется. Соответственно и плетьми станут хлестать исключительно тебя. Скажи спасибо, что не распнём, – усмехнулся прокуратор, а потом, прищурив глаза, внимательно поглядел на Идриса, после чего добавил, – Неужели ты наивно думаешь, что исправлять ошибки жизни – это так просто? Думаешь, помог невиновному и всё? Нет, дорогой мой! Исправление и покаяние есть всегда страдание страшное и невыносимое. А за ним последует неблагодарность невероятнейшая. Ты подойдёшь к вратам загробного мира, который у христиан называется раем, попросишь войти в них, ведь ты же раскаялся, исправился, поэтому заслужил. А привратник нагло перед тобой захлопнет створы, сказав, что ты не достоин. Подумай, Идрис: стоит ли оно того? Возьмёшь крест – будешь страдать, но не факт, что тебя после перенесённых тобою страданий простят. Ты же не святой и не сын Божий, не забывай. А если оставишь это чудовище со своей ношей, то никто тебя за это не накажет, не осудит – его проблемы. Уверен, хуже точно не будет. А двери в райский сад перед тобой захлопнутся точно. И, кстати, сейчас ты услышишь, как. Только слушай внимательно, я повторять персонально для тебя не буду! – и ушёл. Ворота за прокуратором так громко захлопнулись, что Идрис вздрогнул, но даже после такой убедительной речи Пилата от желания помочь несчастному не отказался. Услышь, что будет готов помочь невиновно осуждённому, десять лет назад, покрутил бы пальцем у виска. Сейчас же стоял полный решимости довершить начатое.
Подошли стражники и поднесли осуждённому крест.
– Неси! – кинул легионер его в ноги преступнику и плюнул на землю, издавая мерзкий хохот, похожий на то, как блеет коза, а потом приготовил плеть, бережно расправив её для последующего использования.
Осуждённый мужчина уже, было, потянулся к кресту, но Идрис остановил его и произнёс:
– Моя вина – моя ноша! – и взвалил крест на себя.
– Почему твоя вина? – удивился мужчина.
– Здесь не моя. Но в моём измерении я виноват.
– Измерении?
– Долгая история, а времени мало… – кряхтел Идрис, тяжело вздыхая от тяжести креста, – идём, скорее!
– Мне торопиться вроде бы некуда, – усмехнулся осуждённый.
– Зато я так не думаю! – крикнул римлянин и шлёпнул Идриса плетью по хребтине. Тот после щелчка ощутил резкую, жгучую боль, от которой остановился, но легионер даже не думал прекращать, чтобы пожалеть, – пошевеливайся! – и ударил вновь.
«Сам бы попробовал двинуться, когда по спине хлещут, урод…» – выругался про себя Идрис и с невероятным трудом сделал несколько первых шагов, после которых пыл римлянина поутих. Видимо, тот устал ещё когда хлестал по спине осуждённого, так как у того на лохмотьях проступали кроваво-красные полосы – следы от пыток.
Шёл тот бедняга совсем ослабленным, а потому еле передвигал ноги. С самого выхода наружу постоянно щурился из-за того, что его постоянно держали в темнице. Разумеется, поблажек ему римский стражник не давал – хлестал по спине не меньше, чем Идрису. Оттого тот падал и спотыкался на каждой ступеньке, катался по земле и ловил песок ртом, после чего то и дело кашлял, с трудом делая каждый следующий шаг.
Народ был не лучше того римского стражника. Кто кусок плесневелого хлеба кинет, кто гнилой овощ, кто вообще умудрится камень, даже не опасаясь убить раньше времени. Целиться, разумеется, старались в осуждённого, но, пожалуй, только чудо может объяснить, почему ни один камень не попал в Идриса, хотя он шёл всего в паре метров от бедняги. Единственный из них, что был кинут ближе всего, зацепил нос, оставив небольшую царапину, из которой потекла кровь. И нет, чтобы извиниться, прекратить кидать, чтобы не попасть в Идриса, так нет же! Толпа принялась это делать ещё более рьяно. От прочих в сторону шедших летели плевки. И удивительно, что самыми безобидными оказались те, кто только лишь оскорблял, насколько сильно звереет человек, когда ему дозволяют. Лишь немногие были безучастны. И только пару человек Идрис заметил в толпе, что наблюдали за происходящим с нескрываемым ужасом и скорбью, и это не считая Данте с Кассандрой, с болью в сердце глядевших на Дмитрия, побиваемого плетьми, и с трудом старавшихся поспевать следом, ибо прорываться через толпу было просто невероятно тяжело.
Так вскоре они вышли за пределы города через Судные Ворота и направились к Голгофе. Раньше в представлении Идриса этот топоним выглядел, как большая гора, возвышающаяся над Иерусалимом на тысячи метров, и путь Христа от того был ещё сложнее. Каково же было его удивление, когда перед ним нарисовалась небольшая скала высотой в пятую часть километра, восхождение на которую представлялось поначалу не таким уж и долгим. На деле с крестом на хребтине, да постоянно побиваемому плетьми, не только забраться сюда, но и в принципе пройти по городу задачей стало практически невыполнимой. Постоянно падаешь, спотыкаешься, тебя хлещут, спина оттого горит, вдобавок и крест деревянный весил далеко не два-три, а все пятьдесят-шестьдесят килограммов – вес, который и для подготовленного человека будет тяжёлым. Для Идриса, предыдущие годы жизни не уделявшего внимания своей физической подготовке, эта ноша оказалась невыносимо тяжёлой. Оставалось только удивляться, сколько сил и жизненной энергии было в Иисусе, когда он совершал своё восхождение на Голгофу.
Как только они с осуждённым взошли, Дима с трудом смог скинуть с себя крест, ибо силы окончательно оставили его. Приложив последние усилия, он повалил ношу на землю, а сам, истощённый, упал рядом, не находя в себе лишнего упорства и воли для того, чтобы встать, или хотя бы сесть. Осуждённый же сел рядом с Идрисом, положил руку ему на грудь и произнёс запыхавшимся голосом:
– Спасибо тебе, что помог облегчить страдания невинного человека.
– Не за что, – отвечал Идрис, – потому что всё было бессмысленно. Я не сумел тебя спасти, как ни старался. А Пилат оказался тем ещё упрямцем, – усмехнулся, – не рассчитывал на это…
– Любого можно понять. И прокуратора тоже. У каждого есть причины поступать так, а не иначе. Пускай, самые безумные и странные для нас, но есть. Пилат просто не хотел бунта, – спокойно отвечал осуждённый, – а что до тебя, то молва говорит правду. Ты и вправду великий человек, Идрис из Зазеркалья.
– Ты знаешь меня? – удивлённо спросил тот.
– А ты знаешь меня, коли решил помочь донести эту ношу. Да это сейчас и не так важно. Главное, что я должен поблагодарить тебя, – достал из лохмотьев ключ и вложил его в руку Идрису, – это ключ купностоящих. Он даётся тем, кто почти покаялся через добрые дела, через искупление, через плотские и душевные страдания, но уже может стоять не на коленях среди тех, кто остался верен Богу и клятвам. Ты шёл бок о бок со мной и помогал нести эту ношу, не пощадив живота своего, а потому взамен в благодарность дарую его тебе в знак моего глубочайшего признания. Я не забуду про тебя и помолюсь за победу. И ты помни меня, как и то, кто был осуждён по ошибке и казнён под улюлюканье бесноватых толп…
– Не забуду… – прохрипел Идрис и положил ключ в карман.
Тут подоспел Данте и помог Дмитрию присесть. Следом подоспела Кассандра, обняв его, и расплакалась.
– Когда тебя хлестали, когда ты нёс… Я… Я… – всхлипывая от душевной боли, не могла она найти нужных слов. А потом поцеловала его в щёку. Идрис повернулся к ней и улыбнулся. И боль, и усталость как рукой сняло. Он встал на ноги и взглянул на осуждённого.
– Осталось только одно! Ответишь на вопрос? – осуждённый обернулся на оклик Дмитрия, – когда я обрёк невиновного на страдания, то даже не подумал узнать его имени. Высокомерие затмило мой разум, и я не удосужился выяснить, как звали. Хочу исправить ошибку. Назови своё имя!
– Тебе по-прежнему хочется знать? – удивлённо спросил осуждённый.
– Да.
– Меня зовут…
– Варавва, хитрый ты сатир! – воскликнул стражник и ударил осуждённого кулаком по лицу, и тот упал на землю. Потом на пару с сослуживцем потащил его к кресту.
– Нет! Стойте! Я не узнал! – закричал Идрис. Бросился на помощь, но легионеры его оттолкнули.
Осуждённый уже был не в силах что-либо сказать. Его растянули по кресту. Сначала в левую, а потом в правую руку забили по гвоздю, после сделали то же самое с ногами. Каждый удар толпа встречала с одобрительными выкриками, наслаждаясь кровью, хлеставшей из стигмат, и гримасами боли, что показывал осуждённый. Невозможно передать словами, как кричал от боли бедняга, и как страдала душа Идриса, не сумевшего спасти ему жизнь, избавить от этой боли и нечеловеческих страданий. Его терзания облегчал лишь только тот факт, что осуждённый признал его помощь и был благодарен. А это можно было считать пускай не полным искуплением за прегрешения, зато прощением со стороны невинно пострадавшего. И для Идриса, до этого так наплевательски и высокомерно относившегося к простым дурачкам, которых он обманывал, это признание сейчас было наилучшей наградой. Но вынести этих отчаянных криков несчастного, но не мог, закрыв руками уши.
А тем временем руки и ноги осуждённого крепко привязали, чтобы не сполз с креста, не упал. Пока палачи делали это, он заляпал их своей кровью, и та обжигала их кожу, ибо то была гема12 невиновного. Они подняли крест, и ноша их была почти неподъёмной. Так и оставили его умирать от кровотечения, истощения и жажды, и были страдания его не слишком долгими, ибо уже по пути из Претории до Голгофы почти все силы оставили его. Он пытался пошевелить губами, чтобы сказать Идрису своё имя, но так и не смог. Тот же с болью в сердце и со слезами на глазах вновь и вновь умолял его простить, с ужасом наблюдая невыносимые, нечеловеческие страдания умиравшего.
А вскоре осуждённый умер, не провисев на кресте даже часа. Чтобы удостовериться в смерти один из стражников проткнул его ланцеей. Из раны хлынула кровь и выжгла копьеносцу глаза, ибо то была гема невиновного. Удостоверившиеся люди разошлись, и на Голгофе, прежде буквально наполненной радостными криками от наблюдаемых страданий, вдруг стало необычайно тихо и спокойно. Были слышны лишь только всхлипы Идриса и лай собак вдали.
Последний из горожан, оставшихся на площади, украдкой подобрался к Дмитрию и еле слышно обратился:
– Простите… – Идрис, Данте и Кассандра повернулись, – вы хотели знать, как его зовут, верно?
– Да, – вытирая слёзы грязным рукавом, отвечал Дмитрий.
– Это был Илья из Иерусалима. И пусть Яхве покарает меня, если солгал, но я клянусь, что он был честным и хорошим человеком. И тот, кто оклеветал его, был мерзавцем, каких найти ещё надо. Убить бы собаку… – Идрис чуть вздрогнул, чувствуя дыхание когтистой смерти за спиной, – а вы свершили подвиг, на какой сознательно решится не каждый. Вы чистый, светлый и отважный человек. Помолитесь за него, а я помолюсь за вас, и пусть будет вам счастье навеки и даже дольше…
Мужчина натянул на себя капюшон и пошёл вниз с Голгофы обратно в город.
– Мерзавцем, – устало произнёс Идрис, чуть приподняв уголки рта, а потом усмехнулся, прекрасно понимая, что речь о нём и шла, – редкостным, – после небольшой паузы добавил, – я помолюсь. Обязательно помолюсь.
– Ключи у нас! Ты справился! – воскликнул Данте и поцеловал Идриса в голову выше виска.
– Надеюсь, я больше не идиот? – рассмеялся Идрис.
– Больше нет! – улыбнулся Данте, – но наше время почти истекло, поэтому советую быстро пошевелить ногами.
– Ну, да… – вздохнул Дмитрий, – и встал на ноги, опираясь на Данте и Кассандру.
– Я горжусь тобой! Ты самый смелый и самоотверженный из всех, что я видела! – воскликнула она.
– Я рад, что ты так думаешь, – улыбнулся он в ответ.
Данте повернулся и показал на дверь, которая стояла рядом прямо на горе.
– Нам туда! – и они исчезли, зайдя в неё.
Глава 9. Оракул.
– Где мы? – полушёпотом спросил Идрис.
Взору его предстала пустыня. На вид очень схожа с Блэк-Рок, бывшей в доисторические времена озером Лаонтан, исчезнувшего с концом последнего в истории земли на этот момент ледникового периода, на котором сегодня устанавливаются рекорды скорости на суше и проводится фестиваль Burning Man. В остальном просто пустыня, самая обыкновенная. Куда ни посмотри: направо, налево – она казалась бесконечной. Только впереди обрисовывалась небольшая гора, скорее всего, вулканического происхождения. Песок был мелким, зернистым, если взять в руку, на вес почти не ощущаемым, но по температуре достаточно обжигающим. Сами песчинки были настолько мелкими, что легко просыпались между пальцами. Что касается температуры, здесь стояла невыносимая жара, но благо, слева на пустыню шли огромные тёмно-серо-фиолетовые тучи. Ожидался дождь, а в пустыне ливень с небес – есть дар судьбы, не иначе.
– Лучше бы тебе не знать… – отвечал Данте на вопрос Димы.
– Почему?
– Последний путь всегда самый тяжёлый. Не факт, что захочешь его проходить, – кивнул на чёрную метку.
– Она уже давненько не болела… – заметил Идрис.
– Потому что скоро финал, и ничто не должно тебе помешать пройти этот путь до конца.
– И слава Богу! А то, честно говоря, в гостях хорошо, а дома лучше. Уже не терпится вернуться обратно к себе в родное измерение… – вдруг Идрис, выглядевший тяжело загруженным от раздумий, замолчал. Постояв так чуть-чуть, переваривав слова поэта о нежелании доходить до конца, тихо переспросил, – так, где мы?
– Ты действительно хочешь знать? – Идрис кивнул, и Данте, тяжело вздохнув, отвечал, – мы в восьмом кругу ада…
Было поразительно, что Идрис отреагировал на эту новость необычайно для своего буйного и взрывного характера спокойно. В ином случае его возмущение было бы объяснимым. Никто не хочет в ад, даже самый мерзкий упырь, а уж тем более без посмертного суда, на котором решается, хорошую человек жизнь прожил, али плохую. А тут он был абсолютно спокоен. Просто стоял, как изваяние и смотрел вдаль тяжёлым взглядом. И впервые в жизни в нём читалась целеустремлённость. Прежде у вспыльчивого и ранимого стальная выдержка и уже абсолютно несвойственная Идрису стойкость и решимость пройти свой путь до конца, с которыми только можно было принять новость о том, что находишься не абы где, а в восьмом кругу ада ни много, ни мало.
Он задумчиво произнёс:
– Удивительно, но когда распяли Илью из Иерусалима, я проклинал себя, вспоминая про восьмой круг ада. В юности часто читал «Божественную Комедию», представлял себе эти безумные образы, и всё, написанное тобою, отложилось тогда в моей памяти очень хорошо. Это удивительно, – улыбнулся Идрис, – но тебя я всегда представлял моим настоящим отцом, которого мне так не хватало, и клялся тебе, что никогда не буду грешить, – рассмеялся, – это всё равно, как пообещать себе, что никогда в жизни не попробуешь сигареты, алкоголь и наркотики. Пустословие, за которое всем бы гореть, но в аду столько места для грешников не найдётся. Удивительно ещё и то, что весь мой путь был прямо устлан подростковыми страхами и яркими воспоминаниями из неудачных моментов жизни. Пауки в той пещере – будучи ребёнком, я всегда боялся пауков. Женщина с ребёнком – первая неудача. Нерон и горящий Рим – я всегда себе представлял его таким, когда читал об этом событии в книжках. Мне всегда казалось удивительным, что человек, имеющий в руках абсолютную власть, может быть настолько безумен, чтобы сжечь столицу собственного же государства. Мужчина, которого император хотел казнить – моя самая большая душевная боль. Сивилла – до боли знакомый голос. Как у Ванги на записях. Нострадамус, Мессинг, Кейси – всегда завидовал им за то, что творили свой обман во времена, когда все в него верили, а потому не несли ответственности, не были ругаемы всеми вокруг. Тот бизнесмен – единственный случай за всю практику, когда моя жизнь висела на волоске. Страдания Христа в день распятия, суд Пилата – когда я читал эти моменты в Библии, будучи ребёнком, моё сердце разрывалось от боли. Я будто бы сам ощущал его страдания! Чувствовал, как мне вбивают гвозди в руки, хлещут плетью, как скотину на пути к забою. Илья – моё самое большое сожаление! – посмотрел на Кассандру, – Лариса – девушка, которая бегала за мной, как собачонка, клялась в любви и верности, но я отвергал, ибо всегда хотел большего, а не эту дурочку-простушку из числа тупорылых фанаток. Только сейчас понял, как люблю её! Каким дураком был, не отвечая ей взаимностью… – воскликнул, – я понял, чёрт возьми! Я понял, Данте! Я помню, как часто называл себя идиотом в молодости. Не ты меня называл так, а я, – улыбнулся, – Я, наконец-таки, врубился! Ты процитировал тогда Иоклида, сказавшего, что наш разум – это целая вселенная с множеством измерений, но мы вынуждены блуждать только в одном из них. Там я потерял сознание! А здесь я нахожусь в своей голове, внутри своих мыслей и грёз! Весь этот спектакль… Это совесть борется с бесстыдством, – отвернулся, с горящими от восторга глазами взглянул вдаль, – и не было никаких измерений. Они все знали меня, потому что я знаю себя. Коммод – я смотрел «Гладиатора», ведь это мой любимый фильм, а Хоакин Феникс – после этой картины самый обожаемый актёр. Тот город – копия Кировска с Айкуайвенчорра. Эта пустыня – я обожал посещать Burning Man, когда были деньги. Горящий Колизей с иконки программы «Nero», с помощью которой я ставил виртуальные образы на свой первый компьютер. И не ты всё время гнал нас, а я! Всё сошлось!
Идрис обернулся. Данте и Кассандра стояли, улыбнувшись ему, – Я горжусь нами! – сказал Алигьери, – мы молодцы!
– Точно! – кивнул Идрис, широко улыбаясь, – ещё радует то, что моя голова не такая пустая, как боялся. Могу теперь точно сказать, что моя учительница ИЗО в школе была неправа.
– Потом отпразднуешь победу и порадуешься за свою фантазию, а сейчас дойди до того вулкана, – показал на него рукой, – там найдёшь тропинку сквозь кустарники крыжовника. Пройдёшь после них в пещеру, по мосту через лавовую реку, и там ты найдёшь дверь до убежища Оракула. Он поможет тебе победить Пифона.
– Отлично! Тогда я пошёл?
– Не сразу, – отвечал Данте, – Кассандра! – обернулся к ней.
Та подошла к нему и сказала:
– Терпи!
Сзади подбежал Данте и крепко схватил Идриса за руки, а Кассандра достала иголку с ниткой и стала зашивать Дмитрию рот. Тот завизжал от нестерпимой боли, задёргался, но поэт слишком крепко держал, а потому Идрис не мог двинуться. Кровь потекла по горлу, капельки, будто ртуть, скатились по земле и чуть поодаль обратились в жутких адских гончих, похожих на доберманов, только с бордовой окраской шерсти, клыками, как у доисторического саблезубого тигра, огненными ушами и хвостом. Но глаза были ярко-зелёными, будто неоновыми.
Когда Кассандра закончила, Идрис уже ревел от невыносимых страданий, и чуть было не потерял сознание. Увидев это, она погладила его по голове и поцеловала в губы. Тому сразу же стало легче, а душа запела, ведь любимая порадовала вкусом своих уст. Душа его запела, а мускулы налились силой, которую он ещё никогда не ощущал. Такая мощная, что ему казалось, может гору перевернуть, дайте только точку опоры. И это удивительно осознавать, какой чудодейственной силой обладает обычный поцелуй, подаренный от человека, который тебе не безразличен. Чудо…
– Через пустыню невозможно пройти, если не будет уплачена дань кровью. Кроме того, – кивнул на гончих поэт, – посмотри на этих милых созданий, – Идрис с ужасом взглянул на них, а после испуганно посмотрел на Данте, – прорицатели, гадатели и звездочёты здесь обитают, даже не пытаются сбежать, ведь всё равно не могут. Но на всякий случай их здесь охраняют гончие. Только услышат любой звук, сразу набросятся и растерзают. Ночью у грешников тело на обглоданных костях вырастает вновь, и они вновь ходят тут, да бродят, отбывая наказание за грех. Чтобы гончие их не услышали и не жрали каждый день, заключённым черти зашивают рот. В этом плане можно сказать, что дьявол милосерднее Зевса, мучившего Прометея. И так страдания их становятся не такими мучительными, а то бубуськи эти нападали бы и на звук голоса. Чтобы их обмануть, мы и зашили тебе рот, будто ты местный обитатель. Только не забывай, что идти нужно медленно и без звука, чтобы не услышали. И да, в предвкушении твоих слов скажу, что такого в «Божественной Комедии» не было, потому что цензура церковная всё равно бы не пропустила. А теперь, когда узнал, как всё есть на самом деле, главное, иди вперёд, но не останавливайся, не то метка сразу же тебя убьёт. А теперь вставай!
Идрис после поцелуя Кассандры довольно легко поднялся на ноги. Данте обнял его.
– Я верю, что победишь, что спасёшь нас! Но, увы, закончить этот путь с тобой бок о бок мы не сможем, так что прощай, Идрис, величайший маг и ясновидящий из всех, которых когда-либо знал наш вымышленный мир! – после вложил ему в руки все четыре ключа, – держи их крепко, не растеряй по дороге.