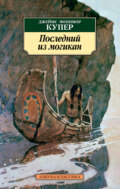Джеймс Фенимор Купер
На суше и на море. Сатанстое (сборник)
Глава V
Кто желает купить моих плодов, моих чудесных плодов из Роковая?
Крик разносчиков Нью-Йорка
Некоторое время Язон упорно молчал, а когда наконец снова раскрыл рот, то для того, чтобы разразиться бранью по адресу этого омерзительного голландского напитка. Почему простое белое вино он считал голландским, я понять не могу, разве только потому, что оно внушало ему отвращение.
Вскоре появился Дирк, и мы втроем направились к набережной – полюбоваться на суда. Часов около девяти мы поднялись по Уолл-стриту, и тогда уже две трети населения толпились на улицах, стремясь к месту гулянья негров.
Показав Язону по пути важнейшие здания, мы вышли за город и пошли за толпой к тому обширному плацу, где обыкновенно производились учения солдат, но который почему-то назывался парком. Здесь гулянье было уже в полном разгаре.
Для Дирка и для меня это зрелище не представляло ничего нового, но Язон еще никогда не видал ничего подобного. В Коннектикуте очень мало негров, да и те растолчены в порошок, так что стали, что называется, ни рыба ни мясо, и в Новой Англии никогда даже не слыхали о праздниках ни церковных, ни политических.
В первый момент Язон был положительно ошеломлен этой пляской, музыкой, шумом всей этой пестрой движущейся и беснующейся толпы. Девять десятых всех негров города Нью-Йорка и всей округи миль на тридцать собрались здесь, на этой равнине, и веселились без удержу, как дети знойной Африки, пили, пели, били в барабаны, кружились, плясали, кувыркались, хохотали во все горло, захлебываясь своим весельем. Множество белых в качестве зрителей вмешивались в толпу, особенно много было детей и молодежи. Мы уже около двух часов толкались в этой толпе; даже Язон настолько осмелел, что решался проявлять признаки удовольствия, как вдруг я потерял своих товарищей в толпе и, бродя наугад, наткнулся на группу молодых девушек и девочек различных возрастов, нарядных и выдержанных, в которых сразу можно было признать девушек из хороших семейств. Некоторые из них были уже вполне взрослые, а одна особенно привлекла мое внимание своей грацией и миловидностью. Она была просто, но элегантно одета, и, когда приблизилась ко мне, мне показалось, что она мне знакома. Когда я услышал звук ее милого, нежного голоса, у меня сразу родилось убеждение, что это та самая прелестная маленькая девочка, из-за которой лет шесть-семь тому назад я, еще будучи мальчуганом, дрался с мальчишкой мясником.
Встретившись взглядом с девушкой, я осмелился отвесить ей низкий поклон, а она улыбнулась, как при встрече со старым знакомым, затем, вся покраснев, сделала мне глубокий реверанс и тотчас же поспешила заговорить со своими спутницами. Что же мне оставалось после этого делать? Я надеялся было, что сопровождавшая Аннеке старая негритянка узнает меня, но – увы! – старуха Катринке, как ее называли, продолжала давать барышням объяснения, ничуть не интересуясь мной.
– А вот, мисс Аннеке, – воскликнула наконец негритянка, – и молодой человек, которого вам, вероятно, приятно будет видеть!
Я обернулся и увидел у себя за спиной Дирка.
Дирк с веселым лицом приблизился к группе и, отвесив общий поклон, дружески поздоровался с моей хорошенькой незнакомкой, назвав ее кузиной Аннеке. «Так это и была мисс Анна Мордаунт, как ее называли в английском обществе, единственная дочь и богатая наследница мистера Мордаунта. Значит, у Дирка вкус лучше, чем я ожидал!» – подумал я. В этот момент он, обернувшись, увидел меня и, сделав мне знак подойти, не без некоторой гордости и самодовольства представил меня своей кузине.
– Кузина Аннеке, это Корни Литтлпейдж, о котором я вам так много и часто говорил. Будьте к нему благосклонны!
Мисс Мордаунт на это мило улыбнулась и сделала грациозный реверанс, но при этом мне показалось, что она силилась удержаться от смеха. Я низко склонился в ответ, бормоча бессвязные любезности, как вдруг неожиданный возглас негритянки заставил меня поднять на нее глаза. Старуха дернула свою барышню за рукав и стала что-то оживленно шептать ей на ухо. Аннеке заметно покраснела и, взглянув на меня, одарила меня поистине очаровательной улыбкой.
– Да, теперь я припоминаю, что мистер Литтлпейдж мне несколько знаком, – сказала она, обращаясь к кузену. – Катринке сейчас напомнила мне, что он однажды рыцарски заступился за меня. Помните, мистер Литтлпейдж, того лавочного мальчишку, который обидел меня и которого вы тут же наказали?
– Но будь их двадцать, а не один, всякий приличный человек сделал бы то же на моем месте!
– Двадцать и даже больше, маленьких или больших, безразлично, вы можете быть спокойны, кузина, у вас не будет недостатка в защитниках! – заявил Дирк.
– В одном я уверена, кузен, – проговорила Аннеке, протянув ручку моему другу, – что мистер Литтлпейдж, который был тогда еще только мастер Литтлпейдж, меня не знал, и я не вправе была рассчитывать на его заступничество.
– Странно, Корни, что ты никогда не говорил мне об этом ни слова! Даже вчера, когда я ему показал Лайлаксбуш и говорил о вас, кузина, он не заикнулся об этом случае.
– Дело в том, что я не знал, что имел счастье заступиться за мисс Мордаунт! Но мистер Ньюкем стоит у тебя за спиной, Фоллок и, вероятно, жаждет быть представленным твоей кузине!
Представление состоялось, и Язон был, в свою очередь, награжден улыбкой и реверансом, на которые он ответил самым педагогическим поклоном, после чего, воспользовавшись моментом, когда мисс Мордаунт говорила с Дирком о семейных делах, Язон слегка дернул меня за рукав и, отведя меня немного в сторону, самым таинственным образом сказал:
– Я не знал, Корни, что вы были школьным учителем!
– А теперь позвольте спросить, откуда вы это узнали?
– Как откуда? Но ведь эта молодая особа только что назвала вас мистером Литтлпейджем. Я слышал это в превосходной степени ясно обоими ушами.
– Так, верно, оно так и было. Вероятно, я в ранней молодости держал какой-нибудь пансион для молодых девиц, а потом каким-то образом забыл об этом, – пошутил я. – Однако мисс Мордаунт поджидает нас; мы хотим пройтись с ней немного.
Часа полтора мы бродили в пестрой толпе между лотками и будочками с товарами; большинство негров, собравшихся здесь, родились в колонии, но были и уроженцы Африки; в Нью-Йорке не существовало такого невольничества, как в южных плантациях, где их держали сотнями, как рабочий скот для обработки полей, под надзором надсмотрщиков и где на них смотрели, как на парий. Здесь негры всегда жили под одним кровом со своими господами и употреблялись главным образом для домашних услуг; вообще с ними обращались очень хорошо, особенно в голландских семьях, в большинстве случаев они были всей душой преданы своим господам.
Во всех голландских семьях и во многих английских, породнившихся с голландцами, существовал обычай: когда ребенку, сыну или дочери без различия, исполнялось шесть лет, ему дарили раба одного с ним возраста и пола с соблюдением известных традиционных обрядов, после чего считалось, что молодой господин и его негр как бы сливались воедино; они становились неразлучными на всю жизнь, и только в случае какой-нибудь огромной провинности того или другого союз этот расторгался. Так, например, промотавшийся господин, будучи вынужден расстаться со всеми своими рабами, все-таки удерживал при себе своего личного раба; в случае ссылки или разорения только один этот раб оставался при своем несчастном господине и делил с ним и наказание, и нищету.
Когда мне исполнилось шесть лет, мне также дали молодого негритенка, который стал не только моей личной собственностью, но и моим наперсником и фактотумом, каким он остался и по настоящее время. Звали его Джекоб.
Аннеке Мордаунт также имела при себе молоденькую негритянку – ровесницу и наперсницу, которую звали Мэри, которая и теперь находилась при ней. Это была толстая веселая девушка с ярко-красными губами и ослепительно белыми зубами, страшно смешливая и живая.
– О, мисс Аннеке! Какое счастье! Кто бы мог подумать… Эти негры выписали со своей родины для сегодняшнего праздника живого льва!
– Живого льва? Ты это наверное знаешь?
– Как же, мисс! Все кругом об этом говорят… Это такое невероятное счастье!
Девушка была права; из нас никто никогда не видал льва. Плата за вход была один доллар для взрослых, половина – за негров и детей. Собрав все необходимые сведения, мы решили, что все, у кого хватит смелости и мужества встать лицом к лицу со львом, зайдут в балаган полюбоваться царем животных.
Посередине небольшого барака находился лев в большой железной клетке. Подходя к дверям этого балагана, многие заметно побледнели, в том числе даже и негритянки, но Мэри не была смущена, и в результате из всей молодой женской компании только она и ее молодая госпожа нашли в себе достаточно решимости, чтобы войти в барак. У кассы, когда надо было брать билеты, Дирк где-то замешкался, и возле Аннеке с одной стороны оказался я, с другой Язон, а Мэри – в арьергарде.
Вдруг Язон, который обыкновенно никогда не спешил раскрывать кошелек, к немалому моему удивлению, достал горсточку монет и, обращаясь к Аннеке, самодовольно сказал:
– Мисс, разрешите мне попотчевать вас этим удовольствием и вашу служанку также! Я буду в высшей степени счастлив угостить вас!
Аннеке заметно покраснела и стала искать глазами Дирка; прежде чем я успел раскрыть рот, она поспешила ответить:
– Не беспокойтесь, мистер Ньюкем, мистер Литтлпейдж будет столь добр взять билеты для нас!
– Помилуйте, какое же тут беспокойство! Это, так сказать, одно удовольствие! Весьма, можно сказать, желательный случай! – пытался возразить Язон, и, пока он разглагольствовал, я успел протолкаться к кассе, взять билеты и вручить их Аннеке; в этот момент к нам присоединился Дирк, и мы вошли все вместе в балаган.
Когда мы вышли оттуда, мисс Мордаунт подошла ко мне и сказала:
– Благодарю вас, мистер Литтлпейдж, что вы взяли мне билеты! Это составляет три шиллинга, если не ошибаюсь?
Я сделал утвердительный знак головой, после чего маленькая ручка ее коснулась моей, и деньги из ее руки перешли в мою. В тот же момент я почувствовал столь сильный толчок локтем в бок, что чуть было не рассыпал монеты; я оглянулся и увидел Язона, который позволил себе эту вольность.
– Вы с ума сошли, Корни! – воскликнул он, отводя меня в сторону по своей неизменной привычке к глупым таинственным выходкам на глазах у всех. – Разве возможно допустить, чтобы прекрасный пол сам за себя платил? Разве вы не видели, что я желал ее попотчевать, желал ее угостить этим зрелищем?
– Угостить? – повторил я. – И вы думаете, что мисс Мордаунт допустила бы, чтобы ее «угощали», как вы говорите?
– Да почему же нет? Какая же молодая особа пойдет с вами куда бы то ни было, если вы не угостите ее? Разве вы не заметили, как она была довольна, когда я ей предложил?
– Я заметил только, что она была очень неприятно поражена, когда вы ее назвали «мисс», и как она поспешила отклонить ваше предложение взять билеты! Это я все прекрасно заметил! – сказал я.
Не могу сказать, почему по-английски назвать молодую особу просто «мисс» считается в высшей степени невоспитанным и неприличным, самая элементарная вежливость требует прибавить непременно имя той особы, к которой обращаются. Во Франции же считается лучшим тоном говорить просто «mademoiselle» и прибавить к этому слову фамилию считалось бы почти дерзостью, как во Франции, так и в Испании, Италии и Германии.
Непозволительная фамильярность Язона возмутила меня, и я хотел дать ему это почувствовать.
– Вы положительный ребенок, Корни, – сказал педагог, – и ничего в этом не понимаете! Не мешайте только мне, и я все это дело поправлю!
И прежде чем я успел остановиться, он подошел к мисс Аннеке и, протягивая ей три шиллинговые монеты, сказал:
– Вы уж извините Корни, мисс, он еще очень молод и совершенно не знаком с обычаями света! Не обращайте на него внимания! Когда он станет немного постарше, то не будет в столь высочайшей степени опрометчив! – И он продолжал протягивать деньги мисс Мордаунт.
Та имела настолько такта, что обратила все это в шутку и ответила ему, насколько возможно, серьезно:
– Вы, право, очень любезны, мистер Ньюкем, но в Нью-Йорке принято, чтобы дамы в подобных случаях сами платили за себя! Когда мне случится быть в Коннектикуте, тогда я с удовольствием подчинюсь тамошним обычаям!
С этими словами она отошла от него.
– Вот видите, – сказал Язон, – она обиделась, что вы не угостили ее! Но все же три шиллинга сэкономили! – добавил он со вздохом облегчения, опуская деньги в карман.
Однако пора вернуться и ко льву!
У льва было очень много посетителей, так что к клетке трудно было пробраться, тем не менее Аннеке удалось подойти очень близко. На ней был ярко-пунцовый шарф, и, вероятно, это было причиной, что лев, просунув лапу между решеткой, захватил этот шарф и потянул его к себе. Видя это, я быстрым движением сдернул шарф с плеч девушки и, слегка приподняв ее на руки, отнес ее на несколько шагов в сторону. Все это произошло так быстро, что половина присутствующих ничего не заметила. Сторож подошел и отнял у льва шарф. Аннеке была в полной безопасности прежде даже, чем она поняла, какая опасность ей грозила. Дирка оттерло толпой, и он не мог до нее добраться. Язон же подошел лишь тогда, когда сторож вручил ему злополучный шарф. Аннеке быстро овладела собой и осталась еще с полчаса в бараке.
При выходе из балагана произошла рассказанная выше сцена с деньгами, после чего мисс Аннеке высказала намерение отправиться домой. Дирк предложил ей проводить ее домой, а мы стали прощаться с ней.
– Мистер Литтлпейдж, – проговорила девушка, прощаясь со мной, – я только теперь поняла, как много вам обязана! Все это случилось так быстро, и я была так смущена, что не нашла и сейчас еще не нахожу слов, чтобы отблагодарить вас! Но будьте уверены, что я никогда не забуду этого дня, и если у вас есть сестра, то скажите ей, что Аннеке Мордаунт предлагает ей свою дружбу и что ее молитвы за брата не могут быть более горячими, чем мои!
И прежде чем я успел собраться с мыслями, чтобы ответить ей, Аннеке уже удалилась и затерялась в толпе.
Глава VI
Ну, будь же краток! Я вижу, к чему ты клонишь: ведь я уже почти мужчина.
Цимбелин
Мне уже не хотелось больше прогуливаться, и, воспользовавшись удобным моментом, я потерял Язона в толпе и поспешил вернуться в город.
По дороге я встретил экипажи, украшенные знакомыми гербами: корабль в щите Ливингсонов, копье – в гербе де Лансеев и горящий замок – Моррисов. Весь город был на ногах, и так как по случаю войны в колонии квартировало несколько полков, то мне попадались навстречу десятки молодых офицеров, которым я от души завидовал; они шли все больше по двое, под руку. Почти все получили образование в Англии, многие окончили там университеты и видели избранное английское общество; они держали себя свободно, и я от души желал успеха их оружию и процветания английской короне. Следовательно, все мои симпатии должны были быть на стороне королевских войск, между тем их надменный вид, самодовольный и высокомерный, раздражал; чувствовалось как бы отношение патрона к подчиненному в обращении этих английских офицеров к нам, представителям местного избранного общества.
Несколько усталый и взволнованный, я поспешил вернуться домой, к тетке, где меня ждал холодный обед, так как в продолжение трех дней приходилось обходиться совершенно без прислуги, если в числе друзей семьи не имелось английских офицеров, которые присылали на это время своих английских слуг на помощь.
Едва я успел войти, как миссис Легг, моя тетушка, накинулась на меня с вопросом:
– Корни, милый, что ты такого сделал, чтобы заслужить такую честь? Герман Мордаунт сидит в гостиной и ждет тебя! Он хотел непременно видеть тебя и все время говорит только о тебе!
– Я вам все это объясню после, тетя, а пока разрешите мне пойти к нему! – сказал я.
– Иди, иди! – сказала тетка, и я поспешил в гостиную.
Дяди не было дома, и Герман Мордаунт сидел один, рассматривая только что полученные журналы. Зная, что Пинкстер вносит сумбур и хлопоты во все дома, он настоял, чтобы тетка не занималась им, а вернулась к своим домашним делам; завидев меня, он поднялся со стула, сделав несколько шагов мне навстречу, и, крепко пожав мне руку, сказал:
– Весьма рад, молодой человек, что обязан вам, а не кому другому, спасением моей дочери! Сын такого почтенного и уважаемого человека, как Ивенс Литтлпейдж, не может быть иным, как отважным и благородным человеком, который не задумается защитить девушку даже и от льва!
– Право, вы несколько преувеличиваете мою заслугу, сэр, и я сомневаюсь, чтобы даже лев решился причинить вред мисс Мордаунт, если бы он этого и хотел!
После этих слов Герман Мордаунт еще раз заверил меня в своей дружбе и расположении и пригласил меня к себе обедать в среду, то есть в первый день, когда можно было рассчитывать, что прислуга приступит к выполнению своих обязанностей по окончании Пинкстера.
Меня звали к трем часам, так как в Нью-Йорке было принято обедать позже, а в Англии считалось хорошим тоном обедать еще позже. Пробыв около пяти минут, Герман Мордаунт уехал, дружески пожав мне руку и повторив еще раз приглашение.
После его ухода я рассказал тетке и дяде о всем происшедшем и узнал от дяди, что Герман Мордаунт мог бы играть очень крупную роль, если бы захотел принять участие в политике, так как имеет крупное состояние и большие связи не только здесь, но и в Англии.
– Тебе, Корни, следовало бы сегодня же вечером поехать к ним, – сказала тетя, – и осведомиться о том, как себя чувствует Аннеке; этого требует вежливость!
Мне это требование вежливости было как нельзя более по душе; к счастью, явился Дирк, предложивший мне отправиться вместе с ним к Мордаунтам на Кроун-стрит, где они занимали роскошный особняк.
Дирк был там как у себя дома; его, очевидно, очень любили в семье, но я предпочел бы, чтобы Дирк любил кого-нибудь другого, а не свою кузину, которую он, по-видимому, любил больше всего на свете. В прекрасной, богато обставленной гостиной я застал мисс Аннеке в обществе пяти или шести барышень, ее сверстниц и подруг, и нескольких молодых людей, среди которых красовались четыре красных мундира.
Признаюсь, я смутился, очутившись в этом блестящем обществе, и в первую минуту не знал, что делать. Аннеке сделала несколько шагов ко мне навстречу и, покраснев, еще раз поблагодарила меня за оказанную ей услугу, затем представила меня всему маленькому обществу и попросила садиться. Барышни сейчас же принялись хором щебетать, а мужчины, особенно офицеры, стали внимательно приглядываться ко мне, насколько это позволяло приличие.
– Надеюсь, ваше маленькое приключение не помешало вам наслаждаться веселым зрелищем праздника? – спросил один из офицеров Аннеке, когда шум, вызванный моим появлением, улегся.
– Мое маленькое приключение, мистер Бельстрод, уж не столь маленькое, как вы думаете! Или вы полагаете, что для барышни так приятно очутиться в когтях льва?
– Простите, я должен был сказать «этот серьезный случай», раз вы считаете его таковым, хотя он, по-видимому, не имел настолько серьезных последствий, чтобы помешать вам повеселиться на празднике!
– Праздник этот повторяется ежегодно, и я уже много раз видела его и не особенно дорожу этим зрелищем!
– Мне говорили, – заметил другой офицер, которого называли Биллингом, – что вас сопровождал целый отряд так называемой легкой пехоты!
Барышни хором запротестовали против столь бесцеремонного зачисления их в ряды армии, на что мистер Бельстрод возразил, что он твердо надеется видеть их в самом непродолжительном времени не только в рядах армии, но даже и в рядах его полка. Тогда посыпался целый град протестов против насильственной службы, и все это сопровождалось смешками, в которых, однако, Аннеке и ее ближайшая подруга Мэри Уаллас, к великому моему удовольствию, не принимали участия.
Впоследствии я узнал, что младший из трех офицеров был прапорщик Харрис, младший сын члена парламента, в сущности еще мальчик. Старший за ним был капитан Биллинг, как говорят незаконный сын одного из великих мира сего; что же касается Бельстрода, то это был старший сын баронета, человек очень богатый, который, благодаря деньгам, к двадцати четырем годам был уже майором. Он был красив собой и элегантен, и я с первого же взгляда понял, что он был явным поклонником мисс Аннеке. Остальные же двое были слишком влюблены в самих себя, чтобы питать сильное чувство к кому бы то ни было другому. Дирк был слишком робок и недоверчив и поэтому почти весь вечер проговорил с отцом Аннеке о сельском хозяйстве.
Что же касается меня, то, немного освоившись, я почувствовал в себе достаточно апломба, чтобы не ощущать ни малейшей неловкости в обществе офицеров, несмотря на всю мою неопытность и непривычку к такого рода собраниям. Мистер Бельстрод умел быть мил и любезен, когда он того хотел, и это блестяще доказал по отношению ко мне. Он подошел ко мне в то время, когда я стоял несколько в стороне, любуясь картиной одного из старых мастеров, и заговорил:
– Вы, право, счастливчик, мистер Литтлпейдж, что вам привелось оказать такую услугу мисс Мордаунт! Мы все завидуем вам в этом; этот случай наделает много шума у нас в полку, потому что мисс Аннеке покорила у нас все сердца, и спаситель, конечно, вправе рассчитывать на нашу признательность!
Я пробормотал что-то несвязное в ответ на эту речь, и мистер Бельстрод продолжал:
– Меня удивляет, мистер Литтлпейдж, что такой лихой молодец, как вы, не вступает в наши ряды, когда представляется возможность отличиться на поле брани! Я слышал, что и отец, и дед ваш служили в нашей армии, и что вы человек состоятельный! Вы найдете среди нас много очень порядочных людей и, вероятно, будете чувствовать себя хорошо! Ожидается много реформ, предстоит усиление отрядов, и вам легко будет занять приличное положение в рядах армии. Если бы вы пожелали, я рад был бы служить вам в этом отношении!
Все это было сказано тоном видимой искренности и чистосердечия, быть может, отчасти потому, что Аннеке могла нас слышать, и я даже заметил, что она посмотрела в нашу сторону в тот момент, когда я собирался ответить майору.
– Весьма благодарен вам, мистер Бельстрод, – ответил я, – и весьма ценю вашу любезность, но мой дед еще жив, и я не могу выйти из его повиновения, а мне известно его желание, чтобы я оставался в Сатанстое.
– В Сатанс… что? – спросил Бельстрод с не совсем приличным любопытством.
– Сатанстое, – повторил я, – меня нимало не удивляет, что это название вызывает у вас улыбку; оно, действительно, несколько странно, но так назвал мой дед наше поместье!
– Имя это мне даже очень нравится, могу вас заверить, и я убежден, что совершенно влюбился бы в вашего деда, этого типичного англосакса. Но неужели же он желает, чтобы вы вечно оставались в Сатанс…
– В Сатанстое… нет, но по крайней мере до моего совершеннолетия, которого я достигну лишь через несколько месяцев!
– Во всяком случае, если бы у вас было желание вступить в ряды армии, мой милый Литтлпейдж, не забудьте меня. Вспомните, что у вас есть друг, пользующийся некоторым влиянием, которое он счастлив будет пустить в ход ради вас.
– Очень признателен вам, мистер Бельстрод, за ваше милое предложение, но признаюсь, что желал бы быть обязанным своим повышением исключительно только своим заслугам.
– Полноте, милый мой, что вы говорите. Вспомните Ювенала: «Probitas laudatur et alget». Вы еще так недавно выпорхнули из колледжа, что не могли забыть этих слов.
– Я не читал Ювенала, мистер Бельстрод, и если такова преподаваемая им мораль, то и впредь не хочу его читать! – сказал я.
Бельстрод собирался что-то ответить, но ему помешала мисс Варрен, по-видимому направившая на него свои батареи.
– Правда ли, мистер Бельстрод, что господа офицеры сняли новый театр и намерены дать в нем несколько представлений?
– Кто вам сказал об этом? Хоррей? Его следует посадить под арест за это.
– Не он один виноват в этом, – заступилась Аннеке, – а весь полк. Вот уже две недели, как это всем известно; я даже слышала, что пойдут Катон и Скреб.
– Совершенно верно, и мы имеем намерение просить вас прийти послушать, как мы будем уродовать эти пьесы, в том числе и ваш покорный слуга, мисс Мордаунт! – сказал Бельстрод.
– Скреба я не знаю, но пьесу Аддисона знаю: она превосходна. А когда должны начаться представления? – осведомилась Аннеке.
– Как только святой Пинкстер закончит свои!
Едва произнес майор слова «святой Пинкстер», как поднялся общий смех и целый град вопросов и восклицаний. Аннеке, воспользовавшись этим моментом, обратилась ко мне с вопросом:
– Вы действительно намерены поступить на службу, мистер Литтлпейдж?
– В военное время трудно поручиться за что-нибудь! Во всяком случае, я вступлю в ряды войск не иначе, как защитником отечества!
Минутку спустя мисс Аннеке снова спросила меня:
– Вы знаете латынь, мистер Литтлпейдж? Ведь вы были в университете!
– Знаю настолько, насколько ее можно знать в наших колледжах, мисс Мордаунт! – был мой ответ.
– Скажите мне, что означала цитата мистера Бельстрода? – спросила она.
– Что честность прославляют, но что она умирает с голода!
Выражение неудовольствия мелькнуло на лице моей собеседницы, но она не сказала ни слова.
– Вы будете играть роль Катона, мистер Бельстрод? – воскликнула одна из барышень. – Это прелестно. А какой на вас будет костюм? Современный или исторический, того времени?
– Да просто мой халат, до некоторой степени приспособленный к случаю, если только святой Пинкстер не внушит мне более счастливой мысли! – ответил майор.
– А вы в самом деле полагаете, что Пинкстер был святой? – спросила Аннеке совершенно серьезно.
Бельстрод прикусил губу: ему не приходило в голову узнать, по какому случаю происходят эти празднества, и поэтому он смутился.
– Если я ошибаюсь, то надеюсь, что вы, мисс Мордаунт, выведете меня из заблуждения?
– Охотно! Пинкстер, в сущности, не что иное, как Троицын день, следовательно, вам волей-неволей придется вычеркнуть одного святого из вашего календаря, мистер Бельстрод.
Майор наклонил голову в знак покорности и в свое оправдание сказал:
– Ведь, по справедливости, это вина наших предков, мисс Мордаунт, что они не признают и не знают праздника Пятидесятницы, что и явилось причиной моего невежества.
– Но некоторые из моих предков признавали этот праздник и чтили его! – сказала Аннеке.
– Да, со стороны Голландии, но, говоря о наших предках, я подразумеваю тех, которые, к счастью моему, у нас с вами общие.
– Разве мистер Бельстрод состоит с вами в родстве? – спросил я с некоторой поспешностью.
– Дед мистера Бельстрода и моя прабабушка были родные брат и сестра, – сказала Аннеке, – так что мы, в некотором роде, кузены, с голландской точки зрения, в Англии же такого рода родство, насколько мне известно, ни во что не ставится!
– Напротив, – возразил майор, – когда я отправлялся в колонии, мой отец настоятельно наказывал разыскать вашего батюшку и сблизиться с вашей семьей, он весьма дорожил своим родством с мистером Мордаунтом.
Итак, из всех я один не мог предъявить никаких прав родства с прелестной мисс Аннеке; сколько я ни перебирал в памяти всех моих голландских родственников, среди них не нашлось ни одного, породнившегося каким-нибудь манером с ее семьей.