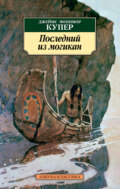Джеймс Фенимор Купер
На суше и на море. Сатанстое (сборник)
Глава XVII
Сердце мое трепещет от радости при виде радуги в небесах. – Так было, когда я был ребенком, так будет и когда я буду старцем, или же я предпочитаю умереть.
Вордсворт
Если бы мы остались еще хоть пять минут на самой реке, наши счеты с жизнью были бы закончены. Теперь, сидя на одном из высоких уступов ледяной глыбы, мы смотрели, как мимо нас несся пенящийся поток, и я видел, как в нем, кружась и вращаясь, пронеслись сани Гурта, а за ними другие, запряженные парой гнедых, обезумевших и выбившихся из сил, рвавшихся и бившихся среди пены потока, стараясь освободиться от своей закладки. Минуту спустя страшный, душу раздирающий крик, крик агонии коня огласил воздух.
– Что это? – спросила Аннеке.
– Крик какой-нибудь ночной птицы, вероятно! – ответил я.
Между тем и наш плавучий остров тоже несло течение, правда, медленно, потому ли, что нас задерживали песчаные мели в проливе, или потому, что нашу льдину прибило к береговому льду и трение мешало ей, при ее большой тяжести и глубине, двигаться с той же быстротой, как окружающие ее маленькие льдины; я решил, что нам нужно как можно скорее добраться до западной оконечности нашего плавучего острова, чтобы воспользоваться первой возможностью перебраться на береговой лед, а оттуда – на берег.
Отдохнув немного, Аннеке заявила, что готова идти дальше; мы находились по меньшей мере на высоте тридцать футов над водой, весь наш плавучий остров представлял собой сплошной хаос на ребро поставленных льдин, по которым далеко нелегко было добраться до его западного края, не говоря уже о том, что держаться на ногах на этом скользком льду было крайне трудно. К счастью, на мне, поверх ботинок, были одеты мокасины из оленьей шкуры, а на Аннеке были фетровые сапожки, иначе мы никак не могли бы двигаться по ледяным скатам и уступам. Мы уже добрались до самого края нашей плавучей глыбы, как вдруг, подхваченная встретившимся на пути водоворотом, она закружилась и через некоторое время очутилась на другой стороне острова, с которого мы только что ушли. Вместо того чтобы опять повторить мучительную попытку перебраться на другую сторону глыбы, я предложил на этот раз спуститься на нижнюю, плашмя лежавшую на воде льдину и подождать, когда нас течением прибьет достаточно близко к берегу.
На середине реки течение было настолько сильное, что разносило все на своем пути, но, к счастью, наша льдина держалась стороной и, как я думаю, была настолько глубока, что задевала своим основанием за дно, что и давало ей по временам вращательное движение, и вообще она двигалась медленно. Наконец я заметил, что наша глыба поворачивается как раз той стороной к берегу, где была та льдина, на которую мы с Аннеке только что спустились.
Нужно было не упустить удобный момент. Я предупредил Аннеке. Впереди нас только что прибило к берегу громадную плоскую льдину; так как мы, то есть наша глыба плыла за ней следом, то я предполагал, что мы пристанем к этой большой льдине, частично загородившей пролив, или же, во всяком случае, коснемся ее. Лед нашей льдины был очень толстый, и поэтому мы ничем не рисковали, подойдя даже к самому ее краю. Несколько раз мы подходили совсем близко к береговому льду, но каждый раз наша льдина немного уклонялась, так что между нами и прибрежным льдом оставалось водяное пространство в шесть-семь футов. Я, конечно, мог бы перескочить, но Аннеке была не в состоянии этого сделать. Милая девушка поняла это и, ласково взяв меня за руку, сказала:
– Как вы видите, Корни, мне не судьба спастись! Но вы могли бы без меня добраться до берега. Зачем нам погибать обоим? Спасайте хоть себя!
Видя, что Аннеке совершенно потеряла надежду на свое спасение, а наша льдина как будто начинала удаляться от берега, я в минуту отчаяния принял безумное решение поставить все на карту и спасти ее и себя или погибнуть вместе с ней. Схватив ее на руки, как ребенка, я выждал удобный момент и перескочил вместе со своей драгоценной ношей на крошечную льдину, проходившую между нашей льдиной и береговым льдом; едва коснувшись ее ногой, я перескочил с нее на береговой лед в тот момент, когда она, под нашей тяжестью, начала погружаться в воду. Собрав остаток сил, я двумя-тремя громадными прыжками пробежал по береговому льду и наконец, совершенно изнемогая, почувствовал, что коснулся ногой твердой земли.
Теперь я невольно оглянулся назад и содрогнулся при виде того, на что я отважился. Послужившую нам мостом льдину уже несло течением, наполовину перевернув ее, а ледяная скала, где мы нашли спасение от затопившей остров воды, медленно, но неудержимо приближалась к середине реки, где ей предстояло неминуемое крушение. Увидев это, я горячо возблагодарил Бога за наше спасение, а Аннеке, опустившись на колени, молилась с умилением и слезами. Я подождал, когда она закончила, и затем помог ей взобраться по крутому скату берега Гудзона.
Остановившись, чтобы перевести дух после этого тяжелого подъема, мы посмотрели на реку, которая отсюда была видна на большом протяжении. Вся она представляла собой какой-то хаос льдин, обломков и бурлящего, пенящегося потока, стремительно несшегося к морю. Целый лес льдин – и среди них в одном месте, в том самом проливе, где мы были недавно с Аннеке, неслась какая-то большая темная масса, это был целый дом, снесенный наводнением. Затем следовал сорванный мост, а немного дальше несло течением между льдин крупное судно.
Было уже очень поздно и следовало найти какой-нибудь приют на ночь для Аннеке. Я решил выйти на большую дорогу, шедшую вдоль всего берега реки, и идти по направлению к Олбани. Минут через десять мы вышли на дорогу. Аннеке была очень утомлена, она едва передвигала ноги, но не жаловалась и шла, опираясь на мою руку, покорно следуя за мной.
Не успели мы пройти небольшое расстояние по большой дороге, как я услышал мужской голос; мне показалось, что то был голос Дирка. Я остановился и, к неописуемой радости, увидел его в нескольких шагах от нас. Я крикнул что было сил, и в ответ на мой крик раздался громкий, радостный возглас Дирка, узнавшего нас. Когда он подбежал к нам, то был страшно взволнован; никогда еще я не видел его в таком состоянии.
– Все твои спутники целы и невредимы? – спросил я не совсем решительно, опасаясь услышать, что-нибудь ужасное о седоках саней Германа Мордаунта.
– Все, слава богу; погибли только сани и лошади! Но где же Гурт Тэн-Эйк и мисс Мэри Уаллас?
– Они на том берегу; нас разлучили льдины, и они выбрали то направление, тогда как нас прибило сюда! – Я сказал это, главным образом, желая успокоить тревогу Аннеке; сам же далеко не был так уверен в их спасении. – Расскажи нам, как вы сами спаслись? – спросил я.
Дирк рассказал в коротких словах, как после многократных неудачных попыток высадиться на берег они решили перейти по льдинам на берег. Дирка оставили сторожить лошадей, а мистер Мордаунт старался перевести на берег миссис Богарт, но, увидав их в страшной опасности, Дирк бросил все и кинулся их спасать. Все они очутились в воде, которая, к счастью, в этом месте была не глубокая, так как внизу под водой был еще лед. Лошади, предоставленные сами себе, испуганные треском льда, понесли и скрылись в тумане. Мужчины вынесли миссис Богарт на берег, недалеко от того места, где мы встретились; поблизости было жилье, где их приютили. Миссис Богарт уложили в теплую постель, а мужчины переоделись в сухое платье и отправились на поиски нас.
Придя на ферму, мы застали Германа Мордаунта, который при виде дочери положительно обезумел от радости; такие минуты не поддаются описанию; но когда он немного успокоился и Аннеке тоже, то со слезами на глазах стал благодарить меня.
– Я знаю, – сказал старик, – что после Бога я вам обязан вторично жизнью моей дочери! Я желал бы, чтоб Небу было угодно – впрочем, теперь уже поздно… Ну, да мы найдем, может быть, другой способ… Простите, бога ради, Литтлпейдж, я сам не знаю, что говорю, но поверьте, что если я не нахожу слов поблагодарить вас, то оказанной вами мне услуги не забуду, пока жив!
О времени нашего пребывания у добрых фермеров, приютивших всех нас в ту ночь, рассказывать нечего: они постарались устроить нас как можно лучше, угостили горячим кофе и утром снарядили свою телегу, чтобы отвезти нас в город. А когда мы хотели деньгами отблагодарить их за все эти услуги, они наотрез отказались принять их. Говорят, что все американцы корыстны, но на всем протяжении колоний не найдется ни одного человека, который взял бы деньги за подобного рода услугу.
Мы прибыли в Олбани около десяти часов утра, и когда при дневном свете взглянули на реку, вся она уже вскрылась, и только кое-где плыла одинокая, запоздалая льдина, острова же все до единого были под водой, так что трудно было даже определить место, где они находились. Вся нижняя часть города Олбани была затоплена; но это обстоятельство не повлекло за собой никаких несчастий с людьми, потому что американцы дорожат жизнью и заблаговременно принимают меры против всяких несчастных случаев.
Подъезжая к дому Германа Мордаунта, мы услышали, что нас окликнули. Это был Гурт Тэн-Эйк, который махал шапкой в воздухе и, сияя от радости, бежал к нашим экипажам.
– Мистер Герман Мордаунт, – воскликнул он, тряся его за руку, – мне кажется, что вы воскресли из мертвых, и вы тоже, миссис Богарт, и вы, мистер Фоллок! А вот и Корни и мисс Аннеке. Ах, какое счастье! Какое счастье, что все здоровы. Мисс Мэри Уаллас чуть жива от страха, при малейшем шорохе она вздрагивает, боясь услышать дурную весть!
Едва договорив эти слова, он кинулся в дом, и спустя минуту Мэри и Аннеке были в объятиях друг у друга. Миссис Богарт мы проводили до ее дома, затем все возвратились к Мордаунтам.
Гурт, с его знанием местности и многолетним опытом, сумел избежать тех страшных опасностей и затруднений, какие пришлось пережить нам. В тот момент, когда он с мисс Мэри добежал до края последнего, ближайшего к берегу острова, громадная льдина врезалась между островом и берегом; не долго думая, он схватил Мэри за руку и перебежал вместе с ней, как по мосту, на берег. Правда, пока они бежали, вода залила сверху льдину, но это было не страшно. Очутившись на берегу, Гурт стал звать нас, приглашая последовать его примеру, и голос, который, как нам показалось, звал меня, был его голосом. Не получив ответа, он вернулся за нами по льдине на остров, но, не найдя нас, уже с опасностью для жизни вернулся обратно к Мэри Уаллас. Не видя пользы оставаться больше на берегу, он вместе с Мэри пошел по направлению к Олбани, и около полуночи они были как раз напротив города, по ту сторону реки.
Здесь река совершенно вся вскрылась и течение было очень сильное, однако это обстоятельство не испугало Гурта. Превосходный гребец, он отыскал на берегу лодку, спустил ее на воду, усадил в нее Мэри и пристал в десяти шагах от того места, где мы с ним несколько дней тому назад вывалились из санок. Оттуда до дома Германа Мордаунта было всего две минуты ходьбы, в эту ночь из всей нашей компании одна Мэри Уаллас спала в своей постели, если только она вообще в состоянии была спать после всего пережитого.
Джек и Моиз благополучно выплыли на берег, и их поймали на большой дороге, ведущей к Олбани, так как все в округе знали их и их владельца, то их тут же привели к нему на конюшню. Даже сани не пропали бесследно. Сани Гурта унесло течением чуть ли не к самому устью реки. Миновав Нью-Йорк, они были выброшены на берег, и вытащившие их люди поместили о них объявление в газетах. Гурт откликнулся на это объявление и с ближайшим шлюпом, пришедшим из Нью-Йорка в Олбани после открытия навигации, получил свои сани обратно. Сани Германа Мордаунта постигла иная судьба: его гнедые утонули и, конечно, увлекли за собой сани на дно реки. Но как только лошади испустили дух, тела их всплыли, а вместе с ними и сани. Матросы большого судна, идущего в Олбани, выловили сани, обрезав постромки и обрубив дышло, доставили сани в город.
Эта история наделала много шума в городе, и все с большой похвалой отзывались обо мне. Бельстрод один из первых явился ко мне.
– Право, милый Корни, вы как будто самой судьбой предназначены оказывать мне самые величайшие услуги! Клянусь честью, я не знаю даже, как вас и благодарить. А знаете ли, если мистер Мордаунт не вмешается в это дело, то еще до конца лета этот Гурт Тэн-Эйк непременно утопит всю семью и вас в придачу или же придумает какой-нибудь другой способ поломать всем шею!
– Это было такое несчастье, которое могло случиться и с самым почтенным и осторожным человеком! – возразил я. – Лед на реке был так же прочен, как мостовая в городе, когда мы выехали.
– Да, тем не менее это катание могло многим стоить жизни! Ах, Корни, удивляюсь я, почему вы не вступаете в ряды армии! Поступайте к нам в качестве волонтера, а я напишу о вас отцу, и сэр Гарри непременно выхлопочет вам патент на звание офицера! Если он узнает, что мы обязаны вашему мужеству спасением мисс Мордаунт, то перевернет небо и землю, чтобы доказать вам свою благодарность. Знаете ли, что с того момента, как мой добрейший отец решился дать свое согласие на этот брак и назвать мисс Мордаунт своей belle-fille, он считает ее уже своей дочерью.
– А мисс Аннеке? Она тоже смотрит на сэра Гарри, как на своего отца? – спросил я.
– Во всяком случае, ей придется привыкнуть постепенно так смотреть на него, не правда ли? Ведь это же естественно! И я уверен, что если сейчас мисс Аннеке мысленно говорит себе, что с нее довольно и одного отца, то со временем это несомненно изменится; она и сейчас, когда хорошо расположена, поручает мне писать моему отцу самые приятные слова. Но что с вами, милый Корни; отчего вы так серьезны?
– Мне кажется, мистер Бельстрод, что я должен вам ответить той же откровенностью, какой вы почтили меня! Вы мне сказали, что просили руки мисс Мордаунт, и я обязан вам сказать, что я в этом ваш соревнователь, чтобы не сказать – соперник!
Майор выслушал мое признание с величайшим спокойствием и с улыбкой на устах.
– Так, значит, вы желаете жениться на мисс Аннеке Мордаунт, милый Корни?
– Да, майор Бельстрод! Это величайшее желание моего сердца!
– Придерживаясь вашей системы взаимопонимания, вы мне позволите задать вам несколько вопросов?
– Сделайте одолжение! На вашей откровенности я намерен построить мое дальнейшее поведение!
– Скажите, говорили вы когда-нибудь о своем сердечном желании мисс Мордаунт?
– Да, говорил, и в самых ясных выражениях, не допускающих ни малейшего сомнения!
– Вероятно, вчера ночью, на проклятых ледяных глыбах, в то время, когда она думала, что ее жизнь в ваших руках, не так ли?
– Вчера об этом не было произнесено ни одного слова!
В эти страшные минуты мы оба думали совершенно о другом!
– Было бы не совсем великодушно воспользоваться такими минутами растерянности, страха молодой девушки…
– Майор Бельстрод, помните, что я не позволю…
– Бога ради, милый Корни, остановитесь! – сказал майор самым спокойным и дружелюбным тоном. – Между нами не должно быть недоразумений. Ничего нет глупее того, когда люди, не желающие причинить друг другу ни малейшей царапины, начинают говорить громкие слова о чести, когда честь здесь решительно ни при чем. Я совсем не желаю ссориться с вами, мой юный друг, и если у меня случайно в разговоре сорвется какое-нибудь необдуманное слово, то заранее прошу вас простить меня и не привлекать меня сейчас же к ответу за него!
– Довольно, мистер Бельстрод! Поверьте, и я не хочу с вами ссориться из-за пустяков, и мне, как и вам, противны эти показные храбрецы, поминутно хватающиеся за эфес шпаги, но которые при первом же серьезном шаге отступают назад!
– Вы правы, Литтлпейдж, те, кто много шумят, редко много делают! Так не будем больше говорить об этом! Мы понимаем друг друга! Позвольте же задать вам еще несколько вопросов.
– Сколько угодно – при условии, что мне будет предоставлена возможность отвечать или молчать, смотря по усмотрению!
– Прекрасно! Так скажите, прежде всего, уполномочил ли вас майор Литтлпейдж ассигновать вашей будущей супруге приличную вдовью пенсию?
– Нет, но это не в обычаях у нас в колониях, в редких случаях в брачный договор входит что-то, кроме цифры приданого невесты, и это исключительное добавление представляет собой обыкновенно вклад кого-либо из родителей брачующихся в пользу третьего поколения; я думаю, что мистер Мордаунт завещает свое состояние дочери и ее детям, за кого бы она ни вышла!
– Да, это чисто американский взгляд на вещи! Но я сильно сомневаюсь, чтобы Герман Мордаунт, помнящий свое английское происхождение, придерживался такого же мнения. Во всяком случае, Корни, мы, как я понял, соперники; но это еще не причина не быть друзьями! Мы понимаем друг друга, быть может, мне следовало бы сказать вам все без утайки.
– Я вам буду за это очень благодарен, мистер Бельстрод, не опасайтесь никакого малодушия с моей стороны. Я сумею выдержать все, и если Аннеке предпочтет мне другого, то ее счастье для меня во всяком случае дороже моего личного счастья!
– Да, мой милый мальчик, все мы это говорим в двадцать лет! В двадцать два мы начинаем понимать, что наше личное счастье тоже стоит некоторого внимания, а в двадцать четыре начинаем его ставить даже немного выше счастья любимой женщины. Ну пусть я эгоист, но тем не менее справедлив прежде всего. Я не имею никаких оснований говорить с уверенностью, что мисс Аннеке предпочитает меня другим, но зато ее отец, а вы впоследствии узнаете, что отцы в этих делах играют очень важную роль, на моей стороне. Это вы видите уже из того, что без согласия сэра Гарри я не смог бы назначить ни малейшего вдовьего капитала, несмотря на то что я уже утвержден в правах наследования после моего отца; но существующая власть всегда будет стоять выше имеющейся стать ею, потому что все мы больше думаем о настоящем, чем о будущем, и это, вероятно, причина того, что так немногие из нас попадают на небо. Но я отвлекся от темы! Так отец ее, должен вам сказать, за меня! Мои предложения ему подходят, моя семья ему подходит, мое положение в обществе и мое служебное положение также ему подходят, и, наконец, я имею основание думать, что и моя личность ему в достаточной мере нравится.
Я ничего на это не ответил, и на этом мы закончили разговор. Но то, что я слышал от Бельстрода, заставило меня припомнить странные слова, сказанные мне Германом Мордаунтом, когда он благодарил меня за спасение его дочери.
Глава XVIII
Почему вы дрожите так, милейший, и как будто боитесь вещей, столь прекрасных на вид? Во имя истины, скажите мне, кто вы такой.
Банко
Как я уже говорил, наше приключение на реке наделало много шума в городе, и почтенные особы, хмурившие раньше брови при имени Гурта Тэн-Эйка, даже самые строгие моралисты теперь говорили, что, в сущности, в этом Тэн-Эйке есть кое-что хорошее. Но не следует забывать, что мораль в целом свете дело условное. Есть специально городская мораль и дачная мораль в Америке; она подразделяется еще на три главных класса: мораль новой Англии одна, это чисто пуританская мораль, мораль центральных колоний – либеральная мораль, наконец, мораль южных колоний, мораль, отличающаяся большой терпимостью. Кроме того, еще какая масса всяких подразделений! Мораль Гурта и моя были две совершенно разные морали; у него была мораль голландского типа, у меня скорее английского. Отличительной чертой голландского типа считается склонность к излишествам в удовольствиях, с которой их мораль вполне мирится. Полковник Фоллок мог служить образцом этого типа, а его сын Дирк, несмотря на свою молодость и крайнюю робость, тоже не мог быть назван исключением из этого правила.
Во всей нашей колонии не было человека, более уважаемого и любимого всеми, чем полковник Фоллок: он был хороший муж и отец, добрый христианин, приятный сосед, преданный друг, верноподданный короля и безусловно честнейший во всех отношениях человек. Но и у него были свои странности, обычные и необычайные, ему необходимо было время от времени «нашалиться», как он выражался, и на эти шалости священник был вынужден закрывать глаза. Мистер Вордэн так и называл его «шаловливый полковник». Обычные шалости совершались раза два-три в год, когда он приезжал к нам в Сатанстое или когда мой отец отправлялся к нему в Рокрокарок, так называли его поместье в Рокланде.
В том и другом случае происходило изрядное потребление всяких напитков и продуктов, входящих в состав доброго пунша и других подобного рода напитков. Но эти маленькие дебоши надолго не затягивались, обычно участники громко и много смеялись, рассказывали друг другу легкого и веселого содержания анекдоты и смешные истории, но до настоящих безобразий дело не доходило. Правда, в этих случаях отец, и дед, и его преподобие мистер Вордэн, и полковник Фоллок обычно добирались, спотыкаясь и пошатываясь, до своих кроватей, но все же без посторонней помощи, причем уверяя, особенно мистер Вордэн, что у них от табака голова кружится.
Старик Вордэн, однако, всегда заканчивал свои заседания в дружеской компании уже с пятницы и возвращался на них не раньше понедельника вечером, потому что ему необходимо было успокоиться прежде, чем приступить к составлению проповеди на воскресенье, которое он, как лицо духовное, считал долгом чтить; вообще в исполнении всех своих обязанностей он был чрезвычайно добросовестен и методичен, и когда ему случалось опоздать к обеду и узнать, что, садясь за стол, мой отец не прочел молитвы, он заставлял всех, сидевших за столом, положить свои ножи и вилки и читать вслух молитву.
Не прошло и двух недель со времени моего знакомства с Гуртом Тэн-Эйком, как я узнал, что у него те же слабости, как и у полковника Фоллока. Большие шалости обыкновенно происходили у него в стенах его поместья, и мой отец никогда не участвовал в них. Товарищи полковника в этих случаях были лицами исключительно чистокровного голландского происхождения, и, как я слышал, эти оргии продолжались иногда целую неделю; все это время полковник и его друзья были счастливы, как милорды, и никогда не могли без посторонней помощи дойти до своих постелей. Впрочем, эти необычные эксцессы бывали не часто, приблизительно как високосный год, для наведения порядка в календаре.
За время моего пребывания в Олбани я ни разу не обнаружил подобных склонностей в моем друге Гурте, так как подобные необычные шалости трудно было бы совместить с его любовью к Мэри Уаллас, но по некоторым намекам и замечаниям я вскоре понял, что он не раз бывал участником таких шалостей, и Мэри Уаллас знала об этом; вероятно, это была единственная причина, заставлявшая ее колебаться принять его предложение, несмотря на ее несомненное чувство к нему. Даже Аннеке после нашего приключения стала относиться к нему благосклоннее, и я был уверен, что мечты его рано или поздно должны осуществиться. Мои же дела словно застыли на месте. Такое было мое мнение в тот момент, когда Гурт начал впадать в отчаянье.
Дело было в конце апреля, то есть месяц спустя после приключения. Гурт как-то утром зашел ко мне и, совершенно трагическим жестом кинув свою шляпу на стол, произнес:
– Ну, Корни, мне опять отказали!
Надо заметить, что Гурт еженедельно повторял свое предложение Мэри, и она неизменно до этих пор отвечала ему «нет».
– Понимаешь, она твердит это слово «нет», «нет» и «нет»! И мне начинает казаться, что ее уста совершенно разучились произносить другие слова, более приятные для моего слуха. Знаете, друг мой, на что я решился? Пойти к тетушке Доротее!
– К Доротее? К кухарке мэра?
– Нет! К тетушке Доротее, нашей лучшей гадалке и ворожее. Но, может быть, вы, Корни, не верите ни в гадалок, ни в ворожей; я знаю, что некоторые люди совсем не верят в них!
– Я не могу ни верить и ни не верить, – сказал я, – я никогда не имел случая видеть таких женщин.
– Как? Неужели у вас в Нью-Йорке нет ворожей, гадалок, колдунов?
– Думаю, что есть, но я их не видел и никогда не слышал о них ничего, и если вы намерены пойти к этой тетушке Доротее, то я охотно пойду с вами.
Гурт очень обрадовался и признался, что одному ему ужасно не хотелось идти в ее берлогу, а со мной он готов пойти к ней сейчас же.
Здесь я должен сказать, что со времени приключения на льду я ни разу не говорил Аннеке о своей любви; мне казалось, что после услуги, оказанной ей мною, нехорошо было бы требовать награды за нее, да и по отношению к Бельстроду я считал некорректным использовать чувство благодарности девушки в мою пользу, а между тем мое настроение было не из веселых.
– Только знаете ли, Корни, нам нельзя идти к ней так, какие мы есть; необходимо переодеться простыми рабочими и слугами! Возьмите у вас в гостинице у кого-нибудь из слуг его костюм на несколько часов; что касается меня, то я привык ко всяким переодеваниям; меня никто не узнает. Это вместе с тем послужит и пробным камнем для талантов колдуньи, пусть она сумеет угадать наше звание и социальное положение под маскарадным нарядом! Переоденьтесь и приходите ко мне, Корни; я буду уже готов, и мы отправимся вместе к колдунье.
Все было сделано, как сказано, и когда я пришел к Гурту, он сам открыл мне дверь, я принял его за слугу и спросил, дома ли его барин.
Гурт очень тщательно замаскировался, я же был в этом отношении довольно небрежен, но, встретив на улице мистера Вордэна, решил испытать, можно ли меня узнать в моем новом наряде, и, подойдя к старику, изменившимся голосом спросил его:
– Ваше преподобие, это вы венчаете людей бесплатно?
– Бесплатно, а также платно, и предпочитаю последнее! – ответил он. – Но скажите, ради Бога, Корни, зачем вам вздумалось так нарядиться?
Пришлось признаться ему, и едва он узнал о нашем намерении, как стал просить, чтобы мы прихватили и его с собой. Нечего делать, мы вернулись к Гурту; мистер Вордэн быстро переоделся и стал действительно неузнаваем, так как мы все привыкли его всегда видеть в духовном платье.
– Я иду с вами, Корни, только потому, что я обещал вашей матушке постоянно быть возле вас, когда вы затеете какую-нибудь глупость, – сказал старик, а, в сущности, ему просто хотелось позабавиться вместе с нами.
Судя по наружному да и по внутреннему виду дома, ремесло колдуньи не было слишком прибыльным: все было довольно грязное и довольно убогое. Нас впустила молодая женщина и сказала, что тетушка Доротея сейчас занята с двумя посетителями, но скоро придет и наша очередь, и попросила нас войти в маленькие сенцы, смежные с главной комнатой, где находилась Сивилла и ее посетители.
Через притворенную дверь были слышны голоса, и я сидел так, что с моего места были видны ноги одного из этих посетителей, судя по знакомым мне пестрым шерстяным чулкам это был Язон, а когда он заговорил, то в этом уже не осталось ни малейшего сомнения. Он говорил довольно громко и убежденно; гадалка отвечала ему тихим, скрипучим голосом, тем не менее каждое ее слово доносилось до меня.
– Ну что же, тетушка Доротея, я вам хорошо заплатил за труды, не так ли? Теперь я хотел бы знать, есть ли здесь, в этой колонии, дело, подходящее для бедного молодого человека, как я, имеющего достаточно друзей и достаточно достоинств?
– Ты под этим молодым человеком подразумеваешь себя, – говорила колдунья, – я это вижу по картам, ты здесь затеял дело, хорошее для тебя дело, не бросай ничего, ни от чего не отказывайся и оставляй все у себя, это лучшее средство преуспевать в жизни.
– Право, Дирк, этот совет мне очень по душе, и я думаю, что я ему последую! Но теперь поговорим о земле и о месте для мельницы…
– Да, да… вы думаете приобрести… карты так и говорят, – приобрести землю; да… подождите немного, я вижу воду… да, да, это вода!.. место очень удобное для мельницы… Но это еще не мельница, а лишь место для нее; мельницу еще нужно построить, и вы хотите купить эту землю и эту мельницу за бесценок… да, да… за бесценок!
– Спасибо вам, тетушка Доротея, а теперь скажите, как закончится моя жизнь, и я больше не буду беспокоить вас расспросами!
– Закончится хорошо, прекрасно, мирно и по-христиански… Подождите, я вижу на вас как будто священнические одежды и книгу в руках.
– Нет, нет, это, видно, не я! Я не сторонник богомолья…
– Но я вижу, что это вы. Вы не любите англиканского духовенства, осмеиваете его, да… Но это вы – пресвитерианский священник, руководящий каким-то тайным собранием.
– Ну, довольно! – сказал Язон. – Пойдем, Дирк: мы и так уже задержали тетушку Доротею, а я слышал, что ее ждут другие посетители!
Язон встал и вышел из дома, пройдя через сени и не удостоив нас даже взглядом. Но Дирк задержался еще на минуту; он, по-видимому, не был доволен тем, что ему было предсказано раньше.
– Так вы думаете, что я никогда не женюсь? – спросил он таким голосом, судя по которому было видно, что он придавал этому вопросу очень серьезное значение. – Я хотел бы это знать точно, прежде чем уйти отсюда.
– Молодой человек, у меня что один раз сказано, то сказано! Не я делаю будущее, – отвечала гадалка. – Оно не в моих руках, и я ничего не могу изменить. Ваш король – и ее король; она ваша королева, но вы не ее господин и никогда им не будете. Но если вы найдете женщину английской крови с сердцем голландки, у которой не будет возлюбленного в Англии, тогда сватайтесь к ней, и вам будет удача, не то оставайтесь, как вы есть один, до конца жизни!
Я услышал, как бедняга Дирк глубоко вздохнул; я знал, что он думал об Аннеке; он прошел через сенцы, не поднимая головы от пола, и поэтому не видел нас. Я знал, что он ушел от тетушки Доротеи с разбитыми надеждами, быть может, с разбитым сердцем, и впоследствии мне всегда казалось, что посещение колдуньи имело большое влияние на его судьбу!
Настала наша очередь. Нас впустили в смежную комнату, где находилась сама тетушка Доротея, а по полу скакал старый ручной ворон. Колдунье на вид было лет шестьдесят; худая, морщинистая, с седыми клочьями волос под черным кисейным чепцом, в сером платье, одного цвета с бегающими, глубоко впавшими глазами – она своей наружностью вполне соответствовала своему ремеслу.
Войдя, мы все трое поклонились и положили на стол перед ней каждый по одному французскому экю. Со времени появления французских войск у нас в колониях эта монета стала ходкой; утверждали даже, что посредством этого талисмана французы добывали у некоторых наших поставщиков все, что им было необходимо.
С общего согласия было решено, что в первую очередь станут гадать мистеру Вордэну, причем мы останемся в комнате. Старуха стала тасовать колоду страшно грязных карт, а глаза ее все время пытливо и тревожно перебегали с одного на другого, словно впивались в наши души. Затем она попросила мистера Вордэна снять карты и долго и внимательно разглядывала их после этого. Никто из нас за это время не проронил ни слова, и все невольно вздрогнули, когда вдруг раздался тихий свист, на который черный ворон поспешил к своей госпоже и тут же уселся у нее на плече.