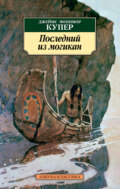Джеймс Фенимор Купер
На суше и на море. Сатанстое (сборник)
Глава IX
Когда любовь впервые засветит свой факел перед очами нашими, то свет ее кажется нам столь ослепительным, как луч денницы. Почему же впоследствии, глядя на него, наши глаза так часто затуманивают слезы?!
Гебер
До усадьбы оставалось еще две мили, когда Герман Мордаунт присоединился к нам. Мы проехали через небольшой лесок и очутились на возвышенности, откуда открывался превосходный вид на Гудзон. На противоположном берегу возвышались высокие утесы, в этом месте река имела почти три четверти мили ширины и ослепительно сверкала на солнце. Деревья только что оделись молодой листвой, птицы щебетали на каждой ветке, полевые и лесные цветы раскрывали свои пестрые чашечки на каждом шагу, и все в природе как будто радовалось и пело – говорило о счастье и любви.
– Это любимое место моих прогулок, – сказал Мордаунт, – и моя дочь часто сопровождает меня в этих утренних прогулках, она также хорошая наездница. Она, вероятно, и теперь где-нибудь здесь, они обе с мисс Уаллас обещали последовать за мной, как только будут готовы.
В этот момент Дирк радостно вскрикнул и помчался во весь опор: вдали показались две амазонки, и ничто не могло удержать его на месте. Спустя несколько минут и мы подъехали к дому.
Никогда еще Аннеке не казалась мне столь прелестной, как в костюме амазонки и темной шляпе с большим пером, спускавшимся на плечо. Утренний воздух разрумянил ее щечки, при виде нас лицо ее засветилось радостной и приветливой улыбкой, свидетельствовавшей о том, что гости очень приятны ей.
– Ваш батюшка сказал, что это ваша излюбленная прогулка, мисс Мордаунт! Как жаль, что Сатанстое так далеко отсюда; у меня была бы по крайней мере надежда иногда встретить вас здесь утром! – заметил я.
– У меня есть кое-кто из знакомых на реке Харлем в тех местах, где вы живете, – отвечала девушка, – но не по соседству с вашим поместьем. В прежние времена мой отец иногда охотился в долинах Сатанстое; он мне рассказывал об этом!
– Мне даже кажется, будто мой отец охотился с вашим, а теперь его примеру обещал последовать мистер Бельстрод! Скажите, пожалуйста, после того как вы успели все это обсудить, какое впечатление произвел на вас этот спектакль?
– Мне кажется, что он продолжался на час дольше, чем следовало! Но это, конечно, не мешает мне отдать должное искусству мистера Бельстрода, из него несомненно вышел бы выдающийся комедиант при других условиях!
– Но ведь он должен унаследовать большое состояние и титул баронета!
– Да, говорят! И все-таки он приехал сюда, в колонии, на войну! Не правда ли, это очень похвально, мистер Литтлпейдж?
Я вынужден был согласиться, но меня очень задел этот вопрос. Я никак не мог разобраться в чувствах Аннеке по отношению к блестящему майору. Когда о нем говорили, она всегда слушала с видимым равнодушием, но замечания, подобные этому, смущали меня.
– Как красивы эти высоты! – воскликнул я.
– Да, в настоящее время они служат лишь пастбищем для скота, но кто знает, что будет через несколько лет!
– Вероятно, все они застроятся домами и дачами; здесь так близко от города! – заметил Язон.
– Весьма возможно, все стараются округлить свои владения и приобретают земли даже в стороне. Я слышал, мистер Литтлпейдж, что ваш отец с другом моим, полковником Фоллоком, также приобрели большой участок земли недалеко от Олбани? – обратился ко мне Мордаунт.
– Ну, не очень большой, всего сорок тысяч акров, и не особенно близко от Олбани; будущей весной мы с Дирком должны отправиться на розыски этой земли, и тогда в точности будем знать, где она находится.
– В самом деле! – воскликнул Герман Мордаунт. – Но в таком случае мы легко можем там с вами встретиться. Я тоже собираюсь проехать в Олбани будущей весной по своим делам.
– Вы уже, вероятно, раньше бывали в тех краях!
– О, не раз, и до женитьбы, и после женитьбы, и каждый раз по делам! – сказал мистер Мордаунт.
– Мой отец был там, когда находился на службе; во всяком случае, я решил совершить это путешествие, потому что молодым людям в моем возрасте полезно повидать свет; если в то время там будут драться, то мы с Дирком поступим в ряды войск! – добавил я.
Разговаривая таким образом, мы подъехали к воротам Лайлаксбуша. Так как майора Бельстрода не было, то я имел честь снять мисс Мордаунт с седла; кругом все утопало в цветущей сирени, очаровательный аромат которого наполнял воздух.
– Да это какое-то сказочное царство! – невольно воскликнул я.
Аннеке улыбнулась.
– Действительно, у нас здесь хорошо! – подтвердила она. – Я очень люблю Лайлаксбуш!
– Аннеке, – сказал мистер Мордаунт, когда мы уже сидели за завтраком, – слышала ли ты, что мистер Литтлпейдж собирается весной на север? Полк Бельстрода тоже со дня на день ожидает приказа перевестись в Олбани, так что мы можем надеяться на встречу среди голландцев!
– Надеюсь, что и кузен Дирк присоединится к вашей компании? – спросила Аннеке.
Дирк ответил утвердительно, и разговор перешел на приятные встречи со знакомыми на чужбине. Из всех нас один Герман Мордаунт был так далеко от места своего рождения.
– А я-то, – сказал Язон со свойственной ему вульгарной фамильярностью, – во время моего последнего путешествия не ездил дальше Данбюри! Что мне рассказывать о пользе путешествий! Я превосходно изучил разницу между Нью-Йорком и Коннектикутом!
– И какую же из этих двух колоний вы предпочитаете, мистер Ньюкем? – спросила Аннеке.
– Вот видите ли, мисс, – отозвался Язон, ни за что не хотевший отстать от своей невежливой и дурной привычки, – это вопрос в высшей мере коварный; на такую тему нет возможности расстегнуться на все пуговицы, не нажив себе врагов. Нью-Йорк, конечно, большая колония, против этого я не спорю, но всем известно, что она раньше была голландской колонией, а Коннектикут с самого своего основания имел высокое преимущество прекраснейшей территории с населением в большой степени нравственным и религиозным.
Герман Мордаунт широко раскрыл глаза от удивления, слыша подобный ответ, но Дирк и я уже привыкли к образу мыслей и выражений Язона, и нас он этим ответом совсем не удивил.
– И вы заметили большую разницу в обычаях этих двух колоний? – спросил мистер Мордаунт.
– Громадную! – воскликнул Язон. – Вот вам пример, если хотите! В Коннектикуте подобная вещь никогда не могла бы случиться, дело идет о молодой мисс, вашей дочери; вы знаете, конечно, что мы все ходили смотреть льва; итак, Корни заплатил за мисс, все было, как надо быть…
– Разве моя дочь забыла вернуть ему деньги? – спросил с недоумением хозяин дома.
– Забыла? Нет, она этого не забыла и на выходе из балагана тотчас же вернула Корни стоимость билетов, но представьте себе, что Корни взял у нее эти деньги! Я смело могу утверждать, что в целом Коннектикуте ни один мужчина этого бы не сделал. Если мы не станем угощать девиц, то кто же их станет угощать?
Герман Мордаунт понял, что сердиться на этого господина нельзя, и, с изысканной вежливостью обращаясь к Язону, сказал:
– Вы должны извинить мою дочь, что она придерживается наших обычаев, мистер Ньюкем; она еще так молода и так мало знакома со светскими приличиями!
– Но, Корни! – воскликнул возмущенным тоном Язон. – Как мог Корни допустить подобную оплошность!
– Что вы хотите; мистер Литтлпейдж, как и моя дочь, еще не бывал в Коннектикуте!
На этом и закончился столь занимательный разговор.
Я покинул Лайлаксбуш серьезно влюбленным; с первого взгляда девушка произвела на меня сильное впечатление, но после того, как я увидел ее в домашней обстановке, она окончательно завладела моим сердцем. Доказательством этому могло служить то, что я совершенно забывал о Дирке, который, несомненно, имел больше меня прав на ее любовь. Герман Мордаунт тоже был к нему, видимо, очень расположен, и, быть может, втайне он лелеял мысль о браке его с дочерью, тем более что молодой геркулес обладал прекраснейшим характером и безупречной во всех отношениях репутацией. Но при всем этом Дирк не внушал мне никаких опасений. Я несравненно больше опасался Бельстрода, видя и сознавая все его преимущества передо мной. Быть может, если бы я мог чаще видеть перед собой в образе соперника моего милого Дирка, во мне хватило бы великодушия отступить и предоставить ему поле действий, но я положительно забывал о нем, и теперь, уезжая из Лайлаксбуша, не думал о его любви к Аннеке. Великодушие было чуждо моей душе, когда я думал об этой девушке.
– А знаете ли, Корни, что эти Мордаунты изрядные толстосумы, – сказал Язон, когда мы выехали на большую дорогу. – У них на столе было больше ценной посуды, чем во всем городе Данбюри! Верно, старик чудовищно богат! И поверьте мне, – продолжал Язон, – он недаром выставляет всю эту посуду напоказ! Когда есть дочь-невеста, ее, естественно, хотят пристроить за какого-нибудь из этих богатых английских офицеров, которые сейчас справляют сенокос у нас в колониях! А скажите, этот Бельстрод, о котором несколько раз упоминали в разговоре, кто он такой? Офицер? Да?.. Меня редко обманывает предчувствие, и мне кажется, что именно он станет мужем прелестной мисс…
При этих словах я заметил, что Дирк вздрогнул; меня тоже всего передернуло.
– А можно узнать, мистер Ньюкем, на чем вы основываете свои предположения? – спросил я.
– Да полно вам, что это за «мистеры»? Здесь, на большой дороге, а не в городе, я предпочитаю, чтобы друзья называли друг друга по имени: это проще, короче и лучше. Вы хотите знать, на чем я основываюсь? Да, прежде всего на том, что когда у кого-нибудь есть дочь на шее, то от нее стараются избавиться, то есть стараются сбыть ее с рук как можно скорее; затем, почти все эти офицеры люди богатые, а все родители ищут и любят богатых зятьков. Кроме того, среди них есть и такие, которым предстоит унаследовать титул, а это в высшей степени соблазнительно для каждой девушки. Я уверен, что в Данбюри ни одна не устояла бы против титула.
Надо заметить, что хотя жители Коннектикута проще, чем где-нибудь в колониях, и равенство классов у них развито сильнее, чем где-нибудь, нигде так не преклоняются перед титулами и отличиями, как именно в Коннектикуте.
В Сатанстое мы прибыли намного позже из-за остановки в Лайлаксбуше. Матушка моя была страшно рада вновь увидеть меня целым и невредимым после двухнедельного отсутствия и пребывания в Нью-Йорке, среди всех соблазнов и искушений столичной жизни. Мне пришлось рассказать ей все, где я был и что видел, рассказать про Пинкстер, и про льва, и про любительский офицерский спектакль. И вот однажды, когда я сидел в своей комнате, сочиняя стихи, что мне очень тяжело давалось, матушка вошла и села возле моего стола.
– Пиши, пиши, – сказала она, – я не буду тебе мешать!
– Да я уже закончил, – ответил я, пряча бумагу в стол, – я просто переписывал стихи!
– Ты пишешь стихи? – спросила она. – Ты поэт?
– Упаси меня Бог! Да это не лучше, чем быть школьным учителем, как Язон!
– Кстати, о нем! Скажи, пожалуйста, как это случилось, что ты спас из пасти льва какую-то молодую девушку, как мне рассказывал мистер Ньюкем?
Вероятно, я покраснел как рак, потому что почувствовал, как кровь прилила мне в голову, и я не в состоянии был произнести ни слова.
– Да отчего же тут краснеть, мой милый? Семья Мордаунт такая уважаемая, что оказать им услугу и быть принятым у них в доме должно быть приятно каждому молодому человеку! Так как же, борьба твоя со львом была очень опасная?
– Да борьбы никакой не было, прежде всего! Это все сочинил Язон! – вскрикнул я и рассказал все, как было в действительности.
– Ведь Аннеке Мордаунт – единственная дочь, как мне сказал Дирк?
– Так Дирк вам говорил о ней? – спросил я.
– Да, очень часто! Ведь они родственники так же, как и ты!
– Как и я? – воскликнул я. – Да разве мы в родстве с Мордаунтами?
– Да, не очень близком, но все же в родстве: моя прапрабабушка, Алида Ван дер Гейдэн, была двоюродной сестрой прапрабабушки Германа Мордаунта; таким образом, ты и Аннеке родственники. Говорят, она очень симпатичная девушка…
– Симпатичная?! Ах, мамаша, она красавица; она настоящее совершенство во всех отношениях, она положительный ангел!
Пылкость, с какой я высказал эти похвалы, по-видимому, очень удивила мою матушку, но она не сказала ни слова, а перевела разговор на урожаи, на хозяйство, очевидно, удовлетворившись тем, что она узнала, и не желая большего.
Вслед за прекрасным и столь знаменательным для меня месяцем маем наступило лето. Я всячески старался найти себе дело, работу, проводил целые дни в поле, помогал отцу в подсчетах, но ничто не могло отвлечь меня от мысли об Аннеке. И вот, когда в середине лета к нам приехал Дирк и предложил мне поехать вместе с ним к Мордаунтам, я сильно обрадовался этому предложению.
Как человек предусмотрительный и осторожный, Дирк предварительно написал Герману Мордаунту, чтобы узнать, не побеспокоим ли мы их своим приездом. Ответ не заставил себя долго ждать: нас приглашали самым радушным образом. Мы выехали из дома с таким расчетом, чтобы приехать в Лайлаксбуш незадолго до обеда. Аннеке встретила нас, немного раскрасневшаяся и оживленная, с милой, приветливой улыбкой на лице. От нее мы за обедом узнали, что любительские спектакли офицеров продолжались до самого ухода полка из Нью-Йорка. Аннеке, живя в имении, была за все это время только на трех представлениях и настолько хвалила, насколько и порицала эти спектакли, отдавая справедливость превосходной игре мистера Бельстрода.
Уступая настояниям наших радушных хозяев, я согласился заночевать в Лайлаксбуше, но на другой день мы с Дирком уехали вскоре после завтрака. Я привез Герману Мордаунту настоятельное приглашение от имени моих родителей приехать к нам отведать нашей рыбы и дичи, вместе с барышнями, и в сентябре Герман Мордаунт и обе барышни приехали к нам. Они пробыли у нас день и уехали в тот же вечер. Я поехал их проводить и простился с Аннеке, на этот раз на несколько месяцев.
1757 год был памятным для колоний. Монкальм захватил форт Вилльям-Генри и перерезал весь гарнизон, после чего неприятель завладел Чампленом и занял Тикондерогу. Все это вызвало весьма пониженное настроение в колониях; весной предполагалось предпринять с помощью подкреплений, ожидаемых из Англии, и призыва местной молодежи усиленные нападения на неприятельские отряды, чтобы вернуть свои потери. Лорд Лаудон был отозван и замещен старым воякой Аберкромби; из Индии прибывали новые полки; вместе с ними приехала и труппа профессиональных актеров, и следующая зима в Нью-Йорке была столь богата увеселениями, что слухи об этом дошли даже до Сатанстое.
Глава X
Милый друг, какое счастье, что я тебя встретил в Савойе! Осужденный блуждать по свету без родины, без приюта, я забыл все невзгоды при пожатии дружеской руки.
Барлоу
Зима подходила к концу, и мне исполнился двадцать один год. Отец и полковник Фоллок, который нынче чаще прежнего приезжал к нам, стали серьезно поговаривать о путешествии, которое мы с Дирком должны были предпринять. Раздобыв карты, стали разрабатывать маршрут; громадный план Мусриджа (Оленьей Горы) – так именовалось наше новое владение – внушал мне чувство вожделения[2]: на плане всюду значились холмы, речки, озера и леса. Быть владельцем или совладельцем всего этого мне казалось весьма завидным.
Прежде всего следовало решить, каким образом Дирк и я доберемся до Мусриджа, водой или сухопутным путем.
Можно было дождаться, когда река очистится ото льда, и, воспользовавшись одним из судов, отплывающих раз или два в неделю из Нью-Йорка в Олбани, прибыть в этот город без особых затруднений. Но теперь, по случаю войны, все эти суда будут, без сомнения, заняты войсками, главным образом для доставки продуктов и припасов, вследствие чего пришлось бы испытывать много задержек и постоянно иметь дело с фуражирами, провиантмейстерами и разными поставщиками.
Дед мой, седовласый старик, проводивший обыкновенно все утро в халате и колпаке, но никогда не забывавший переодеться к обеду в камзол и парик, неодобрительно покачал при этом головой и сказал:
– Старайся иметь как можно меньше дел с этим народом, Корни! Знайте, что если вы попадете в их лапы, то они отнесутся к вам, как к бочонку солонины или мере картофеля, и если уж вам придется следовать за войсками, то лучше оставайтесь среди настоящих солдат, но только не среди этих пиявок поставщиков!
Значит, о водном пути лучше было не думать, а сухопутным путем, если воспользоваться санной дорогой, можно было добраться до Олбани за три, может, четыре дня. Решено было выбрать этот последний путь. Когда все было готово для нашего отъезда, родители наши преподали нам свои наставления.
Позвав меня в свой кабинет, отец сказал:
– Корни, мой друг, вот бумаги, удостоверяющие наши права на те земли, а вот карта той местности и рекомендательные письма к некоторым военным на случай, если вам придется следовать за армией. Вот это письмо к моему бывшему капитану Чарлзу Мерреуезеру, который теперь уже полковник и командует батальоном. Свинина такого сорта, какую мы нагрузили на сопровождающий вас транспорт продовольственных продуктов, должна продаваться не дешевле трех демижое (два пенса) за бочонок, а мука в настоящее время не дешевле двух демижое. Да вот тут есть письма и к Скайлерам; это очень знатные люди, и я служил с ними, когда был в твоих годах, они родственники Ван-Кортландов и даже Рейсселаеров! Ах да, если они будут у вас покупать соленые языки, помеченные на бочонке буквой Т…
– Кто? Скайлеры?
– Да нет же, конечно, поставщики армии… то ты скажи им, что эти языки домашнего засола и что их можно подать к столу самого главнокомандующего.
Такие были напутственные наставления отца; наставления матери были несколько иного характера.
– Корни, дитя мое, ты сейчас уезжаешь от нас; не забывай же моих наставлений и того, чем ты обязан самому себе и своей семье. Рекомендательные письма, данные тебе, раскроют перед тобой двери всех лучших домов. Ищи же преимущественно общества почтенных пожилых дам, молодые люди много выигрывают, бывая в таком обществе, и в смысле своего поведения, и в образе мыслей и взглядов на жизнь!
– Но, дорогая матушка, если мы будем следовать за армией, как того желает отец и полковник Фоллок, то как же мы сможем вращаться в обществе этих почтенных дам?
– Я говорю о том времени, когда вы будете в Олбани. Правда, я не знаю, что вы будете делать при армии, раз оба не военные. Я достала для тебя рекомендательное письмо к миссис Скайлер, занимающей первое место в графстве, и непременно желаю, чтобы ты вручил ей это письмо в собственные руки. Оказывается, что Герман Мордаунт…
– Как, неужели Герман Мордаунт и Аннеке?..
– Я ничего не сказала об Аннеке, – заметила, улыбаясь, мать, – но действительно сестра пишет мне, что Герман уже около месяца как уехал вместе со своей дочерью и мисс Уаллас в Олбани с каким-то секретным поручением от правительства. Но в Нью-Йорке поговаривают, что он выхлопотал себе это поручение, чтобы иметь предлог быть поближе к известному полку, в котором служит один его дальний родственник, намеченный им в зятья.
– Подобное предположение чудовищно! – воскликнул я. – Никогда столь навязчивое поведение не могло прийти в голову Аннеке!
– Не ей, конечно, но ее отцу! Это дело другое! Мы все, отцы и матери, чрезвычайно смелы, когда дело идет о счастье наших детей.
– Но кто может поручиться, что в этом ее счастье? И кто может знать, что творится в мыслях Германа Мордаунта! – воскликнул я.
– Люди обыкновенно судят по себе. Признаюсь, Корни, никакая невестка не была бы мне более приятна, чем Аннеке Мордаунт. Но майор Бельстрод – соперник очень серьезный!
– Другой невестки, как она, у вас, мамаша, не будет! – решительно воскликнул я. – Или я вовсе не женюсь!
– Что ты, бог с тобой! Такой молодец, за которого с радостью пойдет любая девушка, и вдруг не женится! Да этого быть не может!
– Ну, не станем больше говорить об этом, а лучше скажите, правда ли, что мистер Вордэн тоже уезжает в действующую армию?
– Совершенно верно, и не только он, но и мистер Ньюкем тоже!
Спустя дня три после этих напутствий наш маленький отряд выехал из Сатанстое. Наш обоз с продуктами, состоявший из нескольких саней, нагруженных доверху солониной, свининой и всеми просоленными продуктами сельского хозяйства полковника Фоллока, был отправлен под конвоем под ответственность Джепа и еще трех негров несколькими днями раньше, с таким расчетом, чтобы прибыть одновременно с нами в Олбани.
Наши сани были щедро снабжены буйволовыми и медвежьими шкурами, защищавшими нас от ветра и холода. На переднем сиденье разместились Дирк и я, на заднем – мистер Вордэн и Ньюкем.
Мы выехали из Сатанстое первого марта 1758 года. Погода стояла великолепная, хотя у нас в том году снега было не очень много. Надо быть очень хмурым и мрачно настроенным человеком для того, чтобы путешествие в санях не подействовало бодряще и не показалось веселым и приятным.
Все мы были весело настроены, но Язон не мог не критиковать все, что ему попадалось на глаза; по его мнению, все отдавало Голландией или Йорком: двери домов были не там, где бы он желал, окна находились или слишком высоко, или низко, от жителей разило табаком – словом, все решительно было ему не по душе.
Не успели мы отъехать несколько миль от дома, как все признаки оттепели стали налицо, и мы поняли, что нам надо спешить, если мы не хотим застрять в пути. К вечеру мы прибыли в замок Ван-Кортланд. На следующий день ветер опять был южный, но мы уже поднялись в горы и продолжали ехать вперед, не теряя времени, и перед наступлением ночи прибыли в Фишкилль. Это было цветущее селение, жители которого, по-видимому, очень мало интересовались тем, что происходило кругом. Здесь мы заночевали и утром, выехав из этого местечка, заметили сильную перемену климата. Здесь была настоящая зима: воздух был резкий; снег лежал толстым слоем на земле и на крышах домов, и сани неслись по нему, как крылатые птицы. Днем мы догнали наш обоз, но оставили его позади и продолжали свой путь тем же форсированным маршем. Местами мы видели реку, еще скованную льдом, но предпочитали не уклоняться от большой проезжей дороги, считая этот путь более надежным.
На следующий день мы приехали в одну голландскую гостиницу, от которой недалеко было и до Олбани. Здесь мы решили передохнуть и немного оправиться после дороги. Как Дирк, так и я в дорогу надели собольи шапки, а Язон более скромную, лисью; только старик Вордэн не счел приличным для своего звания расстаться со своей обычной шляпой. Кроме меховых шапок, на всех были меховые шубы. После некоторого обсуждения этого вопроса мы с Дирком решили, что самое приличное въехать в город в дорожных костюмах и, лишь остановившись в гостинице, поменять их на городское платье. Но Язон рассудил иначе. Он был такого мнения, что в данном случае следует надеть все, что есть лучшее, и, к сильному моему удивлению, предстал перед нами в черных атласных брючках и яблочно-зеленом фраке, в пестрых шерстяных чулках и башмаках с громадными серебрянными пряжками. Конечно, светлый, яблочно-зеленый фрак был не по сезону, особенно здесь, где лежал глубокий снег и река была скована льдом. Но к счастью, погода стояла не особенно морозная, и солнце, немного обогревая несчастного Язона, помешало ему окончательно замерзнуть в его светло-зеленом фраке. Переодевшись, умывшись и отдохнув, мы поехали дальше и вскоре подъехали к берегу реки, где глазам нашим впервые предстали колокольни и крыши старинного города Олбани.
В первую минуту никто из нас не решался переправиться через Гудзон по льду в санях в марте месяце, но Язон на этот раз высказал совершенно правильную мысль.
– Посмотрите, – сказал он, – видите, вся река пестрит санями, между тем есть дорога и южнее, и севернее, а люди все-таки едут здесь. Но если местные жители едут по льду, то это доказательство, что ехать здесь не представляет опасности!
Это было вполне резонно, но старик Вордэн ни за что не решался ехать в санях и предпочел перейти реку пешком; он опасался даже идти возле саней и поэтому не пошел проторенной тропой, а стал пробираться сторонкой по снегу.
При виде такого множества саней, заполненных веселой разряженной молодежью, мы подумали, что тут какой-нибудь праздник. Когда мы были посередине реки, мимо нас пронеслись с быстротой стрелы богато разукрашенные сани; впереди стоял и правил лошадьми закутанный в меха возница, в котором я с первого взгляда узнал Бельстрода, а в санях, среди шести розовых девичьих лиц, мне бросилось в глаза лицо Аннеке Мордаунт. Не знаю, узнали ли нас, но я не мог не оглянуться назад и не взглянуть еще раз на это виденье; в этот момент я увидел презабавную сцену: старик Вордэн бежал что есть мочи по снегу, направляясь к набережной, за ним гнались легкие сани. Видя, что почтенный старец бредет пешком, сидевшие в санях молодые люди хотели догнать его и предложить ему сесть в их экипаж, но испуганный старик бежал изо всех сил, пока, едва дыша и чуть не падая от изнеможения, не добежал наконец до набережной.