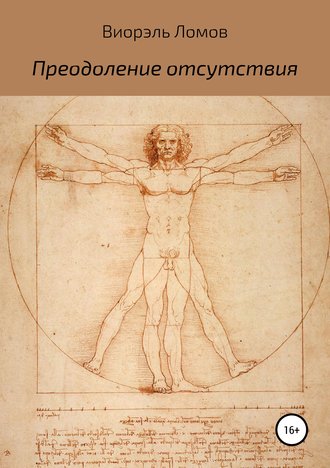
Виорэль Михайлович Ломов
Преодоление отсутствия
Глава 56. Гера. Кому таторы, а кому ляторы, или Полет духа без трусов
Как-то в обед тип с востока представил нам очаровательную женщину:
– Это ваш экскурсовод Гера. Она в полном вашем распоряжении на все время карантина. С 9.00 до 18.00, включая выходные. Если вечером будете на каком-либо представлении или в ресторане, утром она будет являться позже. Гера окончила электротехническую академию по специальности «роторы».
Боб сидел тихий – у него был очередной профилактический день, и ковырял вилкой в тарелке, однако на сестру по профессии посмотрел почти с профессиональным интересом.
– А статоры вас интересуют? – задал он вопрос.
– Нет. Так же как и роторы, и коммутаторы, и аккумуляторы, и иже с ними. Меня в искусстве интересует эротика, а в жизни вкусная еда.
– Кому таторы, а кому ляторы, – сказал Рассказчик.
– Да что ты говоришь? – рявкнул Борода. – Меня тоже интересует вкусная еда!
– Надеюсь, нам не придется хлебать щи из одной миски?
Боб от восторга завязал вилку узлом.
Гера порылась в сумочке, достала записную книжку, позвонила куда-то и потащила нас вместе с ожившим Бобом на премьеру балета «Сапфо». По пути она убеждала нас, что человек произошел от красивой эротики, а умирает от вкусной еды. В человеке все должно быть эротично: и взгляд, и одежда, и походка, и мысли. Это был, конечно, перифраз – новый взгляд на старые вещи, но он подходил к случаю. К Гере, во всяком случае. Красивая женщина. Возбуждающе красива. Где я ее видел раньше? Кого-то она мне безусловно напоминала. Но кого? Гера взглянула на меня и улыбнулась.
– А это что? – спросил Борода, указывая на розовый особняк крайне неприличного вида.
– Стриптиз-бар «Анатомия души». А рядом новый медитативный центр. Они, кстати, соединены зимней галереей, что иногда весьма кстати.
– «Мас-тур-ба-тор», – прочитал Борода на вывеске медитативного центра.
– Что-то монгольское, – сказал Боб. – Улан-Батор?
– Первые упоминания об этом… – подхватил тему Рассказчик.
– Нравятся вам наши Галеры? – услышал я и вздрогнул от неожиданности. Я никак не думал, что Гера о чем-либо спросит меня, пожал плечами и промычал что-то в ответ. Она задала еще пару вопросов, но у меня сегодня не клеилось с ответами, и она, как-то странно (да-да, именно странно) посмотрев на меня и усмехнувшись, перестала задавать вопросы и остаток пути мы прошли молча. И каждый был в себе, но как бы чувствовал и другого. Странно. Раз только она указала на высокую колонну и что-то рассказала о ней. Через день я вспомнил и сообразил, что колонна совершенно не опирается на землю, ее поддерживает в воздухе именно сила отталкивания земли, поскольку они одного заряда. А что держит меня на этой земле?
Балет собрал городскую элиту: властей всех мастей, румяных гигантов почетных профессий, а также похожих на козлов и фавнов деятелей искусства. Последних отличало редкое сочетание горделивости осанки с живостью телодвижений и особый блеск глаз. И еще – непогрешимость каждого изрекаемого ими слова. Женщины были между ними, как сочная зелень среди румяных кусков жаркого. Зрительный зал, судя по всему элитарный, представлял собой круглое помещение, по центру которого была арена, вокруг которой располагались десять рядов кожаных кресел красной обивки. Вдоль круга стены горельефы иллюстрировали древнее искусство индусов. Под потолком были прилеплены гнезда стрижей, по стенам свешивалась спаржа вперемешку с гроздьями бананов, в аквариумах вдоль стен извивались угри, по потолку, причудливо извиваясь, бежала строчка огней, как по новогодней елке, – приглядевшись, можно было угадать кабана, покрывающего даму своего сердца, причем процессу этому не было конца. Словом, все располагало к отдыху. Зал был очень ярко освещен, и почему-то казалось, что с началом представления свет станет еще ослепительнее. Чтобы ослепить людей, надо дать им много света и слишком яркие зрелища. Слепые развлекают слепых, и все происходит в театральной яме.
Что же касается искусства балета, прочитал я в программке, балетом признавались любые телодвижения, которые их создатель считал искусством, при наличии еще хотя бы одного человека, согласного с тем, что это поистине искусство. Как правило, этим вторым человеком был театральный критик.
Мы сели во втором ряду, грянула музыка. Под звуки фанфар выкатил пузан в смокинге.
– Скарабей! Скарабей! – прошелестело по залу. Оказалось, бургомистр.
– Двойник, – буркнули за спиной.
За плечами Скарабея светились две пары глаз невидимых охранников.
– Обрати внимание, Боб, перед тобой типичный мусульманин, – сказал Борода. – Смотри, какой гульфик!
– Я тоже буду скоро беем, – ответил Боб.
Бургомистр поздравил всех с открытием трехтысячного (может, я ослышался?) фестиваля искусств Галер. Закончил он афористично:
– Сейчас над залом полетит птица, имя ей искусство, – сказал Скарабей и укатил в сторону.
И тут же замахало крыльями искусство: на черную, освещенную со всех сторон арену выскочили, словно черти, откуда-то из-под земли артисты балета и под пульсирующую музыку и пульсирующий свет (казалось, что даже красные кресла пульсируют вместе с ними) стали на цыпочках скакать по сцене и прыгать друг на друга. Когда образовалась куча мала, на нее сверху, с чердака, наверное, свалились еще две-три пары свежих, как мандарины, артистов, и тут началась такая свалка, что у меня заломило в висках. Все разом, как хор в «Аиде», опять стали таскать друг друга на руках, коленях, плечах и шеях, гладить, обнимать, тискать и целовать без устали. А отдельные пары так переплелись, что были как отдельные осьминоги, напоминающие то ли Вишну, то ли Кришну, то ли швабру на корабле. Ни один из танцоров не занимался в это время каким-либо другим делом, как это часто бывает в драме, а все как один (как, повторяюсь, хор в «Аиде») сошли от великой любви с ума, то есть пришли в свое естественное состояние. Кончилось все это апофеозом любви такой силы, которой могли бы позавидовать гамадрилы и бабуины, а разобрать в этих морских узлах, где чье тело, не было никакой возможности. Где там была Сапфо, и вообще что это такое, я тоже не разобрался. Видимо, со времен гладиаторских боев в Риме не было на арене столько страстей и кипящей крови, слава местному богу Посейдону, не проливаемой. В это время выключили прожектора, но арена хорошо освещалась глазами зрителей. В воздухе разлился аромат чеснока, пота и мускуса. Любовь готова – как пирожки с пылу, с жару.
Под гром аплодисментов танцоры, блестящие от пота, поправили трусики, присели раз десять с поклонами и упрыгали со сцены, а на их место вышел, прихрамывая, балетмейстер Дормидонт Хочубаб. Началась пресс-конференция. Зрители тоже утирали пот и переводили дыхание. Волшебная сила искусства, похоже, не обошла их стороной, а прошлась как смычок по натянутым струнам организма. Балетмейстер говорил на том особенном языке, на котором говорят одни балетмейстеры. У него даже самые обычные слова казались особенными: па-де-де, па-де-труа и прочие Па-де-кале балета. И когда он произносил их с особой интонацией, казалось, что они так и вытанцовывают все эти па-де-де и па-де-труа в воздухе и в то же время далеки, как Па-де-кале. На вопрос известной телеведущей, какая проблема для него сегодня самая главная, Хочубаб ответил:
– Сегодня, как и всегда, проблема показа полового акта, поскольку сам балет возник из него и вертится вокруг него. Задача чудовищно сложна: преподнести его так, чтобы благодарный зритель видел, что это не физиология, а искусство и полет духа…
– Полет духа без трусов, – уточнил Рассказчик.
Кресла рядом захихикали. Женщина впереди оглянулась. Спереди она состояла из рта, глаз и бюста, а сзади была сплошная спина.
– Здесь возможны два подхода. Мы прорабатываем их сейчас на репетициях будущей премьеры «Дидоны». Сегодня мне, как и Гамлету, надо решить вопрос: быть или не быть. Если акт есть, зрителя надо убедить, что его нет; а если акта нет, его надо сделать «зримым». И там, и тут зритель сопереживает с одинаковой силой, но все-таки хотелось бы остановиться на чем-то одном, так как через месяц начинается учебный год и хотелось бы внести этот новый курс в учебные программы до начала занятий.
– Предлагаю паллиатив, пока не решите эту проблему, – громко сказал Рассказчик.
Он встал и, извинившись за свою бесцеремонность, сказал, что идти надо вслед за Буддой срединным путем, что истина, как всегда, посередине и, как всякое сокровенное место, в одном и том же неизменном месте. (У Рассказчика Будда был уже расхожим местом). Он предложил начинать танец традиционно, чтобы придать особую прелесть и остроту последующему авангарду.
– Ведь мгновенного притяжения не бывает, – сказал он. – Бац, и в дамки? Нет, надо разыграть партию. Надо продлить период ухаживания и лишь потом вступать в естественную связь. Тут можно поиграть с освещением и ударными, чтобы зрителей этот внезапный переход ударил конкретно и покрепче. А после нескольких специфических па переходить от натурального акта к его имитации. Так разрешится извечный спор натурализма и искусственности, причем победит искусство. Танцоры, надеюсь, психологически и физически хорошо подготовлены (у вас ведь трехактные постановки?), это хорошо видно по их выступлениям. Не думаю, что эти переходы вызовут у них эмоциональный стресс и последующий сплав импотенции с фригидностью, – добавил он. – Кстати, выражение: верхи не могут, а низы не хотят, вопреки весьма распространенному заблуждению, означает отнюдь не революционную ситуацию, а именно вот такой сплав, называемый в просторечии «облом». Роман «Обломов» читали? Там отчасти об этом.
По залу прошелестел довольный шумок. Далее Рассказчик стал красиво говорить о том, что в этом случае энергия танца, а точнее – эякуляция танца, неизбежно выплеснет на зрительный зал заряд поистине зевесовой силы и мощи, и зрители будут наслаждаться зрелищем со слезами на глазах. И для полной погруженности в мир танца неплохо было бы заполнить воздух этого зала, атмосферу неземного искусства, ароматом лаванды и шоколада. Лаванда и шоколад будут дополнительными источниками возбуждения чувства прекрасного у зрителей и зрительниц. Что же касается замечательной музыки, декораций и освещения – тут слов нет, все на должной божественной высоте.
– У вас тут флейтами командует сам Аполлон, а в осветителях служит искусству не иначе как бог солнца Гелиос, – закончил свой опус Рассказчик под гром аплодисментов, а на сцену один за другим вылезли и стали раскланиваться потрепанный страстями Аполлон и пузатый Гелиос в шортах, очень похожий на Скарабея.
Балетмейстер не без интереса выслушал эти предложения, а дама с голой спиной и огромным чувственным ртом с первого ряда загадочно посмотрела на Рассказчика и даже покачала ногами, лежащими одна на другой, как два удава. И хищно откусила полплитки шоколада.
– Рыцарь, мне первый раз в жизни страшно, – шепнул мне на ухо Рассказчик, – посмотри на нее.
Даме с первого ряда явно требовалась квалифицированная помощь. Ей было, видимо, дурно от шоколада. Она мутным взглядом (поверх ясной цели) посмотрела на Рассказчика и попросила проводить ее в вестибюль. Рассказчик, как истинный джентльмен, вздохнул и повел даму из зала. Дама, повиснув у него на руке, жарко говорила об индейке в духовке и пироге с тыквой. Ноги у нее были, что там говорить, классные. Вот уж они-то точно могли объять необъятное.
После балета мы, разумеется, ни Рассказчика, ни даму нигде не увидели.
– Повели кота на мыло, – сказал Борода.
– На обмылок, – поправил его Боб. – Бац, и в дамки.
– Он, как джентльмен, обязан оказать даме первую помощь, – сказала Гера. – Заявочку на девочек делать будем?
Мы с Бородой отказались, а Боб махнул рукой:
– У меня нет проблем!
– Понятно, – улыбнулась Гера и стала прощаться с нами. Мы с Бородой решили идти спать в отель.
– А нет ли желания у нашего милого чичероне скрасить одинокому страннику остаток этого прекрасного вечера? – спросил вдруг Боб.
– Вы меня удивляете: я вам предлагала специалисток своего дела. Вы отказались. А теперь предлагаете мне заняться не своим делом. У меня профессия – экскурсовод. И только. Каждый должен заниматься своим делом.
– Это не дело, господи, какая вы! Это не дело. Это, скорее, хобби. Прошвырнемся, пообщаемся. Такой вечер, звезды вон высыпали. Дождя не будет. Тепло. Что еще надо?
– Сеньор, Улан-Батор к вашим услугам, – учтиво сказал Борода. И подставил локоток.
– У меня другая урга, – сказал Боб и взял Геру за руку.
– Вы мне предлагаете прогулку и все? – спросила та, освобождая свою руку от бремени обязательств.
– Конечно же, да!
– Вы меня обижаете. У нас женщину просто на прогулку не приглашают. Для этого есть собачки.
Обескураженный Боб молча смотрел на Геру. Тут нужен был казуист Рассказчик. Гера улыбнулась, взяла Боба под руку и пошла с ним по набережной. Боб держал локоток, как светский щеголь. Мы молча проводили их взглядом и пошли выпить перед сном по баночке пива.
Часа через два вернулся задумчивый Боб, повздыхал, выпил пива и лег спать, но мне слышно было, что он не спит, а бесцельно слоняется по своему номеру. Обломилось, видно, у Боба с Герой. Не на ту напал. Локтями тут не прорвешься. Красивая женщина, что там говорить.
Наш прекрасный чичероне, видимо, проводила с нами курс лицеистов: музеи, театры, вернисажи, дома журналистов, актеров, художников, композиторов и музыкантов, архитекторов и даже строителей и железнодорожников, хотя железных дорог, насколько мы могли заметить, в Галерах не было ни одного километра. От праздничного калейдоскопа безделья и бездельников пухла голова и хотелось чего-нибудь попроще. Борода стал молчалив и задумчив, как подготовленный к сеансу холст, а вечерами грыз репчатый лук, как Буратино. Рассказчик окончательно спутался с длинными ногами, и мы видели его днем только спящим. Он не много терял оттого, что пропускал все наши экскурсии. Боб же, напротив, вел трезвый монашеский образ жизни, каждый вечер провожал Геру до ее дома, целовал в подъезде ручку и в меланхолии возвращался в отель.
– С мусульманством я завязал окончательно, – признался наконец Боб. – Не идеальная модель семьи, да и общества. Я понял, что иногда чувства не хочется делить между многими, а хочется их отдать кому-то одному. Вот только чтобы она этого хотела.
Боб стал вдруг читать газеты.
– В жизни не читал газет! – восклицал он. – Прозрел! Прозре-ел. Сколько интересного пишут! Русской душе не по душе знаете что? Плоть Монпарнаса! Или вот, – Боб зашуршал газетой, – сейчас. Вот: «История правления господина Бургомистра с годами все больше напоминает историю болезни». А?.. Кстати! Насчет Монпарнаса. Давно хотел сказать! – вдруг воскликнул он. – Куда-куда, а в балет мне никак нельзя. Представляете, вокруг одни магнитики, а стрелка – одна. Это ж как она должна вращаться?!
Через пять дней мы отметили возвращение Рассказчика. Его спутница была известная поэтесса города и за эти несколько сумасшедших дней сумела подготовить к печати очередной поэтический сборник «Переплетенья». Рассказчик процитировал мне рефрен из баллады «Плач королевы Анны Австрийской на смерть Джорджа Вилльерса, герцога Бекингэмского»:
Вот мы субреткою верной раздеты.
Ложе, как лед. Герцог мой, где ты?
– Рассказчик, передай своей длинноногой королеве привет от меня, – сказал я.
– Передам, – посмотрел на меня недоверчиво Рассказчик.
– Вместе с моим двустишием: «Любимая, покой мне только снится – от кобылиц устала поясница». Что ж ты предал ее, друг?
У Рассказчика дернулась губа, но он сдержал себя:
– Я ее не предавал. Она никогда не была моей!
Глава 57. Отсек разума в Камере находок
Боб стал классным политинформатором.
– Что же это я, дурак, раньше не читал газет?! – то и дело восклицал он.
– Потому что раньше был не дурак, – сказал Борода.
– «По последней переписи населения, – с выражением читал Боб, – среди писателей, журналистов, музыкантов, певцов, актеров, таксистов, художников, политиков – врачей оказалось больше в два с половиной раза, чем в больницах и поликлиниках. Правительство готово принять программу, предусматривающую сворачивание высшего образования преимущественно в сторону медицинского, так как именно медицинское образование дает практически весь спектр должностей и профессий». А вот несколько иной ракурс: «Лучших преподавателей истории, философии, экономики и искусства готовят в Полицейской Академии».
Когда до конца карантина оставалось почти половина срока, Гера отпустила вожжи (может, получила официальное разрешение, а может, на свой страх и риск) и мы забурились вместе с ней в кабаки и притоны, излазили базары и лавки на набережной, побывали на галерах и в трущобах на восточной окраине города, помещичьих латифундиях и первоклассных банях. Домой уже Гера не ходила, ночевала со мной, поскольку знала от меня и о моем контракте с Горенштейном, и об обете, который дали мы трое и который нарушил пока один только Рассказчик.
– Он слишком долго и много теоретизировал. Это его и подвело, – пояснил я причину его глубокого падения.
– Еще учти, что она поэтесса!
– Да. С талантом. «Ложе, как лед…» Это Данте.
Кровать была широкая и позволяла стихи не просто читать, а декламировать, размахивая руками. При желании можно было даже маршировать по этой кровати шеренгой в восемь, а то и в шестнадцать человек (как в случае с Бобом). У Геры были чертовски красивые руки. Мягкие, белые и теплые. Как у Наташи.
Боб по утрам доставал меня расспросами, как она спала.
– Как убитая,– стандартно отвечал я, на что Боб тяжело вздыхал и недоверчиво смотрел на меня.
– Почитай Швейка, Боб. Отвлекись, – советовал злыдень Рассказчик. – В самом конце одной из первых глав.
Нас уже всюду узнавали. Называли «перевальцами», Боба, по его просьбе, «перепильцем». Больше всего мы любили гулять по Набережной Грез и в Парке Профессий. В парке всегда было людно и красочно. Каждый день праздник или карнавал. Всюду валялись разноцветные ленты, счастливые пьяные, смятые стаканчики, бутылки и баночки из-под пива и различных напитков, газеты, плакаты и пустые пакеты с праздничными призывами. Вокруг фонтана, представляющего собой скульптурную группу из мужчины, женщины и Эрота над ними, бегала детвора. Вдоль аллеи стояли скульптурные изображения отдельных частей тела легендарных и заслуженных людей Галер и Древней Греции, а также их богов и героев. Была широко представлена атрибутика: гранитный кулак известного молотобойца, всевидящий глаз-алмаз кормчего Линкея, каменная грудь известной матери-героини, бронзовый фаллос Геракла, на который кто-то надел берет.
На входе в парк на бетонном столбе долго висело объявление: «Продаются титаны, самовары, кофеварки». Как-то смотрим, идут титаны с табличками на шее – «Титаны». Подходят к столбу. Читают объявление. «Титаны не продаются!» – сказали они, повалили столб на землю, а свои таблички перевернули другой стороной. Там было написано: «Извините, продано!»
В углу парка в кустах сирени можно было увидеть скромный памятник поэту Саврасову. Говорят, критик Додонов после смерти поэта Саврасова с горя превратился в голубя и продолжал гадить на памятник поэту.
Возле скамеек стояли урны, похожие на минометы. Их называли «урнами Петра». Когда урна наполнялась мусором определенного объема или веса, она превращалась в «шутиху». Стоило бросить в нее пустую бутылку или окурок, как урна неожиданно с жутким грохотом стреляла и мусор разлетался по всему парку.
После долгих раздумий Борода выдал очередную сентенцию:
– Не с вешалки начинается театр, – сказал Борода. – Начинается он с сивухи. Кх-а! Когда греки в Афинах праздновали Великие Дионисии (в честь своего министра виноделия), они резали козлов, сдирали с них шкуры, напяливали эти шкуры на себя, нажирались козлятины с луком, наливались вином и ночи напролет плясали, тряслись, как в лихорадке, рявкали дифирамбы и пукали. При этом от них несло перегаром, потом и козлиным мускусом. Девушек этот запах буквально валил с ног. А это ж целая трагедия для высоконравственных особ. Так в их греческом страховом полисе и возникла трагедия. А где смешливых было побольше, в греческих хуторах и колхозах, появилась комедия. Эту трактовку я предложил на худсовете Училища, где преподавал мастерство. Отцы города удумали провести месячник древнегреческого театра, и Училищу, как основному постановщику декораций, поручено было дать к этим месячным свою художественную концепцию, вроде прокладок с крылышками. Взбредет же в голову! Я им на совете и объяснил, что в те древнегреческие времена слова «концепция» еще не было, а были хлеб, вино и фантазии на тему, как бы кого трахнуть на лужку или на браном поле – в зависимости от обстоятельств, а посему лейтмотив и должен состоять из этих первоэлементов. И для ясности мелком набросал эти элементы на доске. Еще, помню, сказал, что с похмелья лучше всего горячих щец похлебать – тогда трясти перестает (в президиуме товарищи разные сидели и почти всех их трясло). Так они изволили гневаться и стали учить (меня учить!), как кисть держать. Я спросил тогда, может, вы меня заодно и писать обучите. И как чего держать при этом. Покажите. Ну, тут и началось. А когда мои картины один поляк приобрел, а потом перепродал их в Штаты, у меня и вовсе климакс настал. Климактерические условия способствуют накоплению вредных примесей в организме. Забрали у меня мольберт и дали взамен помятое ведро. И стал я красить стены, плинтуса и крыши в ядовито-радостные тона. Кстати, более счастливых дней я не знал. Свежий воздух, высота! Ни одной заботливой хари и никаких концепций! А как мне нравилось качаться в люльке! Прораба чуть кондрашка не хватил от моих художеств на высоте девятого этажа. Я на краю люльки стою, люлька перекосилась, того и гляди опрокинется, одной рукой я за канат держусь, другой – малюю. И песни пою. Я-то высоты ничуть не боюсь (Орлам ли бояться высоты? – сказал Боб), а вот ему на меня смотреть было страшно. И он мне снизу орет, что уволит меня на хрен, а я сверху плюю на него. Так и общались. И вот как-то надоело мне все до чертиков и намалевал я свои греческие символы на глухой стене мединститута. Крупно намалевал, красок не пожалел, имя свое прославил и загудел, куда – сам не понял. Там, куда загудел, меня, помню, какой-то вражина пытал, помню ли я момент своего появления на свет. Пытает меня, а сам визитку сует, чтобы я, значит, лечился у него. Хренхрейн какой-то. Из Бахрейна. Я ему и ответил: а как же, помню! Рожа твоя, дядя, мне больно знакома. Она мне в тот миг весь божий свет застила. И я эту визитку сжевал и выплюнул. Понятно, сказал дядя, агрессивность оттуда. Оттуда, согласился я, и туда же его отправил. Меня, соответственно, отправили в другую сторону. Через полгода освободился, а в люльку-то, хрен, меня уже и не пускают. Это меня-то не пускать? Вле-ез, влез я в люльку, глянул сверху на все это пресловутое прогрессивное человечество, со всякими ООН и ЮНЕСКО, и тут охватил меня такой сладкий ужас высоты, что я не вытерпел и – полетел! Ах, какой это был полет! Какой полет! Все мои чувства за всю прожитую жизнь разом вдруг спрессовались вот тут возле яблочка. И такой восторг был… Не прав Горький: рожденный ползать – летать может! Еще как может!.. Я понимаю, что поддался искушению дьявола, но в полете, ребята, в полете я сказал: лечу к тебе, Господи! Он, конечно, ничего мне не ответил, но по тому, как легко я летел, я понял, что Он меня принял и простил. Можно, конечно, было и не пьянствовать, чтоб не доводить до трагедии, но тогда Дионис превратил бы всякого непьющего в летучую мышь – это такой фонарь, а Штраус не написал бы о ней оперетту.
Мы выслушали Бороду с должным почтением и дружно, но односложно сказали: «Н-да-а… Наверное, оттуда…», а Боб, когда Борода вышел куда-то, высказал предположение, что у Бороды с его Брательником это, наверное, семейная черта. Особенно убеждал в этом Штраус с фонарем «летучая мышь».
– Не знаю, когда у меня едет крыша, я, чтобы не уехать вместе с ней, обычно иду за пивом.
– Выбирай: со стопарем или без, нетопырем, – дружно произнесли мы с Рассказчиком, а Боб крякнул и побежал на угол в гастроном.
– Тебе Хренхрейн из Бахрейна никого не напоминает? – спросил у меня Рассказчик.
После первых «вздрогнули!» Боб развернул газету и со слезами на глазах стал читать нам о последних достижениях науки в области сельского хозяйства. Эта область давно перекрыла границы области и таки достала уже всех ее жителей.
Рассказчик, который для профилактики заглянул в «Авиценна-центр», рассказал, что центр успешно проводит лечение змеиным ядом путем укуса пациентов живыми змеями, а для лечения бронхиальной астмы и ревматических болей применяет кислородные подушки, наполненные ветрами энерготерапевтов.
– Ты смотри, некоего Панурга назначили руководителем управления Галерского округа Государственного надзора за весом граждан (УГО ГНВГ), – прочитал Боб. – А дальше одна политика. Сколько ее! Ты смотри, сколько политиков вокруг! – зашуршал газетой Боб. – Ступить негде. А не удариться ли и мне в политику? Это в туннеле она выглядела несколько идиотически, а здесь могут возникнуть радужные перспективы. Буду лоббировать ваши интересы в конгрессе.
– Идиот! – поморщился, как от лимона, Борода. – Выйди вон на пригорок и ударься лучше в собачье дерьмо!
– Идиоты, идущие в политику, вовсе не идиоты, – поправил его Рассказчик. – Идиотами в Древней Греции называли как раз тех, кто в политику не шел. А насчет собачьего дерьма ты прав: оно лучше.
Под такие новости пришлось еще пару раз бегать на угол. Вечером, умиротворенные принятым, мы сидели в креслах холла и смотрели по телевизору круглый стол «Первый свободный человек Вселенной». Признаться, нас заинтересовала тема. Плохо выбритый телеведущий сообщил о том, что впервые в мировой практике были приняты роды при полете роженицы под куполом парашюта. Затем он представил главного акушера «Авиценна-центра». Тот скоренько познакомил зрителей со своей теорией, согласно которой люди когда-то были птицами и пора, наконец, возвращать их к полету, как естественному состоянию человека.
– Зачатие, роды, жизнь, смерть – все должно происходить на лету в воздухе!
Первенец Вселенной в это время, распеленатый, лежал в центре стола, сучил ножками, глядел на умных взрослых и слушал их важные для всего человечества речи. Разочаровавшись в пустышке, он выплюнул ее и, потужившись, обкакал дядям весь круглый стол.
Вечером мы с Герой отправились на прогулку. Наши азартные друзья не захотели отрываться от преферанса и мы пошли вдвоем. Погода была чудная. Мы молча брели по пустынным улочкам и изредка перебрасывались односложными предложениями. Иногда слова только мешают, как пыльный ветер в лицо. Нам обоим было уютно друг с другом, я чувствовал это. На старом трехэтажном доме, выкрашенном в ядовито-радостный зеленый цвет, красовалась оранжевая вывеска: «Камера находок – не проходите мимо». Мы зашли, раз приглашают. Дверь была двойная – наружная стеклянная, с колокольчиком, и внутренняя бронированная, взятая на электронную защиту. Охранника, однако, не было, а за конторкой стоял сухощавый старичок с пытливым взглядом маленьких и хитрых, как у мышки, глаз. Перед ним лежала раскрытая амбарная книга, исписанная чрезвычайно мелким почерком, а на широкой тумбе, справа от него, стоял «Пентиум» со всеми своими причиндалами. Там же располагался и приличный «Ксерокс».
– Добро пожаловать, господа. Ищем что-нибудь или так?
– Или, – ответил я. Гера тоже кивнула головой и улыбнулась.
– Что ж, я удовлетворю ваше любопытство, – промолвил старичок, глядя одновременно одним глазом на Геру и другим на меня.
Старичок мне напомнил старинного знакомого моей юности, он работал прорабом на стройке и звали его странно: Виорэль. Он был косоглазый, но совершенно не стеснялся этого. «Смерть с косой и я косой», – говорил бывало. Он любил подозвать к себе кого-нибудь из новеньких и, глядя в одну сторону, а рукой показывая в противоположную, отдавал приказание: возьми вон там лопату и отнеси ее вон туда. И когда новичок бестолково тыкался, не видя, где лежит лопата и куда ее нести, Виорэль начинал страшно шуметь и ругаться: «Балда! Ты не туда смотри, куда я смотрю, а туда смотри, куда я показываю!»
Старичок подмигнул мне – мол, знаю, о чем ты подумал. А может быть, он подмигнул не мне, а Гере. А то и самому Виорэлю. Тому самому.
– Нуте-с, – сказал он, – приступим тогда. Желаете осмотреть всю камеру? Она занимает три этажа. Зонтики, перчатки, шляпы, кейсы, лопаты, коробки, сумки и сумочки, самая разнообразная одежда и предметы туалета, триста двадцать тысяч комплектов нижнего женского белья, книжки, даже сберегательные… В принципе, каждый человек кладет жизнь на трудовую книжку и на сберегательную, так ведь? Что там еще? Стремянки, вентиляторы… Словом, много чего. Или вам сразу показать «Отсек разума»? Отсек расположен на семи этажах, как на семи небесах.
– Есть такой отсек?
– Господь дает человеку разум для того, чтобы он мог его потерять. Разум – вещь чрезвычайно скользкая, в руках его не удержишь, как мыло или рыбу. Или тот же язык.
– Вы хотите сказать, что у вас здесь хранится чей-то разум, то есть разум, потерянный кем-то? – удивилась Гера.
– А чему здесь, собственно, удивляться? Чаще всего человек теряет именно разум…
«Разве не честь?» – рассеянно подумал я.
– …и ему надо же где-то храниться.
– И… И как же… Как же вы его храните? Его приносят вам? Или вы сами находите? – допытывалась Гера.
– Нет, зачем лишние сложности. Он сам приходит сюда, как котенок или щенок. У нас тут филиал Всемирного Центра потерянного разума. ГФ ВЦПР, если коротко.
– Как? – переспросила Гера.
– Гэ-Фэ-Вэ-Цэ-Пэ-эР. Галерский филиал.
– Филиал, – уточнил я. Для самого себя, как путешественника.
– Да. А сам Центр потерянного разума, ВЦПР, находится в Приморском крае на берегу бухты Находка, направо от железнодорожного вокзала порта Находка.
– Он у вас заспиртован? – спросил я.
– Для большинства находок это совершенно излишняя процедура.
– Что же, у вас он по полочкам разложен? Классифицирован? Кем?
– У вас, я так понимаю, время свободное есть? Тогда я вам все подробно покажу и объясню. Минутку, – он заложил костяной нож в книгу, бережно закрыл ее и спрятал в сейф. – Прошу вас.
Мы поднялись на третий этаж, затем по винтовой лестнице долго спускались в подвал здания.
– Там никто не зайдет? – спросила Гера, указывая пальцем вверх.
– Нет. Там заминировано.
Нашим взорам предстало огромное помещение с высокими лепными потолками. Как в старой добротной библиотеке, вдоль стен и посередине стояли стеллажи, между ними широкие и длинные полированные столы. Стульев не было. Лампы дневного света заливали пространство потерянного разума голубоватым холодным светом, отчего мы чувствовали себя как-то зябко, как в операционной. Сверху лилась тихая успокаивающая музыка. Она (музыка) напоминала тихую бухту, где можно спрятаться от волнений открытого моря. Но странно, прячась в ней, обретаешь не успокоение, а новую тревогу. И эту новую тревогу продолжает успокаивать все та же музыка, но успокаивать как-то по-другому, и, успокоив, порождает новое тревожное чувство… И так без конца.







