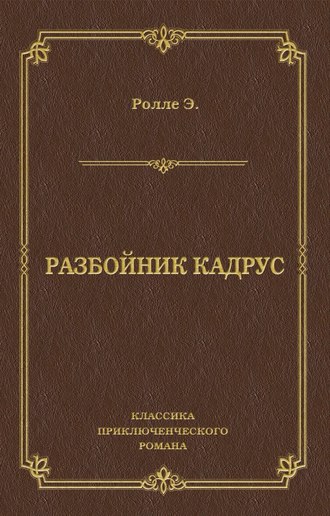
Эрнест Ролле
Разбойник Кадрус
Глава XXX
Сватовство
Через несколько дней после этого кавалер де Каза-Веккиа и его друг маркиз де Фоконьяк направлялись к Магдаленскому замку. Изящные наряды показывали, какую важность приписывали они этому визиту.
Гильбоа был так удивлен их неожиданным приездом, особенно после довольно колкого разговора с маркизом, который он имел на последнем балу при дворе, что не успел даже избавиться от их посещения. Они были уже возле него, а он не успел еще придать своему лицу тот благодушный вид, который не оставлял его почти никогда. Это выражение досады не могло укрыться от двух таких проницательных людей, как те, имена которых лакей провозгласил в дверях той самой гостиной, где происходил знаменитый разговор.
Фоконьяк, бесцеремонно сев в кресло, которое ему не предлагали, указал на другое своему другу кавалеру и на третье барону де Гильбоа.
– Садитесь, господа, – сказал он с надменным видом. – Мне, право, было бы жаль, если бы вы остались на ногах, тем более что разговор, который я буду иметь с бароном, может быть продолжителен…
– Могу я узнать, господа, – произнес наконец Гильбоа, опомнившийся от изумления, взбешенный, но ошеломленный самоуверенностью маркиза, – что причиной такого посещения…
– Как же, любезнейший! – перебил его Фоконьяк. – Ничего не может быть легче. Во-первых, удовольствие подать руку человеку, с которым желаешь вступить в дружеские отношения.
– А мне кажется, – дерзко сказал Гильбоа, – что после нашего разговора на бале вам вовсе не следовало бы приезжать в Магдаленский замок.
С этими словами барон встал. Это значило, что он выпроваживает своих гостей. Однако ни кавалер де Каза-Веккиа, ни маркиз не пошевелились. Фоконьяк только самым очаровательным движением указал барону на кресло, с которого тот встал, и сказал с самой любезной улыбкой:
– Садитесь же, любезный барон!
Гильбоа, пораженный такой дерзостью, взглянул на колокольчик, но Фоконьяк продолжал:
– Это бесполезно, любезный друг. Вы обязаны выслушать меня.
– Сделайте же одолжение и объяснитесь.
– А я уверен, что вы уже поняли меня. В уверенности, что нисколько вас не удивлю, я скажу вам просто и с благородной откровенностью, приличной таким людям, как мы: барон де Гильбоа, имею честь просить у вас руки вашей племянницы.
– Для кавалера де Каза-Веккиа? – спросил барон, взглянув на Жоржа, который не мог не улыбнуться ошибке владельца Магдаленского замка.
Фоконьяк увидел эту улыбку и вспомнил шутки своего друга. Ему надо было на ком-нибудь выместить свою досаду, и он сказал:
– Кажется, я выразился довольно ясно. Неужели я должен повторить? Извольте. Я имею честь просить руки вашей племянницы.
Произнося эти слова, гасконец поклонился до земли.
– Для себя? – вскрикнул Гильбоа.
– Для себя, – ответил Фоконьяк, лицо которого выражало такой сильный гнев, что барон не посмел притвориться, будто не понимает.
Поклонившись в свою очередь, барон отвечал:
– Будьте уверены, что моя племянница и я очень чувствительны к чести, которую вы оказываете нашему дому. Однако я замечу, что разница в летах между вами и моей племянницей кажется мне серьезным препятствием…
– Как? – перебил его Фоконьяк. – Что вы говорите о летах, барон? Мне не хотелось бы вас оскорблять, но ведь вы старше меня.
– Ну что ж такого?
– Ведь вы сами думаете о союзе, в котором будет гораздо больше разницы в летах.
– Полноте! – возразил хозяин Магдаленского замка, который хотя и был уверен, что его планы на племянницу не могли быть открыты, не мог не покраснеть при мысли, что маркиз пронюхал их.
– Как, полноте! – сказал Фоконьяк. – Маркиз Алкивиад де Фоконьяк никогда не говорит того, в чем он не уверен.
– Я не знаю, на что вы намекаете, – продолжал Гильбоа, – но вы должны видеть в моих ответах нерешимость дяди, который дрожит при мысли расстаться навсегда со своими питомицами. Но у меня нет другой воли, кроме воли их самих. Вы мне позволите посоветоваться с ними?
После этой длинной фразы барон поклонился. Как все трусы, он думал выиграть время, в полной уверенности, что со временем расстроит все замыслы этого неожиданного жениха. Он ошибался, потому что Фоконьяк сказал с наружным смирением:
– Это справедливо, любезный барон, ваше замечание так естественно, что я не могу не согласиться с ним, но смею надеяться, что я не могу иметь более жаркого адвоката. Я уверен, что буду иметь успех и вы станете горячо уговаривать ее.
– О! – ответил Гильбоа, начинавший терять терпение. – Я буду так же откровенен с вами, маркиз. Не ожидайте от меня ничего подобного… Не зная вашего состояния, я думаю, однако, что разница должна быть велика…
– Знаю, – перебил Фоконьяк, – я знаю, что девица Мария де Гран-Пре…
– Как! – перебил маркиза в свою очередь Гильбоа, обрадовавшись, что дело идет не о Жанне с миллионным приданым. – Как! Вы просите руки Марии?..
Восклицание барона обнаруживало такую искреннюю радость, что Жорж и Фоконьяк не могли не улыбнуться.
– Точно так, любезный барон, – сказал Фоконьяк. – Желание мое состоит в том, чтобы сделаться супругом восхитительной Марии. Будьте ходатаем за меня перед этой очаровательной особой.
Нечего было сомневаться, дело шло о Марии. Какое это было счастье для Гильбоа! По крайней мере он так думал. Освободиться от племянницы, которая своими советами, по всей вероятности, помогала Жанне противиться его воле! Иметь родственником этого человека, который казался ему чем-то вроде домового! Избавиться от издержек, которые были гораздо более, чем посторонние предполагали! Не должен ли он, делая подарок одной племяннице, дарить и другую, а иначе Жанна не приняла бы. Потом, такая прекрасная партия! Мария будет маркизой! Это было неожиданно! Это было великолепно!
Барон встал и, крепко пожав руку Фоконьяку, уверил его, что он не может иметь более усердного ходатая.
– Стало быть, милый будущий дядюшка, мы прекрасно сойдемся относительно приданого…
– Приданого? – повторил барон, и лицо его вытянулось. – Но ведь вам известно…
– И относительно свадебной корзинки, – продолжал невозмутимо Фоконьяк.
– Свадебной корзинки? – опять повторил озадаченный Гильбоа.
– Чему же вы удивляетесь, барон? Когда имеешь честь обладать такой племянницей, ребенком, составлявшим утеху вашего дома так давно, как же дяде и опекуну не дать ей в приданое кругленькую сумму, например, миллион?
– Миллион! – вскричал Гильбоа с испугом.
– Я даже думаю, что, находя это приданое недостаточным, вы положите в свадебную корзинку еще тысяч на сто бриллиантов.
– Милостивый государь, – строго сказал Гильбоа, который из-за денег чувствовал себя способным на всякое сопротивление, – решительно, я думаю…
– Что вы дадите приданое и бриллианты, – окончил Фоконьяк с самым любезным видом.
– Никогда! – произнес барон.
– Что вы говорите?
– Никогда! – повторил Гильбоа, не обращая внимания на сардонический взгляд адского маркиза, который продолжал, как будто не понял:
– Так как я буду в отчаянии, если не отплачу вам такой же щедростью, барон, то я в свою очередь намерен сделать вам подарок, достойный короля. – Он сделал ударение на последнем слове.
– Короля? – сказал Гильбоа, невольно задрожав от звука голоса маркиза.
– Да, я сказал короля, хотя бы даже самого Людовика Восемнадцатого.
– Что вы хотите сказать? – вскричал Гильбоа, потеряв всякую осторожность.
– Я хочу сказать, что за подобный подарок, – сказал Фоконьяк показывая барону знаменитый перстень, отнятый у слуги, – я хочу сказать, что за такую вещицу вы охотно положите бриллианты в свадебную корзинку моей будущей жены.
Гильбоа при виде рокового перстня опустил руки и упал на кресло.
Наступило минутное молчание. Жорж и Фоконьяк поспешно подошли к барону. Они боялись апоплексического удара, до того лицо барона налилось кровью.
– Полноте! – сказал маркиз. – Опомнитесь, любезный будущий дядюшка. Вы мне нужны хотя бы для того, чтобы подписать брачный контракт.
– Да, – машинально повторил барон, – подписать контракт… Я сделаю все, что вы хотите! Я подпишу, я дам приданое, но…
– Я это знал! – весело сказал маркиз.
– Но, – продолжал Гильбоа, едва переводя дух и следуя только за своей мыслью, – по какому гибельному случаю этот перстень…
– И это письмо, – добавил Фоконьяк, показывая знаменитое послание, написанное под диктовку легитимистов.
– Да, и это письмо… – продолжал барон. – Каким образом эти вещи попали в ваши руки?
– А! Когда-нибудь, когда мы будем составлять одну семью, может быть, я расскажу вам. Теперь достаточно вам знать, что эти драгоценные вещи находятся у меня в руках. Они будут ручаться мне за вашу поспешность заключить как можно скорее мой союз с вашим домом… Замедление было бы опасно. Тотчас после брачной церемонии я вручу вам этот перстень в знак вечного союза между нами.
Потом, не ожидая ответа Гильбоа, не способного произнести ни одного слова, Жорж и Фоконьяк ушли.
Дойдя до двери, маркиз прибавил в виде последнего приветствия:
– Будьте уверены, любезный барон, что вы будете иметь во мне самого преданного племянника. Доказательством служит то, что, не желая лишить вашу фамилию благородных связей, которые она сумела составить, я позаботился, чтобы его величество Людовик Восемнадцатый получил письмо и перстень, которые вы ему послали.
– А тот, который у вас в руках? – с живостью сказал Гильбоа, который почувствовал на минуту надежду, что может избегнуть адских когтей этого человека.
– Это перстень оригинальный, – лукаво ответил Фоконьяк. – Граф Прованский получит или уже получил только копии письма и перстня, но не беспокойтесь. Его величество, как вы называете графа, не догадается. Подражание так хорошо! Благоволите, вселюбезнейший, принять уверения в моем глубочайшем уважении.
И, подойдя к Гильбоа, он шепнул ему на ухо:
– Любезный барон, помните, что ваша голова будет в опасности при малейшей увертке с вашей стороны…
Через несколько минут оба начальника Кротов вернулись в свою гостиницу в Фонтенбло. Всю дорогу они забавлялись над расстроенным лицом хозяина Магдаленского замка, который после их отъезда позвал управляющего Шардона.
Глава XXXI
Письмо и свидание
Кадрус и его помощник готовились одним вечером, по обыкновению, сделать прогулку верхом. Прогулка эта сделалась теперь необходима, так как Фоконьяк должен был ухаживать за своей невестой. Гасконец все еще хотел женить Кадруса на Жанне де Леллиоль и в этот вечер воротился к своему любимому плану.
– Послушай, мой милейший, – сказал он, – так как я женюсь, почему бы и тебе не сделать то же?
– Ты мне надоел, – с нетерпением сказал Кадрус. – У нее никогда не достанет сил полюбить Кадруса. Итак, не говори мне более о девице де Леллиоль… или я рассержусь.
– Друг мой, желание сделаться твоим кузеном заставляет меня настаивать.
– Какую же перемену это родство сделает в нашем положении? – сказал Кадрус, пожимая плечами.
– Очевидно, никакой, – ответил Фоконьяк, – но девица Леллиоль меня интересует. Она исчахнет от скуки, бедняжечка! Я женюсь на ее кузине. Стало быть, она останется одна. Понимаешь ли ты? Одна! Без всякой защиты против преследований и козней барона де Гильбоа.
Кадрус почувствовал при этой мысли потрясение, обнаруживавшееся нервным трепетом. Он хотел ответить, но в это время в дверь постучали. Фоконьяк поспешил отворить. Он впустил человека лет шестидесяти, крестьянина по наружности. С тупым видом тот встал перед Фоконьяком и сказал, положив свою большую шляпу на пол, чтобы обшарить свои карманы, как человек, что-то потерявший:
– Это вы месье Жорж?
– Это я, – ответил кавалер.
– А как вас еще зовут?… Как бишь там написано?
– Где?
– Да на письме. Куда же я дел письмо? Я так хорошо его спрятал, что и не найду.
Он очень хорошо знал, где спрятано письмо, но хотел удостовериться, тому ли прислано письмо, с кем он должен говорить.
– О каком письме ты говоришь? – спросил Жорж.
Не отвечая на вопрос, крестьянин сам спросил:
– Скажите же, какое ваше другое имя?
– Де Каза-Веккиа, – сказал Кадрус. – Так?
Подозрительный крестьянин прочел по складам адрес и сказал:
– Да. Попросите этого господина, – он указал на Фоконьяка, – уйти, и тогда я расскажу вам кое-что. Мне велели отдать вам это письмо в собственные руки. Барышня так сказала.
– Хорошо, друг мой, – сказал Жорж улыбаясь. – Ты можешь отдать мне это письмо, этот господин – мой искренний друг. Я ничего от него не скрываю. Ты можешь говорить без опасений в его присутствии.
– Мне нечего говорить, – сказал крестьянин, – мне только велено принести ответ.
Он подал Жоржу письмо. Тот вздрогнул, прочтя надпись, и поспешно отошел в амбразуру окна. Как ни быстро было волнение Кадруса, оно не могло укрыться от проницательных глаз Фоконьяка, который, желая показать, будто ничего не приметил, обернулся к крестьянину.
– Как тебя зовут, приятель? – спросил он.
– Меня? – ответил он как настоящий французский крестьянин, не желая ответить тотчас на заданный ему вопрос.
– Да, тебя.
– Жак Симон… к вашим услугам.
– Скажи, пожалуйста, мне твое лицо как будто знакомо. Мне кажется, я тебя где-то видел.
– Очень может быть, сударь, тем более что и я вас видел также.
– Где же это, друг мой?
– Ведь вы, кажется, женитесь на мамзель Марии?
– Какое же это имеет отношение…
– Да ведь мамзель Мария кузина мамзель Жанны…
– Ну?
– Моя покойная жена была кормилицей мамзель Жанны, я часто бываю в замке, там-то вы и видели меня.
– Наверное, – сказал Фоконьяк. – Ты, стало быть, доверенный человек Жанны де Леллиоль? Вероятно, это она прислала тебя к моему другу кавалеру де Каза-Веккиа с этим письмом?
– Вот уж этого я не скажу. Мне приказано молчать, а всем известно, что Жак Симон не болтун.
– Я это вижу…
– Покорнейше вас благодарю, – сказал крестьянин, восхищенный этим комплиментом. – Вы можете засвидетельствовать, что я не выдал никого.
– Такая скромность делает тебе честь. – Фоконьяк вынул из кармана наполеондор. – Вот возьми, приятель, – сказал он, – и заметь, что добродетель всегда вознаграждается.
Обрадованный крестьянин перекрестился и спрятал золотую монету в карман своих панталон.
Во время разговора гасконца с крестьянином Кадрус в амбразуре окна успел прочесть письмо. Несмотря на силу воли, которой обладал атаман Кротов, он никак не мог не обнаружить на лице своем волнения, которое испытывал при чтении письма Жанны.
– Я жду ответ, – сказал крестьянин.
При звуке его голоса Кадрус как будто пробудился от сна.
– Ах, ты еще здесь? – сказал он. – Можешь идти. Ответа не будет.
– Однако, – осмелился сказать Фоконьяк, – мне кажется, тебе следовало бы…
– Тебе что за дело? – вспылил Кадрус. – Почем ты можешь знать, кто ко мне пишет?
– Полно, любезный друг, – ответил гасконец. – Надеюсь, ты не оскорбляешь меня мыслью, что я не угадал имя той особы, которая прислала тебе это письмо… Дело довольно ясно. Это она.
– Ну да! – сказал Жорж. – Она! Вот почему ответа не будет… Я не хочу ее любить.
– Подумай, однако, о приличиях, – ласковым голосом продолжал Фоконьяк. – Нельзя же не дать никакого ответа посланному. Он ждет.
– Ты этого хочешь? – сказал Кадрус, опять погрузившись в размышления. – Ну хорошо! Скажи твоей госпоже, – обратился он к посланному Жанны, – что она найдет мой ответ в своей шифоньерке. Вот тебе за труды.
Жорж отдал кошелек полный золота крестьянину, который вытаращил глаза, жадно протянул руку и спрятал кошелек туда же, где был спрятан наполеондор. Пятясь задом и кланяясь до земли, крестьянин проворно отправился отнести ответ Жоржа в Магдаленский замок.
Вечером взволнованная Жанна перебирала безделушки, наполнявшие шифоньерку в спальной, и дрожала. Она дрожала при мысли, что найдет письмо, написанное Жоржем, потому что, не спрашивая себя, какие средства употребит молодой человек для того, чтобы положить свое письмо в такое место, она не сомневалась в его слове. Она дрожала от беспокойства при мысли, что делать, если Жорж соглашается на свидание, о котором она его просила. Вот что писала она ему:
«Жорж!
После того, что произошло между нами, вы знаете, что я вас люблю. Я вас люблю! В этих словах я почерпаю мужество пренебрегать всеми приличиями. Вы тоже любите меня… мое сердце говорит мне это Я это знаю… Я в этом уверена… Следовательно, вы обязаны защитить меня. Я скоро останусь одна… одна, слышите ли вы, Жорж? А вы не должны оставлять одну ту, которую небо создало для вас. Я не могу оставаться жертвой низких покушений родственника, в руки которого меня отдал закон, не прося помощи у человека, которого Господь создал для того, чтобы защищать меня, потому что если обычаи, которым следовало бы покровительствовать неопытным, не могут спасти меня от пороков и алчности, я должна искать защиты вне этих самых обычаев. Я пишу вам, мой Жорж, для того чтобы сказать вам, что женщине, любимой вами, угрожает опасность.
Приезжайте сегодня в полночь, когда все в замке будут спать. Ждите у больших каштановых деревьев в парке, чтобы сговориться с той, которая принадлежит вам так, как вы принадлежите вашей
Жанне де Леллиоль».
Жанна нашла ответ Жоржа в назначенном месте. Этот ответ состоял только из одного слова:
«Буду».
Это одно слово трепещущая Жанна поцеловала и спрятала на своей груди. Она не стала размышлять, каким способом Жорж смог доставить ей свой ответ. Он написал ей. Этого было для нее достаточно. С лихорадочной дрожью начала она приготовляться к свиданию.
В полночь все спало. Осенний ветер завывал в длинных коридорах Магдаленского замка. Жанна, закутавшись в свой плащ и дрожа от страха, что ее увидят, спускалась по большой лестнице; одна луна освещала ее путь.
Жорж уже ждал ее под деревьями и сделал несколько шагов навстречу к ней. Она уже повисла у него на шее, прежде чем он успел предвидеть ее движение. Ни одного слова не было произнесено между ними – волнение их было слишком глубоко.
Впрочем, все вокруг них составляло очаровательную рамку для их любви. Тихий трепет спящей природы согласовывался с их внутренним трепетом. Сердца их, прижавшись друг к другу, восхитительно бились. Оба безмолвные, они долго оставались неподвижно грациозной группой, похожей на мраморную.
Вдруг Кадрус, взглянув на Жанну и отвечая на ее безмолвный вопрос, вскричал:
– Ну да! Я тебя люблю! Так люблю, что не стану обманывать. Знаешь ли ты, кто я, Жанна?
– Что мне за дело? – просто ответила молодая девушка. – Я люблю тебя, каков ты есть, каким ты был, каким ты будешь.
– Ты ошибаешься, Жанна. Твое сердце обманывает тебя. Ты любишь во мне блистательного кавалера, имевшего успех при дворе, человека, окруженного тайной, человека, представляемого воображением всякой молодой девушки, – словом, кавалера де Каза-Веккиа…
– Нет! – с живостью перебила его молодая девушка. – Я люблю в тебе тебя, кто бы ты ни был…
– Жанна! – вскричал Жорж, пристально смотря на ту, которая ему отдавалась так безусловно. – Ты будешь любить меня, несмотря на мою прошлую жизнь? Ты будешь меня любить, несмотря на мрачное будущее, открывающееся предо мной?
– Хотя бы мне пришлось провалиться в бездну, я буду тебя любить! Что мне за дело, если я обрушусь туда с тобой!
– Но это невозможно! – воскликнул Жорж. – Я должен помешать тебе обрушиться в бездну, о которой ты говоришь. Это было бы слишком гнусно, более чем гнусно, подло!
Он отталкивал от себя молодую девушку, которая едва переводила дух от сильного биения сердца.
– Слушай, – продолжал Жорж тихим голосом и скороговоркой, – ты каждый день слышишь о человеке, который во главе разбойников смеется над всеми законами, о человеке, для которого нет ничего священного, который ведет открытую борьбу с целым обществом! О знаменитом атамане Кротов, голова которого оценена, о свирепом Кадрусе, перед которым все дрожат.
– Перед которым не дрожу только я, – ответила Жанна. – Я не дрожу перед тем, к кому летит мое сердце, потому что Кадрус – ты.
Жорж, как бы пораженный молнией, упал к ногам своей возлюбленной.
– Как, Жанна! – вскричал он вне себя: – Ты знаешь? Ты угадала… и ты меня любишь?
– Я люблю Кадруса не за то, что он Кадрус, но потому, что мое сердце отдалось ему, – ответила Жанна, протягивая руки к Жоржу, который покрыл их неистовыми поцелуями.
Наступило минутное молчание. Потом Жорж продолжал:
– Послушай, ты должна меня узнать. Прежде всего знай, что роковая судьба толкнула меня на этот путь.
– Я этому верю, – сказала с живостью молодая девушка, прижимая к себе красивую голову молодого человека.
– Ты должна узнать сердце своего возлюбленного, – продолжал Жорж. – Выслушай меня. Кто были мои родители? Я не знаю. Мне сказали, что они умерли. Все заставляет меня думать, что я незаконный сын какого-нибудь знатного вельможи и добродетельной дамы, которые, употребив на меня тысяч сто, могли продолжать удивлять всех своей суровой добродетелью и безукоризненным благочестием. Таков свет! Им достались почет и уважение, а мне стыд и бесславие. Я был помещен у человека, которого я называл дядей и который был очень рад держать меня, потому что ему предоставили пользоваться доходом со ста тысяч, отданных нотариусу до моего совершеннолетия. Если бы я умер, мой опекун получил бы в наследство этот капитал. Меня воспитывали вместе с сыном моего мнимого дяди, пока не отдали к бедному деревенскому священнику, более сведущему в поваренном искусстве, чем в латинском языке. Сын моего опекуна, вышедший из школы в то время, когда меня отдали учиться, был послан в Париж закончить свое воспитание изучением прав. Заметь, милая Жанна, – сказал Жорж, с горечью смеясь, – что если бы не мои деньги, то мой дядя – я иначе не стану называть его – мой дядя не мог бы послать своего сына закончить его воспитание. Будучи по природе пылкого характера, помещенный к человеку, невежество которого могло сравниться только с его слабостью и баловством, я научился больше шалостям с детьми моего возраста, чем латинскому языку, который добряк уже забыл… если и знал когда-нибудь. Так как никто меня не останавливал, я долго вел ленивую и спокойную жизнь, которая нарушалась только проступками, свойственными молодости, особенно когда ее предоставляют одним ее инстинктам. Лесничий и даже жандармы писали моему дяде, который отвечал – тогда я не угадывал почему, – что меня обуздать нельзя и что я наверняка покрою стыдом моих родных. Потом он пригласил меня к себе. Я поехал. Упреков он мне не делал, а напротив, дал денег, много денег, и я, обрадовавшись щедрости моего доброго дяди, промотал эти деньги с товарищами, к несчастью, в тех местах, где мне не следовало бы бывать. На другой день я был арестован и отведен в тюрьму по обвинению в воровстве со взломом у моего дяди. Он уверял, что я разломал его бюро и взял деньги, лежавшие там. К несчастью, показания лесничего и жандармов увеличили признаки моей виновности. А потом, дядя дал мне деньги без свидетелей. Кто поверит, что он подарил мне такую сумму? Это было невероятно. Мой любезный дядюшка, в качестве опекуна, просил отдать меня в исправительный дом до совершеннолетия. Суд согласился на его просьбу. Смешнее всего то, что мой мнимый кузен, сын коего опекуна, возвратившийся из Парижа, обвинял меня в суде. Он говорил напыщенными фразами, как ему тяжело обвинять своего родственника, но священная обязанность побуждает его к этому. Меня заперли в тюрьму с самыми гнусными преступниками. Заметь, милая Жанна, что публика восхищалась красноречием моего кузена. Жалели, что он должен исполнять такую суровую обязанность. Он даже получил повышение. На мои деньги он получил воспитание, через меня возвышение в должности. Не было ли в этом гибельном стечении обстоятельств, так хорошо подведенных моим опекуном, всего такого, что могло взбесить человека и терпеливее меня…
– О боже мой! – перебила Жанна. – Неужели на земле есть такие злые существа?
– Слушай, – продолжал Жорж, оживлявшийся по мере продолжения своего рассказа, – слушай. Дядя мой только сделал первый шаг ко всем гнусностям, которыми он окружил молодого человека, вверенного его попечениям. Он непременно хотел захватить в свои руки сто тысяч, принадлежавшие мне… С наклонностью повелевать, которая была и всегда будет главным недостатком моего характера, я сделался начальником, героем людей, которые содержались вместе со мной. Чтобы избавить их от малейшего неудовольствия, я всегда был готов на все, даже нарушать суровую дисциплину, установленную в нашем строгом доме. Ни тюрьма, ни побои не удерживали меня, когда дело шло о том, чтобы защитить одного из моих товарищей против того, что казалось мне несправедливостью. Надо сказать, между людьми, над которыми я имею теперь право жизни и смерти и из которых многие мои бывшие товарищи по заключению, преданность моя вошла в пословицу, и это немало способствовало к составлению моей страшной шайки и к привлечению ко мне всех людей, которые стоят вне законов общества. Как ни были продолжительны годы заключения, они, однако, прошли. Я вышел из тюрьмы, но вышел с весьма дурной характеристикой. Говорили, что со мной сладить нельзя… Я заплатил обществу за проступок, которого я не делал, а между тем общество еще не простило мне. «Он вышел из тюрьмы!» – кричали все и удалялись от меня, указывая на меня пальцем. Я вернулся в тот город, где провел мои первые годы, но должен был искать другое местопребывание. У меня в сердце была только ненависть. Скоро должна была наступить жажда мщения. Я забыл сказать, что по приговору суда я был лишен гражданских прав до двадцатипятилетнего возраста. Следовательно, капитал мой должен был оставаться в руках моего дяди; до того времени он должен был давать мне проценты. Но проценты эти любезный дядюшка отдавал мне с большим вычетом. В моем положении и с моей неопытностью в законах мне было очень трудно проверить его. Я наделал долгов, а когда кредиторы стали надоедать мне, я надавал им векселей. Ведь у меня был капитал. Векселям наступил срок, меня взяли за долги в тюрьму. Дядя предвидел все это, и мой капитал все оставался в его руках. Он должен был сберегать его для своего любезного сынка, который в тот день, как меня засадили в тюрьму, был сделан где-то прокурором.
– О боже мой! – вскричала Жанна, вся в слезах. – Возможно ли одному человеку выдержать столько неприятностей? Как я о тебе сожалею, мой бедный друг!..
– О, благодарю, моя возлюбленная Жанна! – сказал Жорж, и слеза, может быть единственная, которая с детства омочила его веки, слеза, сверкнувшая при бледных лучах луны, покатилась по его мужественному лицу. – Благодарю, – повторил он, – благодарю за единственную минуту счастья, испытанную мною. Но что ни расскажу я тебе теперь, не осуждай меня. До сих пор я был жертвой. Я должен был сделаться палачом. Смерть моего дяди была решена.
Жанна невольно задрожала при этих последних словах. Жорж почувствовал этот трепет.
– Я говорил тебе, – вскричал он, – что у тебя недостанет сил следовать за судьбой Кадруса, человека, поклявшегося в вечной ненависти к обществу. Да, я поклялся! Око за око, зуб за зуб, до тех пор, пока я не паду в этой борьбе. Ты видишь бездну, Жанна де Леллиоль! Остановись… Еще не поздно!.. Ты забудешь Кадруса, когда увидишь, как покатится его голова.
Вместо ответа молодая девушка, не способная произнести ни одного слова, судорожно прижала его к своей груди и с испугом осматривалась вокруг, точно хотела избавить Жоржа от страшного наказания, вызываемого им. Ее неистовые поцелуи показывали, что она готова на все. Жертва была полная. Какова бы ни была его судьба, она принимала ее безвозвратно. Молодой человек понял все.
– О милая Жанна! – прошептал он дрожащим голосом. – О моя возлюбленная! Верь мне! Я родился не для того, чтобы быть гением зла. Если бы я встретил тебя ранее, жизнь спокойная и приятная заступила бы для меня место адской жизни и свирепой знаменитости. Но теперь уже поздно! Слушай, как шаг за шагом я спускался по ступеням этого общества, которое с раннего возраста осудило меня, невинного. Если теперь оно меня захватит, то захватит по крайней мере виновного. Да, виновного, потому что, вступив в новую жизнь, я имел только одну мысль, одну цель: мщение! Чтобы скорее достигнуть своей цели, я обратился к виновнику всех моих несчастий, к моему родственнику. Это было ночью. Как всякий скряга, он старательно запирался в высоких и толстых стенах. Все эти мелочные подробности ничего для меня не значили. Я научился во время продолжительного пребывания в тюрьме самым верным способом отпирать самые крепкие двери, перелезать через самые неприступные стены. Добраться до человека, который был причиной моей несчастной жизни, было для меня делом одного мгновения. Я все еще вижу его! – вскричал Жорж, оживившийся при этих воспоминаниях и при звуке собственного голоса. – Я вижу его с испуганными глазами, когда, проснувшись, он глядел на меня с постели. «Ты здесь! – вскричал он с ужасом. – Как ты прошел?» – «Перелез чрез стену», – ответил я. «Каким образом?» – «Ведь вы позаботились, любезный опекун, о воспитании вашего питомца. Он воспользовался уроками, которые получил в тюрьме. Он знает, как употреблять отмычку и другие инструменты в таком же роде». – «Чего ты хочешь от меня?» – «Чего я хочу? Денег! Отдайте мне сейчас же все деньги, какие у вас здесь». Он встал, как будто повинуясь мне. Я ему поверил и сказал: «Послушайте, дядюшка, дайте мне как можно больше. Эти деньги помогут мне сделаться честным человеком, которым, однако, я не переставал быть никогда. Беру Бога в свидетели! Я дам вам расписку в получении всего капитала, и вы никогда более не услышите обо мне». Он пошел к своей шкатулке, стоявшей по другую сторону камина, потом обернулся ко мне и пристально на меня взглянул. Он как будто колебался, но скупость превозмогла: он рассудил, что гораздо дешевле снова засадить меня в тюрьму. Он дернул за шнурок колокольчика, звук которого раздался по всем комнатам. У меня за поясом был кинжал. Ясно, что мне предстояло. Вооруженное ограбление со взломом. А это значит пожизненная каторга. Я слышал, как бежали слуги, и потерял голову. Мера переполнилась. Несмотря на мои прежние намерения, я колебался совершить преступление. Теперь нерешимость прекратилась. Я воткнул в горло виновника всех моих несчастий мой нож до рукоятки и в испуге убежал, однако не так скоро, и меня заметил один из слуг. Впрочем, и без того подозрение пало бы на меня. Преследуемый, как хищный зверь, я кое-как успел пробраться за границу. Заочное осуждение на смерть и прежняя моя жизнь составили мне репутацию. Итальянские разбойники приняли меня с неимоверными почестями. У одних разбойников пришлось мне найти братские отношения. Судьба моя была решена с этой минуты. Скоро я сделался атаманом страшной шайки, набранной частично из моих бывших товарищей по заточению, которые присоединились к старому другу, отважность которого была им известна. Разбойники этой шайки назвались Кротами по причине своей ловкости прятаться под землей. Они сделались ужасом Италии, а потом и Франции, куда я их привел, пользуясь политическими событиями. Теперь, моя бедная Жанна, ты знаешь все, – закончил Жорж. – Зная прошлое, нетрудно предвидеть будущее. Беги от меня, повторяю, моя возлюбленная! Беги от меня! Видишь ли – я проклят!




