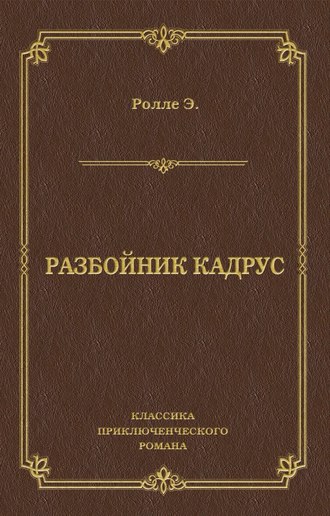
Эрнест Ролле
Разбойник Кадрус
Глава XXXVI
Письмо Шардона
Гильбоа находился в смертельном беспокойстве. Шардон, несмотря на обещание сообщать ему известия, еще ни разу к нему не писал. Курьеру достаточно несколько часов, чтобы проехать расстояние, отделяющее Париж от Фонтенбло, а управляющий получил приказание употребить это средство в случае непредвиденных затруднений. Он должен был сообщать своему хозяину все свои поступки и шаги. А между тем он не писал ни слова, не подавал и признака жизни. Барон не знал, что и думать. Каждую минуту он смотрел из окна своего кабинета на дорогу, надеясь увидеть гонца, так нетерпеливо ожидаемого.
В замке все увеличивало беспокойство и нетерпение хозяина. Приготовления к свадьбе, которая была назначена через несколько дней, приводили барона в ярость.
– О! – говорил он с бешенством. – Если бы Шардон имел успех, если бы ему удалось найти человека, который должен помочь мне освободиться от этого кавалера и этого маркиза! Я отдал бы десять лет моей жизни, чтобы достигнуть этого! Боже мой, почему он не пишет?..
Вдруг Гильбоа стал прислушиваться. Ему послышался стук копыт. Он бросился к окну и не ошибся. Гонец, покрытый пылью, въехал на двор; в руке он держал конверт. Привратник хотел его взять. Легко было видеть по движениям курьера, что он хотел отдать этот конверт только тому, кому тот был адресован. Барон отворил окно и сделал знак привратнику привести курьера к нему. Через минуту курьер подавал барону длинное письмо от Шардона.
«Поручение, данное мне, – писал управляющий, – представило такие затруднения, о каких я и не воображал. Человек, которого мы ищем, имеет более прежнего причин скрываться. Мне стоило неслыханных трудов убедить тех, кто мог сообщить мне сведения о нем, что я прислан не за тем, чтобы его повесить».
Тут Шардон объяснял свои странствования по самым грязным закоулкам Парижа и извинялся, что не мог раньше сообщить эти известия, потому что за ним до сих пор подозрительно надзирали его бывшие товарищи. Он прибавлял:
«Если бы я написал, очевидно, письмо было бы перехвачено. Вы известны по вашим многочисленным сношениям с Фуше, и это письмо приняли бы за донос. Предать товарища! Вы знаете, как это наказывается у нас… Смертью. Осторожность и для меня, и для вас требовала, чтобы я поступал таким образом».
Потом Шардон рассказывал, что едет в Орлеан, где надеется встретить человека, которого он искал, и, как всякий хороший управляющий, оканчивал свое письмо просьбой прислать денег. Он говорил, что, вероятно, будет достаточно тысячи франков. Гонцу было поручено привезти ему эту сумму. Как только Гильбоа прочел это письмо, он подошел к железному шкафу, привинченному к стене его кабинета. Отыскивая ключ, взбешенный барон бормотал с яростью:
– Тысячу франков! И он также хочет меня ограбить, негодяй! Но терпение! Настанет день, когда ты получишь награду, Шардон! Я опять упрячу тебя в такое место, откуда тебе не следовало бы выходить.
Обернувшись к курьеру и отдав ему тысячу франков, он сказал:
– Поезжайте, друг мой. Поторопитесь.
– А ответа не будет? – спросил гонец.
– Во-первых, вот вам наполеондор. Во-вторых, скажите тому, кто вас прислал, что времени терять нельзя, пусть он поторопится.
Барон проводил курьера до дверей и, уверившись, что тот уехал, вскричал:
– О, если моему управляющему удастся, горе вам, кавалер де Каза Веккиа и маркиз де Фоконьяк!
Глава XXXVII
Двойная свадьба
Шардон не приезжал. Писал он каждый день, то из одного места, то из другого. Неужели он будет рыскать по всей Франции, отыскивая человека, след которого показывался и исчезал каждый день? Обманутая надежда так терзала барона де Гильбоа, что он стал худеть. Было от чего! Настал день свадьбы его племянниц, а Шардон все не приезжал.
Накануне при многочисленных свидетелях, собравшихся для этого в большой гостиной замка, нотариус прочел брачный контракт. За миллион и бриллианты Марии де Гран-Пре благородный Алкивиад маркиз де Фоконьяк давал какое-то поместье с весьма громким именем. За огромное состояние девицы де Леллиоль Жорж выставлял баснословную сумму, которая в то же самое утро была передана нотариусу. Император и императрица также захотели подписаться на брачном контракте. Когда нотариус привез брачный контракт во дворец Фонтенбло, Наполеон с любезной улыбкой поздравил кавалера и маркиза и кончил лестными словами:
– Если я не хотел нарушать для вас, господа, законы военной иерархии, которую сам установил в армии, то по крайней мере я могу обратиться к дипломатии, где ваши имена и ваше состояние позволяют вам занимать самое высокое место. Что же скажете вы, господа, о доверенном поручении к европейским дворам, которое позволило бы вам провести в путешествии ваш медовой месяц?
Жорж и Фоконьяк поклонились чуть не до земли в знак глубокой признательности.
– Даю вам слово, – сказал император, отпуская их движением руки, – что министру иностранных дел поручено сделать вам предложение насчет вашего дипломатического поручения.
Пока Наполеон говорил эти лестные слова обоим женихам, императрица с той добротой, которая составляла отличительную черту ее характера, целовала в лоб обеих невест и надевала на них жемчужные диадемы, подарок ее величества.
На другой день в небольшой капелле во дворце Фонтенбло совершился двойной брак. Наполеон непременно хотел, чтобы церемония происходила в его собственной церкви.
В тот же вечер Гильбоа подошел к своему новому племяннику маркизу.
– Я сдержал слово, – сказал он. – Я поспешил устроить вашу свадьбу.
– Правда, правда, – ответил Фоконьяк. – Верьте, любезный дядюшка, моей признательности.
– Я в ней убежден, – продолжал барон, – но я не об этом хотел с вами поговорить.
– А о чем же?
– Вы знаете… вы мне обещали… вы помните?..
– Да говорите же, любезный друг, – сказал гасконец, который очень хорошо понимал, на что намекает Гильбоа, но не хотел помочь. – Черт побери! Дядя с племянником не должен церемониться!
– Я говорю о перстне, – сказал барон. – Вы помните знаменитый перстень?
– Как не помнить! Я и письмо помню. Доказательством служит то, что я старательно спрятал обе эти вещи. Я был бы в отчаянии, если бы они затерялись или их украли.
Сделав ударение на этих последних словах, гасконец с лукавой улыбкой смотрел на барона.
– Я думал… – продолжал Гильбоа, с замешательством вертя в руках табакерку. – Я думал… кажется, мы условились…
– О чем? – бесстыдно спросил маркиз.
– Что тотчас после свадьбы вы возвратите мне перстень и письмо.
– Так! Но, видите ли, я рассудил, что вы старше меня, и, следовательно, по законам природы я должен вас пережить. Следовательно, перстень должен достаться мне по наследству. Для чего мне отдавать его вам? Вы понимаете, любезный дядюшка?
Барон понял очень хорошо.
Он ушел, в бешенстве бормоча и грозя кулаком:
– О черт, проклятый маркиз! Неужели не настанет моя очередь?
Глава XXXVIII
Большой пир у барона де Гильбоа
Наполеон уехал из Фонтенбло, а с ним и все придворные сановники. Отели в благородных парижских предместьях ожили по-прежнему. Особенно отель барона де Гильбоа представлял необыкновенное оживление. Гильбоа давал большой обед для новобрачных. Барон сам распоряжался всеми приготовлениями, потому что его управляющий еще не воротился. А между тем Шардону следовало бы давно приехать. В последнем письме он сообщал, что наконец нашел человека, за которым гонялся так давно, этого Леблана, который должен был разъяснить подозрения насчет Фоконьяка. В письме этом Шардон сообщал, что приедет утром в день, назначенный для обеда, но в гостиной было уже много гостей, а Шардон все не приезжал.
Не случилось ли с ним чего-нибудь?
Гильбоа, терзаемый беспокойством, терялся в предположениях. Он хотел во что бы то ни стало разоблачить мнимых кавалера и маркиза, если было справедливо то, что воображал Шардон. С одной стороны, они не хотели, несмотря на данное слово, возвратить ему перстень и письмо. С другой – Гильбоа на следующий день должен был отдать приданое племянницам. Расстаться с богатством, которое он так давно держал в руках! Каждый день чувствовать над своей головой, как дамоклов меч, угрозу быть выданным Фуше!
С возрастающим беспокойством взглядывал он каждую минуту на ворота отеля; сердце его сильно билось при стуке каждого экипажа, въезжавшего во двор.
Между тем настал час обеда. Все гости приехали. Гильбоа не мог более медлить. Обед начался печально, молчаливо. Озабоченность хозяина не укрылась ни от кого. Жорж наблюдал за бароном. С проницательностью, которую он доказывал не раз, он догадывался, что случится что-нибудь необыкновенное.
Мария с трудом скрывала свою тайную страсть к кавалеру. Жанна, погрузившись в свое счастье, мало принимала участия в разговоре, который шел очень вяло. Один маркиз де Фоконьяк казался весел и несколькими удачными словами оживил разговор, который без него прекратился бы совсем.
Таков был общий вид стола, когда вдруг в дверях показался Шардон. Гильбоа первым заметил управляющего и сделал ему знак подойти. Тот повиновался и шепнул несколько слов на ухо своему хозяину. Барон тотчас встал и, извинившись перед гостями, просил позволения отлучиться на минуту. Все поклонились в знак согласия, подумав, что он забыл отдать какие-нибудь необходимые приказания. Разговор пошел оживленнее после ухода Гильбоа, присутствие которого тяготело над всем столом.
Шардон и его хозяин, не говоря друг другу ни слова, как будто заранее условились обо всем, прямо пошли к кабинету барона, находившемуся в конце коридора, в месте, отдаленном от нескромных ушей.
Они нашли в этом кабинете человека, бесцеремонно сидевшего в собственном кресле барона. Человеку этому могло быть лет пятьдесят. Голова у него была довольно красивая, но показывала очевидные следы бурных страстей, подтачивавших его жизнь. Великолепные черные волосы и бакенбарды, такие же черные, обрамляли лицо этого человека атлетического роста.
– Жан Леблан, – просто сказал Шардон, показывая на этого человека, который поклонился с величайшей непринужденностью. – Вы можете говорить, он знает, чего вы ждете от него.
– Я думал… – начал Гильбоа.
– Что Леблан белокур, – окончил управляющий.
Барон кивнул.
– У Леблана волосы и борода всех цветов каких угодно, – продолжал Шардон. – Сегодня необходимы черные…
– Понимаю… Я намерен представить его гостям под именем Готье, одного из моих друзей, приехавшего нарочно из Тулона, чтобы присутствовать на этом семейном обеде.
– Надеюсь, барон де Гильбоа, – сказал бывший каторжник, кланяясь с величественным видом, – что вы простите вашему другу Готье, если он заставил себя ждать. Но вы легко поймете… После такого продолжительного переезда… усталость… потом надо было переодеться для такого важного случая.
Каторжник сделал ударение на этих словах.
– Словом, все послужит мне извинением перед вашими благородными гостями в том, что я опоздал.
– Очень хорошо, – ответил барон. – Все ли готово? – спросил он Шардона.
– Дано знать властям, – ответил тот. – Войдя в залу, ваш мнимый тулонский друг сделает вам знак, узнал ли он в маркизе своего бывшего товарища по тюрьме. Я увижу этот знак. Полиция тотчас явится. Все произойдет без большой огласки.
– А я именно этого и не хочу! – с живостью возразил Гильбоа. – Я хочу нанести сильный удар. Если этот человек узнает кавалера или маркиза, он должен сказать это вслух. Все должны быть свидетелями этого оскорбления. Ты меня понял?
– Понял, – ответил управитель. – Я буду стоять наготове в передней.
Через минуту барон вернулся в столовую, представил Готье своим гостям и попросил их извинить его друга, приехавшего из Прованса со всеми непредвиденными замедлениями, которые влечет за собой такое продолжительное путешествие. Потом общий разговор продолжался, но все украдкой наблюдали за приезжим. Тот, как человек сделавший продолжительный путь и желающий наверстать потерянное время, с большим аппетитом ел вкусные кушанья, поставленные перед ним. Как настоящий южный житель, со своим музыкальным акцентом, он очаровал всех своих соседей своими остротами и аппетитом. С маркизом де Фоконьяком он обменялся несколькими словами на провансальском языке. Дело в том, что гасконец заметил с первого взгляда накладные волосы и бакенбарды мнимого Готье; ему любопытно было узнать, не мнимый ли это также провансалец, и он заговорил с ним на тамошнем наречии. Словом, все, кроме Фоконьяка, ни на минуту не терявшего его из вида, были очарованы этим собеседником, который откровенно выказывал себя не только обжорой, но и человеком любезным.
Кадрус изменил своей обыкновенной осторожности и чутью. Любуясь молодой женщиной, с которой он соединился, он забыл и приезжего, и всех остальных. Один Гильбоа был как на иголках. Неужели все, чем он пожертвовал, для того чтобы отыскать этого Жана Леблана, было выброшено в окно? Неужели Шардон только хотел обобрать его? В таком случае горе ему! Или кавалер и маркиз действительно были теми, за кого выдавали себя? Когда так, все эти поиски, все эти истраченные деньги, все это продолжительное беспокойство и ожидание пропали понапрасну!.. Дурак Шардон очень дорого поплатится за свою ошибку.
Пока все предавались размышлениям на его счет, мнимый Готье не пропускал случая выпить за здоровье всякого, кто предлагал ему.
– Некоторые люди говорят, что дела прежде всего, – вдруг сказал Готье, – а я предпочитаю прежде всего хорошенько пообедать. Хороший обед придает силы, проясняет мысли, очищает зрение. Да, – повторил он так громко, что привлек на себя всеобщее внимание, – прочищает зрение! Яснее видишь. Вот, например, – прибавил он, обращаясь к хозяину дома и указывая пальцем на Жоржа и Фоконьяка, – вы, барон де Гильбоа, за этих людей выдали своих племянниц?
Глаза всех обратились на кавалера и маркиза.
– Ну, вот что значит видеть ясно, – продолжал мнимый Готье, – я теперь узнаю в них двух бывших каторжников. В первом Кадруса, знаменитого атамана Кротов, а в другом его помощника.
Неописуемый шум поднялся при этих странных словах. Все вскочили. Кадрус помертвел. Инстинктивным движением он искал за поясом свой страшный нож, которого там не было. Мария лишилась чувств. Жанна, бледнее полотна, приблизилась к Жоржу. Она, очевидно, готова была защищать его против всякого, кто осмелится наложить на него руку.
Барон бормотал сквозь зубы:
– О, мщение наконец настало!
Он смотрел на дверь.
Глава XXXIX
Арест
Управитель понял с первых слов Жана Леблана, что минута настала. Он исчез. Один Фоконьяк старался бороться.
– Разве вы не видите, что человек этот сумасшедший? – вскричал он, стараясь заглушить шум. – Надо его выгнать!
– Нет, я не сумасшедший! – с живостью возразил тот. – Хочешь доказательств? – Сорвав фальшивые бакенбарды и парик, он прибавил: – Узнаешь ли ты меня теперь?
– Жан Леблан! – невольно вскрикнул Фоконьяк.
– Жан Леблан! Твой бывший товарищ по камере. Ты был причиной, что я не мог убежать вместе с тобой! Я тебя предупреждал, я говорил тебе, что ты дорого заплатишь мне. Ну, теперь я доволен! Я отмщен!…
Изумление изобразилось на всех лицах. Кадрус ревел как дикий зверь. Потом так же, как зверь, хотел скачком выпрыгнуть в какой-нибудь выход. Но везде стоял караул.
– Если вы сделаете один шаг, – сказал начальник стражи, приметивший движение Кадруса и его помощника, – вы будете убиты, предупреждаю вас.
Кадрусу захотелось было умереть. Он готов был решиться на все. Но Жанна, повиснув на его шее, защищала его своим телом. С энергией, к которой делала способной ее неизмеримая любовь, она уцепилась за молодого человека.
– Он мой! – говорила она. – Он мой муж! Вы вырвете его из моих рук вместе с моей жизнью. Убейте меня!.. Убейте его!.. Я по крайней мере буду иметь утешение умереть вместе с ним.
Если Жорж не боялся за себя, то опасался за невинное существо, которое в своей великой любви не хотело от него отречься.
– Велите опустить ружья, – сказал он начальнику стражи, – если не ради меня, то по крайней мере ради этой бедной женщины. Я сдаюсь. Да! – вскричал он с гордостью. – Человек этот прав. Да, я атаман свирепых Кротов, да, я Кадрус!… И вы отдадите справедливость Кадрусу, что только измена этого негодяя могла выдать его. Я, так давно повелевавший другими, теперь должен повиноваться. Я готов, господа.
Он пошел к двери. Но обезумевшая Жанна, крича, судорожно цеплялась за Жоржа.
– Нет, нет!.. Вы не возьмете его!.. Он мой!.. Только он один храбрец!.. Вы все трусы!.. Попробуйте-ка его отнять у меня!..
Ее вынуждены были схватить и отнести в ее комнату, куда уже перенесли и Марию. Через несколько минут увели Кадруса и Фоконьяка. Первый, все еще гордый, надменный и, скорее, похожий на начальника среди своей свиты, чем на пленника, прошел, подняв голову, мимо гостей. Гасконец, все насмешливый, кланялся направо и налево, как маркиз, выходящий из версальских галерей.
У ворот среди толпы, окружавшей отель Гильбоа, Фоконьяк заметил каторжника, который выдал его, и сказал, сделав неприметный знак людям, находившимся в толпе любопытных.
– Жан Леблан, – он сделал ударение на этих словах, – уверяю вас в нашей полной признательности за услугу, которую вы оказали нам.
Тотчас же люди, внимательно наблюдавшие за движениями и словами помощника Кадруса, отделились от толпы.
Увидев карету, увозившую Жоржа и Фоконьяка, Гильбоа говорил:
– Наконец я отмщен… Но это еще не все… надо уничтожить эти браки. Кто захочет жениться теперь на Жанне?.. Только я!..
При этой мысли им овладел адский хохот удовлетворенной жадности. Он вернулся в отель, откуда все гости уже разъехались.
На другой день на рассвете Жана Леблана нашли убитым в постели. В горле у него была рана – печать Кротов. Только заметили, что удар ножом был сделан рукой не такой опытной, как обыкновенно.
Глава XL
Кадрус и Фоконьяк в тюрьме
Кадруса и его помощника посадили в тюрьму. Мелочные предосторожности, принятые против них, показывали, какую важность власти приписывали их аресту. Если бы послушали Фуше, так следовало бы кончить одним ружейным выстрелом. Савари, ни в чем другом не соглашавшийся с Фуше, теперь разделял его мнение, но Наполеон возразил с досадой:
– Вы зачем суетесь? Вы не смогли захватить этих людей, предоставьте же действовать тем, кто был счастливее вас.
Савари и Фуше ушли, повесив голову. Ненависть их к Кадрусу и Фоконьяку увеличилась после суровых слов императора. Выходя из дворца, Фуше сказал своему сопернику с откровенным видом, который редко принимал:
– Генерал, одно слово…
– Говорите, ваша светлость.
– Не сделаться ли нам союзниками в этом деле Кадруса, вместо того чтобы быть врагами?
– Я сам об этом думал.
Договор был заключен. Они хотели быстрой смерти.
Между тем Жорж и Фоконьяк сидели в тюрьме Форс. Два жандарма караулили двери их комнат, находившихся на двух концах двора. Опасаясь, чтобы заключенные не сообщались знаками, пленников посадили в такие камеры, где столбы, окружавшие коридоры, закрывали окна. Всякое покушение к побегу, всякое сообщение было невозможно, тем более что тюремщики беспрестанно должны были осматривать и стены и кандалы заключенных.
Их привезли ночью. На другой день после ареста никто не мог их видеть. Однако через час все знали о прибытии Кадруса и его помощника, знали также имя человека, выдавшего их. Все почувствовали неумолимую ненависть к Жану Леблану. Они осудили его на смерть, не зная, что казнь уже свершилась над ним. Они узнали об этом только через день. Каким образом слухи могут доходить за стены тюрьмы? Этого никогда нельзя было узнать.
Все чрезвычайно желали увидать знаменитых разбойников, но их держали в таком строгом заключении, что это не удавалось никому. Все знали о печальной участи, ожидавшей начальников Кротов; те сами не могли этого не знать, но одни были веселы среди всеобщего сокрушения, так веселы, что по всему коридору раздавалось пение Фоконьяка.
Между тем следствие началось, но мало подвигалось. Конечно, судебный следователь знает, что держит в руках Кадруса и его помощника. Но кто же помощник? Кто Кадрус? До сих пор он велел приводить к себе отдельно обоих обвиненных. Когда допрашивали младшего – того, кого считали атаманом, – он действительно называл себя Кадрусом и прибавлял, что его друг – его помощник, его правая рука. Когда расспрашивали другого арестанта, тот в свою очередь говорил, что он настоящий Кадрус.
– Вы это знаете, – говорил он. – Я не могу опровергать очевидность. Я был в тюрьме раньше этого молодого человека. Шайка, наделавшая вам столько хлопот, составилась до его прибытия. Я не отрицаю, что Жорж также участвовал в ней, но как помощник, а не как начальник. Я настоящий Кадрус.
Судебный следователь не знал, как ему распутать эту путаницу. Но если бы он понимал пение обоих Кротов, то догадался бы. Оба пленника переговаривались этим пением каждый день.
Наконец судьи придумали последнее средство. Кадруса и Фоконьяка отвезли каждого в отдельной повозке в Консьержери и заставили пройти по двору тюрьмы Форс, выпустив на этот двор всех арестантов. Надеялись, что какой-нибудь пленник, какое-нибудь невольное движение откроет следы истины.
Громкие крики встретили Жоржа, словно короля, являющегося среди придворных.
– Да здравствует Кадрус! – кричали со всех сторон с неописуемым энтузиазмом арестанты и бросили Жоржу букет.
– Наконец! – с облегчением сказал судебный следователь, который из окна слышал восклицания во дворе. – Теперь сомневаться невозможно. Младший из арестантов – страшный атаман Кротов.
Но не менее восторженные крики встретили появление Фоконьяка.
– Да здравствует атаман! Да здравствует Кадрус!
И ему тоже был брошен букет. Дело в том, что никто из содержавшихся в Форсе не знал атамана Кротов.
Судебный следователь взбесился и наконец решился на другой день поставить на очную ставку обоих арестантов в своем кабинете; может быть, каким-нибудь образом они выдадут себя.
Между тем Жоржа и Фоконьяка опять посадили в их камеры. Первый, спокойный и равнодушный, будто находился еще в своих комнатах в Фонтенбло, осторожно поставил в кружку с водой подаренный ему букет. Он печально улыбнулся при виде этого букета, говорившего ему о полях, о свободе, потом вдруг облако пробежало по его лицу – эти цветы напомнили ему его бедную Жанну. Как она должна быть огорчена! Он сел на кровать и начал думать.
Фоконьяк же занимался совсем другим. Никто не вообразил бы, что он имеет к ботанике такую страсть. Со всем вниманием страстного естествоиспытателя он рассматривал каждый цветок в своем букете, считал лепестки, щупал листья. Потом перешел к стеблям, ощупал их, согнул, потом разорвал на мелкие куски. Вдруг крик радости вырвался из груди его. С инстинктом, приобретаемом в тюрьме каждым арестантом, он чувствовал, что в букете, подаренном ему арестантами, должно что-нибудь скрываться. Что? Он нашел в этом стебле микроскопическую пилу. Он тотчас затянул обычную песню. Жорж прислушался. Он скоро понял. Тогда, в свою очередь осмотрев букет, он вынул точно такую же пилу.
Оба Крота с беспокойством ждали последнего обхода тюремщика, потом принялись подпиливать замки у своих цепей. Они были так опытны в этой работе, что долго она продолжаться не могла, и цепи они подпилили так искусно, что самый зоркий глаз не мог подметить этого. Оба довольные, они заснули спокойно.
На другой день их разбудил тюремщик, пришедший отвести их к судебному следователю. В повозке, с конвоем из четырех жандармов, обоих Кротов привезли в Консьержери.
Судебный следователь сидел за столом, заваленным бумагами. Напротив него помещался его секретарь, чинивший перо, чтобы записывать ответы арестантов. Обвиненные стояли у стола. Оставили только двух жандармов, двух других отпустили. Оставленные жандармы, с обнаженной саблей, сели с каждой стороны двери. Опираясь на рукоятку своего оружия, они имели небрежную, скучающую, равнодушную позу, свойственную всем жандармам в подобном месте.
Судебный следователь напрасно рассматривал лица арестантов, он не мог разобрать ничего. Ни малейшее движение, ни малейший знак не обнаружили ему ничего. В этих железных людях он приметил только удовольствие видеть друг друга, и больше ничего. С известным упорством следователей напрасно он предлагал самые вероломные вопросы, он не мог добиться ничего. Каждый из арестантов по-прежнему утверждал, что он Кадрус. Кроме этого ответа, оба хранили упорное молчание. Следователь начинал приходить в отчаяние, когда рассыльной в тюремной ливрее вошел в кабинет.
– Эти бумаги вам приказал отдать тюремный смотритель, – сказал он.
При звуке этого голоса Кадрус и Фоконьяк не могли не вздрогнуть.
Думая найти в этих бумагах истину, которую арестанты так упорно от него скрывали, следователь принялся внимательно их читать и не заметил взгляд, которым разменялись арестанты и мнимый рассыльной.
Вдруг засвистели в воздухе кандалы Кадруса и его помощника и, опустившись на головы несчастных жандармов, сразу убили их, а мнимый рассыльной, как обезьяна вскочив на плечи судебного следователя, связал его по рукам и по ногам и засунул ему в рот кляп. Секретарь счел за лучшее лишиться чувств, однако его также связали. Все это произошло гораздо скорее, чем можно было написать. Когда все было кончено, Кадрус и Фоконьяк с волнением пожали руку мнимому рассыльному.
– Благодарим, – сказали они, – мы знали, что Белка способен к такой преданности.
– Я давно выжидал случай, – отвечал молодой Крот. – А теперь скорее, скорее! – говорил он своим начальникам, которые торопливо надевали мундиры жандармов. – Я разузнал весь лабиринт здешних коридоров. Вы пройдете свободно, пока я вступлю в разговор с часовыми, стоящими у каждой двери.
Через минуту Кадрус и Фоконьяк благополучно вышли на улицу, где крик, раздавшийся из кареты, чуть не изменил их судьбу.




