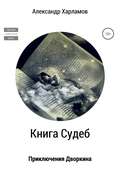Александр Харламов
Высшая мера
ГЛАВА 8
Головко не обманул. Возле входа в вокзал, с правой стороны от верей стояла телега с лошадью, лениво что-то выбирающей в снегу. При виде хоящина она заржала, приветливо кивая гривой. Сержант ласково потрепал её длинной , породистой шее, а потом обернулся к пораженно замершим подле телеги Андрею с Валентиной.
– Значит, устраиваемся, товарищи! Барышню мы вот сюда в сено посадим, а вас, товарищ капитан, значит, сюда, ко мне на козлы, часа через четыре будем на месте. Барышня и подремать успеет.
Валентина заметила, как всего передернуло Андрея, когда к нему обратились в соответствии с новым званием. К новым петлицам он так пока привыкнуть не смог. Легко взвалил на телегу чемодану, сел рядом, не обращая внимания на супругу, которая неловко затопталась подле подводы, кутаясь в теплый пуховый платок. Дул пронизывающий сырой зимний ветер, который тут казалася намного неприветливее и ледянее, чем в остальной части России.
Привокзальная площадь была пуста. На другой стороне промелькнула такая же телега с возницей, да трое рабочих прошли в сторону вокзала. Грустным и нелюдимым городом оказался Саранск, серые дома, пустые улицы, невзрачная площадь. Все здесь сделано было вроде бы как наполовину, не по-городскому, но уже и не по-деревенски, вот и эта подвода с лошадью…Казалось наступил новый век, век машиностроения и механизации, ан нет…Гривастая красавица, как и сто лет совершала переходы по тридцать с лишним верст, так и совершает.
– Туточки, значит, удобнее всего будет…– заметил Головко замешательство Валентины и не преминул помочь. Подсадил ее на мягкое сено, куда она провалилась, будто в душистое парное молоко. Сразу стало намного теплее и уютнее, словно в детство вернулась.
– Но-оо!– причмокнул губами Головко, ловко управляя поводьями. Лошадка, дотоле меланхоличная и спокойная, мгновенно взяла широким размашистым аллюром, и Валечке оставалось лишь только наблюдать, как мимо них пролетают дома, переулки, казенные учреждения и какие-то склады.
Все вокруг было уныло и однообразно. То противного скучно и неинтересно. Ей даже удалось задремать под неторопливый разговор мужа с сержантом.
– А что лагерь ваш,– интересовался Коноваленко,– большой? Что за жизнь в нем?
– Лагерь большой, значит…– негромко ему в ответ повествовал Головко, знай нахлестывая лошадку, несущую их по заснеженным улицам.– Темниковский самый крупный в нашем управлении. Почитай две тыщи душ содержит! Лесопилка у нас своя, цех лакокрасочных изделий, мебельная фабрика, значит, имеется…Шпалы делаем, шьем одежду мало-помалу…
– А начальником кто у вас?
– Дык, вы, товарищ капитан, и начальник, значит,– пожал плечами Головко.
– Я только приехал, а до меня? Что с ним произошло?
Наступило долгое молчание. Сержант явно не хотел отвечать на поставленный вопрос и сделал вид, что его не расслышал, вместо этого громко и по-рабойничьи засвистел, подгоняя каурую кобылку.
– Так что случилос с прежним начальником, а?– повторил свой вопрос Андрей, стараясь, чтобы его голос звучал, как можно мягче и доброжелательнее.
– А все одно расскажуть…– вздохнул Головко, пряча глаза.– Окромя политических, а их у нас больше половины. Сидят у нас рецедивисты всех мастей, воры значит. Главный среди них Хасан, морда некрещенная. Держит он ворье это в кулаке, вот тут,– сержант показла огромный сжатый кулак из разбитых работой ладоней,– норму не делает, на работу не ходит, да и всем своим «шестеркам» запрещает. Вот наш бывший начальник и сговориться с ним решил, дело это, значит, миром определить. Они норму выработки дают, а он им вроде бы как послабление режима, лично для Хасана сделает…
– И что? Воры согласились?– заинтересовался Андрей. Для него работа в лагере была новым и неизведанным этапом в карьере. Как-то раньше ему приходилось охотиться на шпионов, ловить бандитов и налетчиков, а вот с криминальными элементами дружбу водить он не пробовал.
– Воры они на то и воры! Жулье, значит! Им палец в рот не клади, значит, по локоть откусят! Через пару дней, даже те кто и выходил из этой компании на работу, и те бросили, вроде бы как забастовку, значит, устроили. Начальник к нему, мол, что же ты гад делаешь-то, договор дороже денег! А он ему в ответ, вот УДО мне оформи и дружкам моим, там и побалакаем. Начальнику, значит, деваться некуда, он все и оформил, а про то, в главному управлении прознали, вроде стукачка у нас завелось, ну и начальника нашего сгоряча в расход пустили, значит. Упокой Христос, его душу грешную! Пресквернейший был мужик, доложу я вам…А заместо него, вас, значит, прислали…А пока вы не прибыли наш политрук обязанности исполняет. Парень молодой, горячий Ковригин фамилия. Он этап принимать поехал. Сегодня ночью прибыть должон!
– Этап?– нахмурился Коноваленко.
– Вроде как пополнения зэковского,– охотно пояснил Головко, закуривая самосада из холщового кисета. Лошади поводья он отпустил. Она брела сама по себе, отдыхая. Андрей заметил, что сержант кобылу любил, берег ее, давая отдохнуть через определенные версты,– но вы особо не переживайте. Их мало прибудет, человек десять, не боле…У нас и без них все бараки переполнены. Лейтенант сделает и оформит все в лучшем виде.
– Ясно…– проговорил Андрей. Со времен Харькова он научился подозревать в людях самое плохое. Хитрый и пронырливый карьерист Секретарь Власенко объяснил ему на живом примере, что доверять никому кроме себя никому нельзя. И если в составе лагеря есть «крот» или сексот, то лучше его будет определить и вычислить сразу. Обо все об этом он ни словом не обмолвился Головко, молча стал наблюдать за пролетающей мимо природой. Хвойные леса сменялись лиственными, засыпанные пушистым свежим снегом, они казались чуть ли не нарисованными, будто на картинке из сказки Морозко. Густые еловые лапы, увенчанные ледяными шапками, стояли ровными рядами вдоль проселочной дороги, по которой они ехали величаво и солидно. По правой от них стороне бежала вдаль двумя нитками рельс железнодорожная ветка. Судя по снежному насту, образовавшемуся поверх головок рельс, поезда здесь были редкостью и ходили нерегулярно. Левее, утопая в лучах холодного зимнего солнца, играющего бликами в разлившейся речке, в засушливое лето, судя по всему, пересыхающей до размеров ручейка, тек один из притоков Яваса. Сильное течение несло в себе обломки веток, куски бревен и прочий хлам, собравшийся с берегов. Зрелище было удивительное и завораживающее. Шумный поток гудел, ревел и рвался из берегов, ломая с хрустом камыш по пойме. Андрей попросил остановиться.
– Я думал такое бывает только весной!– кивнул он в сторону реки.
– Не зря мокши говорят, что второе название Яваса «беспокойный». Еще день два и встанет лед, скует это все намертво до самого апреля, а сейчас он на последнем издыхании у нас…– объяснил Головко. Самокрутка дотлела, обожгла сержанту губы.– Надо ехать, товарищ капитан, значит…Иначе до ночи не управимся, а ночевать в лесу дело малоприятное, особливо, значит, с барышней.
– Поехали, действительно!– кивнул Андрей, усаживаясь обратно не телегу.– Чего это я, правда? Нигде раньше такой природы не видел.
– То ли еще будет!
– Это точно! А вот скажи мне, сержант, ты упомянул слов «мокши»…Это кто ж такие будут?
– Местные, мордва! Их по ихнему мокши зовут. Они нам иногда еду продают, что охотой зарабатывают.
– А что с питанием перебои?– встревожился Андрей.
Головко снова промолчал, мол, сами увидите, чего языком зря трепать. Или же не понимает, что организму на одной тушенке, да стылой гнилой картошке не протянуть долгую саранскую зиму? Ничего он ему не сказал, лишь прицокнул на кобылу громче обычного, погнав ее чуть быстрее. Под это мирное укачивание, вернувшее Валю в детство, женщина уснула, чувствуя себя в полной безопасности, впервые за последние полгода.
Неизвестно сколько они добирались до лагеря. Она открыла глаза, когда вокруг уже серело, а на лесную дорогу, по которой трусила легкой рысью лошадка, спускались сумерки. Верхушки елей окутал густой туман, спускаясь все ниже и ниже, клубясь по яркам и оврагам теплой белой ватой. Валя проснулаьс оттого, что ноги ощутимо стали подмерзать. Поднялся северный пронизывающий ветер, ледяным колким огнем обжигающим лицо.
Головко молчал, кажется, дремая на козлах, а муж о чем-то сосредоточенно думал. Что творилось в его голове, было одному Богу известно, но у Валентины, за столько лет изучившей мужа, появилось стойкое ощущение, что ничего хорошего злая полуулыбка ни ей, ни работникам лагеря не предвещает.
– Еще долго?– неожиданно спросил он, недовольно кривя губы.
– Так, значит, уже почти приехали, товарищ капитан!– встрепенулся Головко, поправляя съехавшую на глаза шапку-ушанку, бывшую ему на несколько размеров больше положенного.
Уставшая, но почуявшая дом, лошадь напрягла последние силы и вынесла их на небольшую сопку, хрипя и закусывая удила. Перед глазами Вали предстал огромный поселок, построенный в форме правильного квадрата, огороженного по всему периметру тремя рядами колючей проволоки. Там, куда вела, извиваясь по склону сопки дорога, располагались широкие ворота, возле которых примостилась серенькая невзрачная будочка. Возле будки, перетоптываясь с ноги на ноги, бродил замерший, с поднятым воротником потрепанной шинельки красноармеец в буденовке с синей пятиугольной звездой. На плече у него висела винтовка Мосина, бьющая его при каждом шаге по бедру. Он довольно резво наворачивал круги вокруг будки, дуя на окоченевшие от холодного пронизывающего ветра пальцы, изредка приплясывая, чтобы согреться. Над воротами был растянут транспорант из красной кумачовой ткани. На нем широкими белыми буквами было начертано, что труд облагораживает человека и призыв к исправлению. Транспорант был старый, кое-где потрепанный. Один край его был слегка надорван и тревожно хлопал на ветру.
Далее стройными правильными рядами тянулись грубо сколоченные бараки. Они были четко разделены на некое подобие улиц. На каждой такой улице располагалось друг за другом до десяти строений, вряд ли пригодных для проживания людей. В самом дальнем углу периметра виднелся длинный широкий ров на всю длину лагеря. Его Валентина бы ни за что из той точки, где они приостановились, никогда бы не заметила, если бы рядом с ним на белом снегу не выделялся вал рыжей глины. За стройными рядами бараков стояло двухэтажной здание, сложенное из толстых массивных бревен, с настоящими окнами и шиферной крышшей, что было настоящей редкостью для этих мест, слева от него, еще одно, чуть поменьше и поскромнее, но все же то же солидное. Из высоких каменных труб в этих двух зданиях вился в небо тонкий серый дымок, который уже трудно было различить в сгущающихся сумерках и спускающимся тумане. По всему периметру, в пределах трех рядов колючей проволоки, на каждой улице отдельно в начале и конце, а так же по углам установлены были вышки. На каждой вышке сидело по пулеметчику, зорко всматривающемуся в каждое движение на улицах лагеря. Хотя лагерь был, на первый взгляд, пуст и покинут. Лишь в самом последнем из бараков звенело что-то и беспрестанно работало.
– Вот, значит, и есть наш Темниковский лагерь, сокращенно ТемЛаг!– гордо улыбнулся Головко, понукая кобылу к движению. Их качнуло в телеге, а Валентина вообще опрокинулась на спину. Дорогое пальто помялось, на него налипла целая куча соломинок. Она недоволльно отряхнулась, вспомнив, что совсем недавно встречали их по-другому, на красивой машине, а не на телеге, молодой офицер, а не старый сержант-сверхсрочник, глуховатый и повторяющий через слов «значит». При мысле о Сашке, ее сердце тревожно забилось, но она сумела совладать с собой, сделав каменное лицо. Не дай Бог, заметил бы ее воодушевление Андрей, не миновать большого скандала.
– Посторонись!– раздалось позади них бравурное и молодцеватое. Топот сотни пар сапог заставил заморенную кобылу шарахнуться в сторону, принимая правее. Валя обернулась, ища глазами источник крика.
По той же самой дороге, по которой они приехали в лагерь, маршировала огромная толпа мужчин самого ужасного вида. Многие из зэков еле передвигались. Этих немногих бедолаг старались поддерживать за руки соседи, шагающие рядом. Оборванные, грязные, немытые, ошалевшие от вшей и непосильной работы люди двигались в их сторону странной комковатой массой, мало напоминающей строй. Рядом с ними справа и слева двигались человек десять молодых конвоиров, каждый из которых был вооружен автоматом ППШ, а с двумя из вертухаев трусили, поджав уши две немецкие овчарки, зорко поглядывающие за строем, подгоняющие толпу громким и звонким лаем, оглушительным эхом разносящимся по дороге.
– Ну-ка стоять!– проревел сержант в длинной шинеле, с покрытым легким инеем воротником. Зэки шарахнулись в сторону, испуганные громким криком, подчиняясь абсолютному выработанному инстинкту страха опасности. Овчарки бросились вперед, срываясь на лай, натягивая поводки. – Стоять, твари!– прокричал конвойный, останавливая толпу, ломящуюся без разбору кто в лес, кто по дрова. Валентина вдруг увидела небритые впалые щеки, серые, будто посыпанные пеплом грустные глаза, напряженные, словно ждущие чего-то плохого лица. В них осталось мало чего человеческого, сломленные, задушенные режимом, они жили каким-то нечеловеческим напряжением воли, сами не понимая зачем, для чего, почему…
– Товарищ начальник лагеря, бригада седьмого отряда возвращается с места вырубки по лесозаготовкам в полном составе. Больных и отсутствующих нет! Докладывал старший сержант Серков,– доклад Андрей принимал уже стоя.
– Больных нет?– уточнил Коноваленко, стараясь не замечать полуживых людей покачивающихся в руках товарищей.
– Никак нет!
– А эти?
– Симулянты!– вытянулся в струнку Серко.– Завтра же будут наказаны тремя сутками карцера!
– Ну-ну…– нахмурился Андрей.– Можете продолжать движение!
– Становись! Смирно, граждане заключенные!– проорал Серко.– За мной шагом марш!
Бригада кое-как восстановила относительный порядок. Последовала за сержантом, проходя мимо Валентины, так и сидевшей с открытым ртом на телеге. Настолько поразительным, ужасающим было состояние зэков, что их движение напоминало движением живых мертвецов из книги ужасов. Пустые глаза, обтянутые синюшной кожей черепа, бесконечной веренницей тянущиеся друг за другом.
Когда колонна скрылась в воротах, Андрей дал командовать двигаться дальше. Насколько Валентина знала мужа, такая картина его, несомненно, озадачила.
– Поторопись,– приказал он коротко Головко, настороженно наблюдающему за его реакцией на первую встречу с контингентом.
– Будет сделано!
На КПП их проверили, доложили по форме, все так же сопровождая неизвестно чего ждущим взглядом. Это раздражало и пугало.
– Что я тут делать буду…– вырвалось у Вали, когда они проскочили через весь лагерь, осмотрев «главный прашпект», как сообщил им радостно Головко. Картина вокруг была грустной и безрадостнойж. Вырвалось случайно, но Андрей ее прекрасно расслышал. Повернулся к ней вполоборота, сверля острым колючим злым взглядом.
– Тоже чему ты училась так долго в институте…Людей лечить!
– Но…– попыталась возразить она, внутренне сжимаясь от предчувствия чего-то нехорошего.
– Что но? Тут есть вакансия главврача. Образование тебе позволяет им быть, а то, что это зэки, и тебе придется ходить к ним в бараке одной, рисковать жизнью, общаясь с ними, рисковать здоровьем, так не этого ли ты хотела, когда трахалась со своим…Клименко? Я хоть не верующий, но уверен, что каждому воздается по заслугам его. Так, Головко?
Сержант, будучи сверхсрочником, а значит человеком опытным, сделал вид , что не расслышал вопроса. А Валентина не стала спорить, боясь очередного всплекса гнева супруга и его последствий.
ГЛАВА 9
Рано утром я проснулся от встревоженного голоса отца Григория. Потом раздался шум, команда просыпаться.
– Встать, твари!– прикрикнул сержант, бросаясь к нашей решетке, перегораживающей вагон.
– Господи помилуй, душу усопшего раба Божьего!– тараторил батюшка истово крестясь. Рядом грустно вздохнул Качинский. Пришлось вставать. Открыл глаза, вставая на ноги. Рядом с нарами воров лежал труп молодого паренька, за которого вчера мне пришлось вступиться. Мальчишка лежал в луже собственной крови, глаза открыты, смотреть грустным обреченным взглядом куда-то в потолок, будто видят там что-то, что недоступно нам, все еще живым.
– Боже мой…Совсем молодой парень…Как же так…грех-то какой!– качал головой отец Григорий, плаксиво, по-бабьи всхлипывая.
– Красиво ушел…– заключил Кислый, который тоже проснулся, и теперь сидел на нарах, поджав ноги по-турецки. Рядом его «шестерки» напряженно зыркали по сторонам, готовые в момент любой опасности защитить своего главаря.
– Откуда у него лезвие?– кивнул Качинский на открытую ладонь паренька. На ней валялся обломок лезвия от безопасной бритвы, которой мальчишка располосовал себе вены.
– Прошляпил досмотр!– заключил Кислый.
Я подошел поближе, рассматривая парня. Никаких следов борьбы, синяков. Ушибов и ссадин – абсолютно умиротворенное лицо, как будто он был даже счастлив закончить свой путь так.
– Кто-нибудь что-то слышал ночью?– спросил я, осматривая сокамерников.
– Ты свои замашки ментовские брось! Чай, не в кабинете у себя на Лубянке допросы тут устраивать!– буркнул Кислый, сверля меня упрямым мстительным взглядом. Федор со своими работягами отвернулся, а отец Григорий с Качинским пожали плечами.
– Тихо вроде все было!
– Да сам он, б…я буду!– бросил вор.– Вы только гляньте, морда какая счастливая! Понимал, что на зону попадет, там опетушат! Слаб он…Слаб был! А так ушел красиво!– повторил зэк.
– Кто ушел?! Ну-ка, отошли от решетки, животные! Харей к стене, глаза в пол. Руки за спину! Ноги на ширине плеч! Живо!– прокричал сержант, хватая наган из кобуры. Они вместе с Ковригиным тоже окончательно проснулись и рассмотрели труп на полу камеры.
– Оглохли что ли!– щелкнул замок. Молодой лейтенант дождался пока мы примем указанную позу и ворвался в камеру.
– Твою ж мать!– сплюнул он, склонившись над самоубийцей, проверяя пульс. Хотя и сам понимал, что ни о какой жизни там не может быть и речи. Мертвец уже остыл и начал покрываться желто-синими трупными пятнами. Кровь свернулась несмываемым коричневым пятном под ним.
– Суки!– процедил он.– Кто вальнул? Говорить! Быстро!
Ковригин бросился к Кислому, обдав того запахом свежего перегара. Посмотрел ему в глаза, даже попытался тряхнуть за плечи, но вор ловко угнулся.
– Сам он! Сам, начальник! Вон и «мойка» в ладонях! Засыпали стонал под шконкой, а проснулись, труп.
– Кто вальнул, суки! Признавайтесь, твари!– не остановился на Кислом взбешенный Ковригин.– Ты? – от вора бросился он к Федору, но тот смотрел куда мимо офицера, делая вид, что не понимает вопроса.– Или ты, батюшка, надоумил? Или ты, контра? Говорить!
– Сам он, товарищ лейтенант…– глухо проговорил сержант.– Для нас для всех лучше будет, если сам…
Мысль опытного конвойного я понимал. Сообщи в лагерь сейчас, что совершенно убийство, начнутся долгие разборки. Комиссии и прочее. Ковригину не поздоровится, куда смотрели? Почему допустили? Дело все равно прикроют и спустят на тормозах, но нервов попортят изрядно, потому и настаивал сержант на самоубийстве. Хотя я лично сам был уверен, что без Кислого тут не обошлось. Конечно, ворам запрещено самим морать руки, но вот «шестерки» его вполне могли ночью помочь пареньку уйти в мир иной. Я мысленно даже прикинул, как это могло происходить. Дождались пока мальчишка заснет. Перевернется на спину. Один закрыл рот, чтобы кричать не мог, а второй резанул по венам. Потрепыхался, подергался под напором и все… Мне показалось, что я даже рассмотрел краем глаза довольную ухмылку Кислого.
– Хорошо…– согласился с младшим по званию офицер НКВД. Встал, отряхнул руки, брезгливо вытирая их чистым свежим белым платком, показавшимся после грязи тюремных камер и вонючей одежды чуть ли не белоснежным. Мама когда-то мне каждый день клала на работу такой же…Только с вышитой на боку ромашкой.– Пусть так… А вы…Запомните, твари, что как только приедем в лагерь! Я с каждого! Слышите! С каждого шкуру спущу…Понятно?!
– Так точно, гражданин начальник!– вразнобой отозвались мы.
– Вольно, животные!– процедил Ковригин, выходя из камеры. Сержант тут же следом щелкнул замком, замыкая решетку.
– Эй, начальник!– торопливо вскочил Кислый на нарах.– Ты куда?
– Кислов, я что перед тобой отчитываться должен, а?– нахмурился сержант, кивая на металлический прут, стоявший возле бочки с водой.
– А жмурика куда?
– Ты может предлагаешь мне его к себе забрать? Рядом на нары положить, да стеречь?– ехидно усмехнулся конвойный.– Вы завалили паренька, вы с ним и до прибытия в лагерь существовать и будете. Пусть полежит, Кислов, он не кусается, да и сосед не шумный…– вдвоем Ковригин с помощником расхохотались над не очень уж остроумной шуткой. Качинский поморщился.
– Так нельзя, начальник! Тут тепло…Он вонять будет!– возмутился товарищ Кислого. Тот самый, что был с синяком под глазом, как рассказал мне отец Григорий, поставленным ему Львом Даниловичем в пылу идеалогического спора.
– Извини, Портнов, но вагон-холодильник я не заказывал для вас,– улыбнулся Ковригин.– Приеду я в лагерь, меня спросят, получил ты десять зэков, а привез девять, а где один? И что им сказать? Что у меня этап трупную вонь не переносит? Пришлось жмурика, который в дороге окочурился, на перегоне выбросить? Отдыхай, Портнов!
– Хоть не топите!– попросил Качинский.– Сами же с нами нюхать будете…
Сержант несколько секунд подумал и кивнул.
– Вот это предложение дельное! Сразу видно аристократа!– тут же плеснул в буржуйку воды, чтобы погасить еле тлеющие с ночи угли. Они зашипели, обдали паром., поднимавшимся клубами к потолку вагона. Сразу возникла мысль о бане. Будто по мановению волшебной палочки зачесалось почти все тело. Я с трудом вспомнил, когда мылся.
– Прости его, Господи! – прошептал отец Григорий, снимая через голову свою потрепанную черную рясу, накрывая ею мальчишку.
– Замерзнешь…– шепнул ему я, когда священник уселся рядом, уперев грустный взгляд в стену.
– Так честно будет, по-человечески,– пояснил он, обхватив колени руками. Его худая, по-старчески дряблая кожа, покрылась мурашками. Грязная замусоленная майка не грела.
О трупе в камере все забыли. И теперь я прекрасно понимал батюшку, который прикрыл паренька. Лицо того уже не казалось бы мне спокойным и умиротворенным. Через распахнутые настежь глаза на нас всех смотрела бы сама смерть.
В Саранске нас отцепили от грузового поезда, в составе которого отправили по этапу. Ближе к обеду сержант сжалился над нами и попоил водой. Видимо, мы приближались к месту назачения, а значит экономить воду было бессмысленно. Слова Качинского меня расстроили. Несмотря на все то, что со мной случилось за последнее время, мысль о том, что контора – корень всех бед и проблем нашего молодого государства была мне искренне противна. Я не считал, что в наркомате работают лишь карьеристы и стукачи, но спорить с бывшим белым офицером не имело смысла.
На крупной станции наш вагон обогнали, подцепили к старенькому паровозу и медленно потянули в сторону Темниковского лагеря. Всю дорогу Кислый с дружками бросал в мою сторону многозначительные взгляды, не обещавшие по прибытию лично мне ничего хорошего. Даже Ковригин с сержантом как-то попритихли, негромко сидели за стол, переговариваясь о чем-то своем.
Отцу Григорию я выделил свою робу погреться, удивляясь мужеству этого человека. Мороз мгновенно пробрался по всему телу, сковал замедляя движения. Немного потряхивало. Вагон, переставший отапливаться с широкими дырами в стене, через которые гулял сквозняк, быстро остывал, а он умудрился выдержать таким вот образом почти три часа, пока мы не увидели, что он теряет сознание, а губы уже синеют.
Качинский, наблюдая за нами, предложил меняться, давая погреться отцу Григорию одежду по очереди. Несмотря на идеалогические разногласия Лев Данилович нравился мне все больше и больше своей спокойно рассудительностью и зрелым взглядом на жизнь. Я бы даже несомненно смог бы с ним подружиться, но…
Часа через четыре наш состав остановили на небольшой станции. Определить это я сумел по отсутствию посторонних шумов, которые всегда сопровождают крупные железнодорожные узлы: голос диктора, гудки паровозов, гомон пассажиров… Ковригин вышел из вагона, распахнув двери настежь. Внутрь тут же ворвалось облако морозного воздуха, а Качинский затрясся от холода.
– Встать! Лицом к стене!– прокричал сержант, отмыкая решетку.– По моему приказу построиться в колонну по одному и выходить. Напоминаю, животные, что шаг вправо, шаг влево будет считаться попыткой к бегству, поэтому настоятельно рекомендую идти ровненько, как балерины!
В этот раз он даже не стал заморачиваться с револьвером. Пистолет так и остался у него в поясной кобуре, а навел он на нас новенький ППШ в заводской смазке. Щелкнул затвором и сделал шаг в сторону, чтобы дать нам возможность пройти. Палец на спусковом крючке подрагивал. Глаза напряженно и цепко осматривали нас, готовые среагировать на любое лишнее движение и пальнуть по толпе очередью.
– Не бзди, начальник!– подмигнул ему Кислый, первым шагая вместе со своими шестерками наружу.– Кому ты нужен?
– Пошёл вперед, Кислов! Попытка к бегству штука такая, как хочу, так ее и определяю! Вот решу, что ты надумал оружие мое захватить, яйца отстрелю тебе, что потом говорить будешь?– хмуро буркнул сержант.
Кислый пожал плечами и проследовал с гордо поднятой головой на свежий воздух, за ним двое его личных прихлебателей, или, как говорил презрительно о них Качинский, адъютантов. Далее в дверной просвет отправились Федор с товарищами, громко залаяли собаки, срываясь с поводка и лишь потом мы втроем.
Солнечный яркий свет больно ударил по глазам. После постоянного полумрака вагона, к которому я как-то за это время адаптировался, все казалось болезненно цветным и снежно белым. Неровный строй моих сокамерников уже стоял рядом с вагоном под пристальным взглядом Ковригина и солдат-срочников.
Я осмотрелся по сторонам, стараясь, чтобы это не выглядело излишне подозрительным.
Станция была небольшая. Одноэтажное здание с двухскатной крышей напоминало сказочный теремок из сказки Одоевского про Морозко. Резные наличники, высокое крыльцо, украшенное деревянными перилами, большие светлые окна легкомысленного ярко салатового цвета создавали общее впечатление нереальности происходящего. Вокруг, куда хватало взгляда, простиралось зеленое море леса и железнодорожный путь, уходящий в него словно бы в глубину. Два пути из трех были свободны. Из чего я сделал вывод, что станция поппулярностью у местных жителей не пользуется. На третьем стоял наш вагон, уже отцепленный от паровоза. Возле платформы, где мы выстроились редкой цепью рассположились семеро конвойных, настороженно наблюдавших за нашим поведением.
– Значит так, граждане бандиты, предатели и контрреволюционеры,– прокашлявшись громко и патетически начал Ковригин, пряча свой пистолет в кобуру. Сейчас, под прицелом восьми автоматов и под присмотром трех бешено лающих овчарок, ему нечего было нас бояться,– мы прибыли на станцию Темниково. До лагеря, который вас любезно решил взять и приютить, дальше придется идти ножками, чай, не барины, простите уж гражданин Качинский,– улыбнулся он ехидно Льву Данилычу,– а значит условия прежние…Шаг влево, шаг вправо – расстрел на месте. Идти молча, строем, следовать командам конвоя. Всем все понятно?
Наша неровная шеренга пробурчала нечто невразумительное.
– А если ж по нужде захочется, гражданин начальник?– развязно скалясь уточнил Кислый.– Можно мне на минутку в кустики отлучиться?
Ковригин побелел, понимая, что вор издевается над ним.
– Условия прежние! На-лево! Шагом…– сержант неожиданно остановил его, зашептав что-то на ухо, горячо доказывая.– Стоять! Направо! Что ж вы, твари этакие, о товарище своем не вспомнили? Я ж говорил, что десять с этапом поехало, десять ваших противных рыл должно и в лагерь прибыть, а посему…– он задумчиво окинул нас взглядом.– Качинский и Клименко!
Мы с Львом переглянулись и шагнули вперед.
– Заключенный Качинский 1894 года рождения, статья 58 часть б.
– Заключенный Клименко 1915 года рождения, статья 58 часть в.
– В вагоне заберете товарища вашего и в путь! По очереди!
– Что?– вырвалось у меня. Тугой комок подкатил к горлу. Я представил, как выглядит труп паренька, за которого по глупости своей заступился вчера, как пах. Стал противно.
– Клименко, в ШИЗО сразу захотел?– нахмурил брови Ковригин.
– Никак нет!– потянул меня за рукав Качинский.– Будет исполнено…
Вдвоем мы вернулись обратно в вагон под пристальным взглядом сержанта. После свежего морозного воздуха дышать тут стало невыносимо. Все вокруг пропахло крепким мужским потом, нечистотами и запахом давно немытых тел.
– Амбре еще то…– вздохнул Лев Данилович, наклоняясь над трупом. Сбросил с него рясу отца Григория, кинув ее мне.– Отдай, а то замерзнет наш духовник!– посоветовал он, взваливая на плечи паренька. Тело оказалось неожиданно тяжелым. Начал появляться сладковато приторный запах. Негнущиеся ноги со стуком волочились по полу.– Будем нести по сколько сможем,– пояснил, крехтя, Качинский,– а там, как Бог даст…
Я вышел следом за белым офицером, приминая в одервенелах пальцах черную заштопанную рясу. Вихрастая голова паренька билась о плечо Качинского, который делал вид, что его это обстоятельство нисколько не смущает.
– Господи, прости их грешных, ибо не знают они, что творят!– шумно и испуганно выдохнул батюшка при виде нашей процессии. Лев Данилыч молча двигался в строю под насмешки конвойных и комментарии Ковригина:
– А что, Качинский, в этом во всем я чувствую историческую справедливость…– рассуждал он, пока мы неровным строем шагали по хорошо натоптанной и наезжанной телегами колее среди вековых сосен.– Вы столько лет мучили, душили трудовой народ, кровь из него пили, соки последние выжимали, чтобы на балах сиськи молодым баряшням мять, да жрать и пить в три горла, а теперь ты – гвардейский офицер, образованный человек, несомненно, богатый в прошлом несешь на плечах в последний путь труп какого-то бедолаги, который кроме вшей и дешевых шлюх не видел-то ничего в этой жизни, благодаря вам. Что это, как не историческая справедливость, а?
– Мой род идет от потомков Леонарда Качинского – польского шляхтича, получившего свое дворянство за пролитую кровь во время русско-турецкой войны,– тяжело дыша, выдавил из себя бывший полковник,– так что предки мои, тоже не с неба свое состояние заработали, а кровь за Родину проливали.