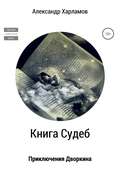Александр Харламов
Высшая мера
– Холодно же?
– Меня любовь греет, Андрюшенька!– выдохнула Бергман, отталкивая любовника на спинку стула. Теперь она была хозяйкой положения, королевой, во власти которой подарить мужчине неземное наслаждение или наоборот, оставить его в этот вечер без сладкого.
Быстрым решительным движением она дернула ремень на брюках хозяина лагеря, торопливо расстегнула несколько пуговиц нательного белья и опустилась перед ним на колени. Провела рукой по его возбужденному члену, наивно промурлыкав, что-то про любовь.
– Давай же…– выдохнул Андрей, закрывая глаза от удовольствия. Голова Бергман мерно двигалась под его ладонью, положенной на затылок, и в целом мире ничего более для Коноваленко не существовало, лишь эти движения и легкое причмокивание медсестры.
Когда все закончилось, он совершенно опустошенный пытался придти в себя, наблюдая, как у маленького зеркальца рукомойника Ирина поправляет сбившуюся прическу с таким видом, словно ничего и не было.
А сразу и не скажешь, что минуту назад она такое вытворяла своим язычком, что поручик Ржевский бы покраснел… Подумал Коноваленко, заправляясь. Может так и Валентина встречала его с работы, прихорашивалась, после того, как ее Клименко стервец драл прямо у них на квартире. Мерзко…Он сплюнул, достал стакан и вылил в него остатки самогона.
– Сволочи вы все…– выдохнул он, опрокидывая в себя спиртное залпом. Не поморщился, проглотив его, как воду. Крепче домашнего самогона был пожар в его душе. Намного крепче и опаснее.
– Это ты сейчас о ком, Андрюшенька?– повернулась к нему Бергман. Малюю по губам ярко-красной губной помадой.
– О бабах, о ком же еще? Лживые вы все существа! Лживые и хитрые!
– Кто бы говорил?– улыбнулась Ира.– Ты-то какой правильный, прямо идеальный муж, за щеку навалял мне. А теперь пойдешь комплименты своей супруге делать, суп ее нахваливать, да на ночь в лобик целовать целомудренно…Кобели вы все! Вам от нас только одно и нужно…
– А вам?– Коноваленко потянулся еще за одной бутылкой, но самогон кончился. Остлся лишь початый коньяк, который они распивали утром с Ковригиным. Какая к черту разница? Решил он, когда на душе так погано. Янтарная жидкость почти до краев наполнила граненный стакан. Ирина, приведя себя в порядок, молча достала небольшую пыльную рюмку из буфета и поставила рядом.
– И нам, Андрюша, и нам нужно от вас только одно…А еще забота, внимание, любовь…Нам много чего надо,– со вздохом сообщила Бергман,– чтоб баба счастливой стала много условий сойтись должно. Хороший секс не самое определяющее в этом.
– А чего ж вы, тогда налево ходите, если не определяющее, а?– они чокнулись.
– Бабу драть надо, андрюша. Пусть иногда, но драть…А если ты с работы неделю уставший, вторую уставший, месяц пьяный вдрызг, кому это понравится. Свято место пусто не бывает. Баба всегда найдет замену…Ей это проще, губки накрасила. Бровки подвела, платьице покороче и все! Вечер занят…
–Вот и говори, с-суки…
– Причину нашей стервозности в первую очередь нужно искать в вас, мужиках! От хорошего мужика баба гулять не пойдет.
– Ой ли!
– Вот тебе и ой ли, Андрюша! Я это точно знаю!– заявила Бергман.
– Ты?– пьяно хохотнул Коноваленко, да ты ни одного члена не пропустишь, если он хоть как-то стоять будет…
Пощечина, резкая звонкая обожгла щеку Андрея быстрее, чем он смог отклониться или защититься от нее. Кожа мгновенно вспыхнула красным, оставив след пальцев Бергман, кошкой прыгнувшей на капитана.
– Сволочь ты, Коноваленко! Сволочь. Поэтому и трахалась твоя Валентина на стороне с этим сопляком Клименко, да и сейчас, наверное, трахается! Потому что не способен ты, своей чугунной головой думать об отношениях, строить что-то, анализировать. Был солдафоном, так солдафоном и помрешь, а я ее чисто по-женски понимаю. От такого, как не загулять?
– Пошла вон…– процедил Коноваленко, потирая ударенную щеку.– Пока я тебя, как бешеную суку не пристрелил…
– Ничего ты так и не понял!– грустно покачала головой Бергман.– Ничего…
– Пошла вон!– рука Коноваленко метнулась к кобуре на правом боку. Нервно зашарила там, пытаясь справиться с клапаном застежки. Ирина смотрела на его возню довольно спокойно.
– Правда глаза колет? Уйду я, не волнуйся…А ты беги домой, солдафон, может твоя Валя, как раз зэка спать до барака провожает.
С этими словами Бергман вышла прочь, громко хлопнув дверью, оставив Коноваленко в одиночестве. Он наконец-то справился с застежкой кобуры. Достал пистолет, положил перед собой, гладя холодную сталь кончиками пальцев.
Может твоя Валя как раз зэка…Он резко взмахнул рукой, прикладывая вороненную сталь к собственному виску. Раз, два, три…Мысленно просчитал он про себя. Металл неприятно холодил кожу. Всего лишь одно еле уловимое движение, одно нажатие на курок и все закончится! Раз, два…Андрей зажмурился до боли в глазах. Палец на спусковом крючке дрогнул, погладив изогнутый металл.
– Нет…– он облизал враз пересохшие губы.– Еще не время…
Аккуратно отвел оружие от себя, положив напротив себя на стол. Что его остановило? Мысль о Глебе, ставшим за столько времени абсолютно чужим ребенком? Любовь к Вале? Или может быть просто обычный страх? А вдруг там, за порогом ничего и нет? Только выстрел и пустота! Глубокая пустота, неизведанная, как черная дыра, которая засасывает в себя все вокруг? Вдруг нет ни рая, ни ада, никакой другой жизни? Вдруг он просто перестанет в один миг существовать?
Решительно налил себе еще коньяку. Горячий алкоголь немного привел его в чувство. Чтобы все потом сказали из-за бабы застрелился, чтобы она дождалась этого Клименко, он жил с нее, а Глеб называл его папой.
– Хрен там!– уже опьяневший и немного осоловевший, а оттого агрессивно-решительный, Коноваленко стукнул кулаком по столу, приводя себя в рабочее состояние.– Расклеился, тряпка!– поругал он себя.– Все беды в нашей жизни от баб! Именно они источники мужских страданий! Пошло оно все!
Настроение, испорченное Бергман, так и не вернулось, зато мысли о самоубийстве покинули его. Андрей встал из-за стола, опрокинув кипу бумаг, лежавших на краю стола и оделся. Вышел на улицу, когда стрелки на ручных часах показывали почти половину первого.
Морозный колкий воздух немного остудил его. Упорядочил мысли, заставил застегнуть шинель на все пуговицы, сбив хмельную оскомину. Лагерь, живя строго согласно заведенного распорядка. Лишь где-то вдалеке, в женской половине Темлага слышался надрывный лай овчарок, да негромкая перекличка часовых. Дежурный снимал пупкарей с вышек. Закурил. Минут пять простоял просто так. Не зная стоит ли идти домой. Да и дом ли это его? Дом – это там где ждут, верят, где любят, а там…
Плюнув на все, он двинулся по натоптанной тропинке, пряча подбородок в шинель от мокрого снега. Идти больше ему все равно было некуда. Не к Бергман же возвращаться после сегодняшней ссоры? Хотя та примет, обогреет, накормит, да и спать рядом уложит, а все равно, Андрей внутренне чувствовал, что это не то…Не королева…
В служебной квартире свет не горел. Окна занавешаны старыми потертыми шторками, оставшимися от старых хозяев. Крыльцо завалено снегом и только два аккуратных следа. Дома…Определил именно по ним присутствие супруги Коноваленко. Других следов не было. Значит одна! Непонятное чувство удовлетворения от этой простой мысли совсем расслабило его, он толкнул незапертую дверь, стараясь поменьше шуметь. Но все же наткнулся на какой-то тазик, загремел, негромко обматерив себя за неаккуратность.
Чиркнула спичка, мотыльком сгорая в темноте огромной комнаты. Валя в одной ночной рубашке запалила керосиновую лампу.
– Андрей…– заспанные спросонья глаза жены смотрели на него испугано.
– Спи уж,– махнул он рукой, непослушными пальцами пытаясь расстегнуть портупею и пуговицы на шинели.
– Ты чего так поздно?– Валя прошла к столу, набрала из графина себе воды в кружку, отпила глоток, наблюдая за мужем, чувствуя каждую неловкость в его движениях, ощущая свежий перегар, даже заметив синий засос на шее.
– Документами занимался,– наконец повесив шинель на вешалку, напоминающую чудовище с тремя руками, виновато потупился Коноваленко. Весь его запал ревности пропал, чтобы в любой момент вспыхнуть вновь под силой обстоятельств.
– С Бергман?– усмехнулась едко Валя.
– А хоть и с ней?– разозлился Андрей.– Я же не спрашиваю по сколько раз на дню твой медпункт посещает осужденный Клименко?
Лицо Валентины разом изменилось. Знает…Сердце испуганно рухнуло в пятки, заставив содрогнуться все тело, от ледяных мурашек, пробежавших от шеи до лопаток.
– Какой Клименко?
– Ты дурочку не ставь тут…Хватит! Твой Клименко какой же еще? Ты мне сейчас расскажи, что это стало для тебя открытием? Сидит он здесь…Как и мы!– Андрей подошел к Валентине, стараясь поймать ее виляющий взгляд, чтобы хотя бы по нему понять, знала или нет?– Вижу…Знаешь уже..Ну и как, трахнулись уже, а?
Валентина ударила по щеке без замаха. Только гулко отозвалась плотная с мороза кожа. Ладошка заныла, оставляя на небритом подбородке красный след.
– Надо же…Второй раз за вечер!– горько усмехнулся Коноваленко, потирая ударенную щеку.– Что-то всех разобрало меня по лицу бить?
– Может если бьют, виноват не тот кто бьет, а лицо, по которому бьют?
Андрей взметнул руку, сжатую в кулак, почти мгновенно, Валя даже не успела ее заметить, чтобы увернуться. Лишь в паре сантиметров от лица Коноваленко остановился, до боли сжав зубы.
– Он жить не будет! Это вопрос я решу в течении недели, а ты пока ни ногой из дома. На работе скажешься больной, зэков пока полечит Бергман. Ты меня поняла?
_ А кто же мне запретит?
– Я пока твой муж!– заревел Коноваленко, вколачивая кулак в стену над самой головой женщины. Валентина угналась, чувствуя, как ей на волосы посыпалась глина.
– Уже давно нет…– горько усмехнулась она, едва сдерживая слезы.– Только если по паспорту. Рывком освободилась из не слишком плотного захвата. Ткань ночной рубашки затрещала под напором пальцев Андрея, но до конца ее рвать он не стал, отпустил. Гнев, вспыхнувший сухим порохом, так же мгновенно погас, оставляя лишь горечь со вкусом полыни такую, что захотелось сплюнуть.
Валя набросила на плечи пальто и впрыгнула в теплые валенки, захлебываясь рыдания, еле сдерживаясь, чтобы не зареветь в голос. Крупные молчаливые слезинки катились по ее лицу, оставляя влажные блестящие дорожки по щекам. Как ж их хотелось стереть Андрею, как хотелось коснуться их, но переступить через себя он не мог.
– К нему не пустят…– бросил он, сбрасывая гимнастерку и усаживаясь за стол, обхватив голову руками, которая вдруг стала чугунной, будто налитой свинцом.
– Плевать!
Хлопнула входная дверь, впуская облако морозного пара, оставляя Андрея одного. И это ощущение безысходности, одиночества и глубокой внутренней боли, рвущей на куски сердце, было настолько оглушительно сильным, что в какой-то момент Коноваленко показалось, что он умирает. Скрип Валиных торопливых шагов по снегу под окном отзывался в сердце как очередной гвоздь в крышку его собственного гроба.
Валя бежала, не разбирая дороги. Слезы застилали глаза. Было холодно, но этого щипучего мороза она совсем не слышала. Ноги сами несли ее неизвестно куда, лишь бы подальше от этого страшного человека, которого она когда-то называла своим мужем. В голове отчаянно билась лишьодна мысль…Спасти Сашку! Предупредить!
Она не знала ни номера его отряда, ни барака, в котором он находился, но упрямо, утопая в снегу, бежала куда-то в ночь, расхристанная, заплаканная и совершенно испуганная.
– Сашенька…Сашечка…Сашка…миленький мой…– твердила она, ныряя по колено в свежие сугробы, оскальзываясь на натоптанных дорожках, пару раз ощутимо приложившись о крепкий наст локтем.
Силы оказались не беспредельны. На середине своего пути в никуда, она вдруг рухнула в снег на четвереньки и заревела. Липкие снежинки запутались у нее в волосах и длинных ресницах, тая на разгоряченном теле. Промокшие ноги отказывались куда-то дальше двигаться.
– Саша…
– Ну-ка стоять, значит!– позади нее раздался встревоженный, знакомый голос. Валентина медленно повернулась, в темноте позади себя, разглядев несколько фигур в форме. Прислал церберов, чтобы вернуть обратно. Мелькнула мысль. Он никогда меня не отпустит! Никогда! Лучше смерть! Лучше замерзнуть здесь на снегу, чем всю жизнь мучиться с нелюбимым.
– Валентина Владимировна!– первым к ней подбежал именно Головко. Медведеобразный сержант, легко приподнял ее на руках, словно пушинку, отряхнул, как маленькую девочку от снега и поставил на подкосившиеся ноги.– Что же вы это…Среди ночи-то, значит…бродите тут одна? Замерзли вся, значит…
Он как будто не замечал ее наготы, поправил пальто, застегивая его на все пуговицы, отряхнул голые колени от налипшего снега. Ее трясло. Зуб выбивали непонятную мелодию, а пальцы дрожали, когда она пыталась отстранить сильные уверенные в себя руки.
– Оставьте меня…Мне надо…Надо бежать…Предупредить…Сашка…Милый , родной…Бежать.
– Куда бежать, Валентина Владимировна? Ночь на дворе! – пытался ее успокоить Головко, который заступил дежурным по лагерю и в это время менял караулы.
– Оставьте…Мне надо,– бессвязно шептала она, глядя пустыми испуганными глазами мимо сержанта. Конвой позади зашептался. Послышались смешки.
– Разговорчики, значит!– рявкнул на молодежь Головко, придерживая готовую вот-вот рухнуть обратно в снег женщину за плечо.– Журавкин!
– Я, товарищ сержант!– из неровного распавшегося строя вышел один из часовых.
– Смену в караулку! Я скоро вернусь, значит…
– Товарищ сержант..
– Бегом!– рявкнул Головко и от его рыка даже стало немного холоднее.
– Есть!
Караул тут же построился в колонну по одному и браво зашагал мимо Вали с сержантом.
– Что же мне с вами делать-то, Валентина Владимировна…– задумчиво почесал подбородок Головко.– Домой вас отвезти?
– Только не домой…Оставьте меня…мне нужно…– глаза женщины вдруг затуманились и поплыли вверх. Она покачнулась, теряя сознание, готовая рухнуть обратно в снег.
– Ну уж нет…– обхватил Головко ее за талию, прижимая к себе.– Да у вас жар!– холодная ладонь сержанта слегка коснулась лба женщины, пылающего огнем. Так и помереть недолго.
Решительным движением он взвалил ее себе на плечо, словно мешок с картошкой. Руки Валентины бессильно повисли плетями вниз, а голова затрепыхалась из стороны в сторону, но сержант не обращал на такие мелочи особого внимания. Ему важно было поскорее доставить женщину в тепло. Куда? Ноги сами понесли его к своему однокомнатному бараку. Не то, чтобы он холил у себя в мозгу какие-то мысли, посягающие на честь жены начальника, просто это самая близкая точка, где было хотя бы капельку тепла, так нужного, чтобы привести ее в чувство и не дать заболеть!
Пинком открыв двери, он внес находившуюся в полубредовом состоянии женщину к себе в дом. Уложил на скрипучую панцирную кровать, прикрыв одеялом. Она дышала ровно, шепча что-то еле слышно одними пересохшими губами. Головко прислушался.
– Са…са....саша…
– Да уж…– вздохнул Головко, почесав затылок.– тут без поллитра не обойдешься. В буфете достал бутылку домашнего самогона, налил себе полный стакан до краев и залпом опрокинул в себя. Потому подумал и налил еще половинку.
– Простите меня, Валентина Владимировна, но так надо…– приподнял над подушкой чуть голову женщины и влил ей остатки спиртного в горло. Она закашлялась, но из бредового состояния так и не вышла. Рухнула обратно на подушку, как только Головко ослабил захват.
– Лекарство получено, остается ждать результат…
Он осмотрелся и решительно подошел к печи. Угли почти дотлели. Лишь кое-где в ее черном зеве мелькали красные огоньки.
– Непорядок…– сержант подбросил свежих поленьев и прикрыл поддувало. А потом посмотрел на тумбочку с коммутатором, словно на что-то решаясь. Пару секунд помедлил, но потом все же снял трубку.
– Станция! Соедините меня с наркоматом!– проговорил он, когда ему на том голосе представилась милая связистка.
–…
– Я знаю сколько сейчас времени! Мне срочно по добавочному «ноль три»!
Услышав заветные цифры, которым в этом мире дано было знать немногим, связистка сменила гнев на милость. В трубке, что-то зашуршало, затрещало, а потом послышался абсолютно незаспанный голос всесильного наркома.
– Слушаю вас!
– Товарищ нарком, это ТемЛа, капитан Головко вас беспокоит…
– Говори, товарищ Головко,– недовольно пробурчал Ежов.
– По вашему делу тут целая романтическая история вырисовывается, как бы до стрельбы дело не дошло! Отелло просто какой-то…
– До стрельбы дело не доводи, но в курсе меня держи постоянно! В экстренном случае разрешаю использовать все методы воздействия на объекты.
Головко бросил печальный взгляд на лежавшую без сознания Валентину. Одеяло сползло, обнажив стройные ножкии, красивую фигуру и небольшую аккуратную грудь. Прекрасна была, чертовка, не зря через нее с ума посходили чекисты харьковского УНКВД.
– Баба-то тут при чем? Товарищ нарком, хотите наказать этих двух лоботрясов, наказывайте!– попросил Головко.– Она ж с ума тут сойдет…
– Бабы первопричина всего, капитан! А не тебе мне указывать, что делать и как, понял?– сорвался на визг Ежов на том конце провода.
– Да, но…
– Делай, что говорю! Или заменить кого-то в моем постановке хочешь?
– Никак нет,– обреченно выдохнул капитан.
– Вот и ладненько!– рассмеялся нарком.– А это троица осознает все, помучается, глядишь через месяца три и амнистируем их, куда поближе…Понял?
– Так точно…
В трубке раздались короткие гудки. Головко медленно положил телефон на место и посмотрел на Валентину, мучившуюся от жара. Игры с людьми ему никогда не нравились, но такая уж натура была у его наркома. Нет ничего приятнее повелевать судьбами, переставляя и меняя их на шахматной доске, словно пешки, по своему усмотрению. А что он? Он всего лишь солдат и обязан выполнять приказ. Со вздохом он поправил Валентине сползшее одеяло и попытался уснуть за столом, положив голову на скрещенные руки.
ГЛАВА 22
Когда я вернулся от Седого далеко за полночь, все в бараке уже давно спали. Отовсюду доносилось мирное сопение, и даже дежурный, поставленный следить за буржуйкой, нерадиво клевал носом, согревшись у огня. Аккуратно, чтобы никого не разбудить, я прошел к своим нарам. Качинский спал, повернувшись спиной к проходу, свернувшись калачиком, пытаясь согреться. Промозглый сквозняк во всю гулял по бараку и не помогала даже растопленная печь. Зябковато, но не смертельно. А вот отец Григорий не спал. Бессмысленным взглядом уставившись в потолок, он раздумывал над чем-то, не обратив на меня ровным счетом никакого внимания.
Его тоже можно было понять…Весь привычный мир нашего батюшки обрушился за несколько месяцев стараниями системы, которой я, увы, служил несколько лет. Весь уклад его жизни изменился, а отказ от веры вообще был сродни давно предсказанному апокалипсису. Его сломала, как это часто бывает какая-то мелочь…Как маленький камешек, упавший с горы, дает толчок для схода лавины, так и скотское отношения в лагере к людям, довершили начатое при аресте.
Говорить я с ним ни о чем не стал. Что я мог ему сказать? Что посоветовать человеку, потерявшему в один миг любимое занятия, свободу и семью? Крепись? Все будет хорошо? Сюда попадали люди без надежды на будущее, и отце Григорий, как никто это понимал, потому все мои слова были бы неискреннее, бесполезные. Десять лет слишком большой срок, немногие из этого барака доживут до его конца, немногие смогут выйти и наладить новую жизнь, начав с чистого листа. Все всё понимают…Это билет в один конец!
Ничего я ему не стал говорить. Молча запрыгнул на свой самый верхний ярус, чувствуя, как по спине пробежал ветерок. Перевернулся лицом к проходу, попробовав улечься поудобнее, раздумывая над предложением Седого.
Проблемы с ворами мне были ненужны, но и план побега, казался если совсем уж несбыточной мечтой, то по крайней мере почти что фантастикой. Наш Темлаг охранялся с особым тщанием, как раз из-за того, что наряду с политическими сидельцами, тут отбывали наказание, такие как Кислов, Седой, Семечка, Мотя…Те кто сел за реально опасные преступления. Помогать им сбежать, противоречило всем моим представлениям о справедливости. Я бы еще понял, если бы такое мне предложил Качинский, но урка…
Дверь тихо скрипнула. Кто-то зашел в барака. Я приоткрыл глаза, присматриваясь к вошедшему, и чуть не свалился вниз, узнав Кислого. Того самого Кислова, которого позавчера заперли в ШИЗО на месяц за нарушение режима, по сути моего личного врага.
Вор осмотрелся, привыкая к полумраку барака. Шагнул вперед, ища глазами среди несколько десятков немытых вонючих тел, своих подельников, с которыми сдружился на этапе. Вспоткнулся об что-то, загремев на всю вселенную.
– Гребаный икибастос!– закричал он, держась за лодыжку.
– Что случилось?
– Уже подъем?
– Щеголь пришел? – заворчали сидельцы, просыпаясь.
– Открутите ему башку…Чего шумим?
– Кислый! Кислый!– раздалось радостное восклицание из угла, где расположились урки.– Вот так на…Мы-то думали, что комиссары тебе путевку в санаторий до конца месяца выписали? А тут ты?
Кислов был явно не рад, что появился в бараке столь шумно. Негодующе пнул ведро, об которое и споткнулся, громко с матерком. Зажгли лампу. На него смотрели несколько десятков пар глаз, как на редкий экспонат в музее. Кто-то отвернулся сразу, кто-то недовольно поморщился, отец Григорий не отреагировал вообще никак, и только его дружки явно обрадовались его возвращению.
– Кислый с нами, теперь заживем…Тут порядки свои политические установили. Шестерок не заведи, работать ходи, ты-то порядок здесь наведешь…– проговорил один из них, похлопывая урку по плечу.
– Пожрать бы…– попросил Кислый.– да курева!
– Айн момент!– угодливо кивнул второй.
– Ну-ка пошукайте у кого что по нычкам осталось! Правильный пацан к нам в хату заглянул.
– Чифирнем?
– Было б в цвет…
На раскаленный металлический лист печки тут же установили кружку, высыпав туда почти половину заварки, залили водой, ожидая пока закипит. Дежурного прогнали спать, расположившись возле источника тепла своим полукругом. Околевший за время сидения в ШИЗО Кислов с наслаждением протянул к буржуйке руки и ноги, громко закашлялся, чувствуя, как по телу разливается горячая волна тепла.
– Чего со жратвой?– спросил вор, затягиваясь скрученной одним из подельников «козьей ножкой».
– Сейчас…– они были не готовы к возвращению своего главаря. Весь ужин смели, да еще отняли у Мишки-цыгана. Теперь жадно шарили глазами по бараку, ища где подхарчеваться.
– Эй, поп!– взгляд одного из Кисловских подручных упал на миску отца Григория, почти полную, чудом оставшуюся таковой, к которой он так и не притронулся с вечера.
Естественно батюшка ничего не ответил. Не до этих забот ему было сейчас! Ни до еды и до разборок из-за нее. Весь его привычный мир рушился. И только от правильного осмысления происходящих перемен, зависело то, переживет ли он эти перемены или останется погребенным под их обломками.
– Оглох что ли, дьячок!– один из Кисловских подручных лениво потянулся и шагнул в сторону наших нар, явно намериваясь отнять у батюшки еду. – Бог велел делиться, а хавчиком и подавно. Все равно не жрешь!
Кислов с любопытством наблюдал за движениями своей шестерки. Он-то в отличии Лома, так кажется звали этого молодца, глупым не был, и знал, что последует за такую экспроприацию, но будто бы намеренно шел на этот конфликт или, если быть точным, то не пытался его предотвратить.
– Давай сюда, общество пожрать желает,– потянулся он к полной миске с луковой похлебкой,
Он сам все за меня сделал. Мне оставалось только мгновенно захватить его за уши, по-детски оттопыренные и со всего маху дернуть за них вверх. Лом по инерции резко выпрямился и со всего маху шарахнулся о нижний край нар Качинского. Глухо ойкнув, он пошатнулся и сполз на земляной пол, держась двумя руками за ушибленный затылок.
– Ах ты, сука!– второй ринулся ему на помощь, но на доли секунды опоздал, я уже успел спрыгнуть с нар, приняв стойку, готовый к нападению.
– Ша, бродяги!– поднялся наконец-то Кислов, останавливая драку. Лениво так поднялся, как сытый кот, потирая голую грудь под грязной телогрейкой.– Сядь!– коротко приказал он своей шестерки, медленно и неуклонно приближаясь ко мне.– Что, Клименко, все такой же борзый? Никто пока крылья не обломал?– поморщился он, остановившись в паре метров от меня.– Ну ничего…Я вернулся! Твой страх вернулся! Ходи, сучонок, и оглядывайся!
– Что тут у нас?– голос Щеголева, неожиданно вошедшего в барака, разрезал наступившую тишину после вора, как пистолетный выстрел. Ожидающие продолжения конфликта сокамерники растеряно переглянулись между собой.
– Живи пока, тварь…– злобно прошипел мне Кислов, отходя от нар.
– Вижу!– радостно сообщил Щеголев, потирая руки.– Вижу, что исправляетесь, быдло нечесаное! До подъема уговоренного еще часа полтора, а вы уже все на ногах. Готовы, так сказать, к труду и обороне! Молодцы! Молодцы!– улыбнулся он, ехидно прищуриваясь.– А я сначала не поверил. Пупкарь ко мне прибегает, говорит, мол все уже на ногах, шум в бараке какой-то, может дерутся или режим, упаси Бог, нарушают! Нет, отвечаю я ему, они молодцы этакие спать не могут, все за производство волнуются, лес валить пораньше хотят пойти, затемно еще… Так, Клименко?– подошел он ко мне впритык, заглядывая прямо в глаза.– Молчишь? Правильно…Молчание – знак согласия! А посему…Строится, твари! Поведу вас в промку, раз вы спать не хотите.
– Василь Васильевич…– вежливо обратился к нему Качинский, который тоже проснулся и свисал надо мной, спустившись с нар.– Еще на улице темно, что ж мы там увидим?
– А видеть ничего не надо, посидите, померзните на просеке, может чего умного в голову придет. Поймете, что лучше спать в бараке, чем встречать рассвет в лесу на морозе. Строиться, я сказал!– рявкнул он, поворачиваясь к выходу.
Осужденные, недовольно покряхтев, строились в одну неровную шеренгу. Отец Григорий, так и не пошевелился.
– Поп, тебе что особое приглашение надо?– заметил его Щеголев. В ответ лишь молчание. Григорий Иванович все так же смотрел в деревянный сруб нар. Что он там видел? Свою красавицу жену или потерянных навсегда деток?
– Оглох что ли?– начальник отряда вернулся обратно. Внимательно осмотрел его.– Помер что ли?
– Да нет…Дышит вроде…– на затылке ушибленного мной Лома росла на глазах огромного размера шишка.
– Дурачком решил прикинуться,– кивнул понятливо Щеголев,– надеется, что в дурку спишут. Там легче и кормежка получше. А ну, встать!– заорал он, хватаясь за пистолет.
– Василич!– окликнул его Качинский, положив ладонь на руку начальника отряда, не давая тому достать оружие. Я видел, как глаза Щеголева наливаются кровью, он бледнеет и готов взорваться.
– Пусть полежит денек,– попросил Лев Данилыч, не отводя взгляда,– отойдет, а мы с Клименко за него норму выполним…– я ожидал, если честно, что тот бывшего белого офицера тут же и пристрелит, но что-то во взгляде Качинского Щеголева остановило. Он резко дернулся в сторону, поводя шей, будто воротник гимнастерки стал ему неожиданно мал. Он, действительно, был сейчас похож на разъяренного племенного быка, которому озорные ребятишки накрутили хвост. И сказал угрожающе тихо:
– Пусть лежит…А ты еще раз так сделаешь, я тебе обе коленных чашечки прострелю, понял?
– Так точно, гражданин начальник!– вытянулся в струнку Качинский.– Спасибо!
– Пошли вон, стадо баранов!– заорал Щеголев, отворачиваясь от побледневшего Льва Данилыча. Он, как и я, прекрасно понял, что находился всего лишь в шаге от мгновенной гибели, и то, что он не сделал этот самый шаг, целиком и полностью произошло только благодаря неплохому настроению начальника отряда, который на счастье Качинского был сегодня под хмельком, еще не выветрившимся с вечерних посиделок.
Строй шевельнулся, словно живая бесформенная расплывшаяся гусеница. Затопали несколько десятков ног к выходу. Мелькнула мысль, что хорошо, что Василь Васильевич не придумал пока распевать на ходу нечто патриотическое, иначе тогда мы совсем уж выглядели бы дураками.
На улице светать еще даже не начинало.Весь лагерь был погружен в синие непроглядные сумерки. На небе, туго затянутом облаками, не было видно ни луны, ни звезд. Сверху уныло и уже совсем медленно спускались пушистые влажные снежинки, как последнее дыхание прошедшей за ночь метели. Темноту разрывали лишь одинокие полоски рыжего света от прожекторов на вышках, падающих то в одну, то в другую сторону. Вертухаи наверху бдили, не спали, боясь побега.
После относительного тепла барака на улице показалось совсем уж стыло. Я приподнял воротник телогрейки, чтобы поменьше задувало в шею, наклонил голову вниз, пряча ее от снежинок, и стал рядом с Качинским. Хочет он или нет, но других близких друзей у меня в лагере не было. Лев Данилыч промолчал, глядя куда-то вперед. Но и это уже было неплохим симптомом. Был бы против такого соседства, прогнал бы.
Ноги мгновенно промокли, утопая в свежем, мягком, как перина снегу по самую щиколотку.
– Ну-ка подтянись!– браво гаркнул Щеголев, размахивая руками где-то в начале колонны. Вот уж у кого энергии хватило бы на десятерых. Только в девять нас загнал, всю ночь пробухал вместе со служивцами и вот, в три часа ночи уже, как огурчик.– Лучший отряд, а телепаетесь, как коровы беременные!
Помимо воли, подчиняясь бешеному напору сержанта, мы ускорили шаг. Да и теплее так было в разы. Горячее дыхание вырывалось из трех десятков глоток, поднимаясь клубами пара над колонной.
– Василь! Совсем с ума сбрендил? – изумился дежурный по КПП, распахивая широкие ворота в лагерь.– Куда ты их гонишь-то?
– Сами изъявили работать, сволочи этакие. Спать не хотим, есть не хотим, говорят, Василь Васильевич,– проговорил, весело щурясь, Щеголев,– работать давай! Кровью и потом вину свою перед Родиной, перед всеми советскими гражданами желают искупить.
– Доиграешься ты, Василь! Ох, доиграешься…– покачал головой дежурный.– Начальник лагеря новый. Черт его знает, как отреагирует на такое самоуправство… И меня с собой потянешь!
– Не бзди, пехота! Мы ему сегодня такую выработку покажем, забудет обо всех нарушениях, да, сволочи?– обратился он к нам, подмигивая подленько.
От этого, мы ему покажем, заранее становилось страшновато. Уж слишком непредсказуем был характер начальника отряда, слишком явственно в глубине карих глаз мелькала мутная водица сумасшествия.
– Шевелись, сволочи!– я обернулся. Мы с Качинским заняли место примерно посередине. Хвост еще только выходил из распахнутых настежь ворот, а голова колонны уже почти достигла промки. Кислов с подельниками двигался позади. Ах да, вспомнил я, ворам же работать западло.