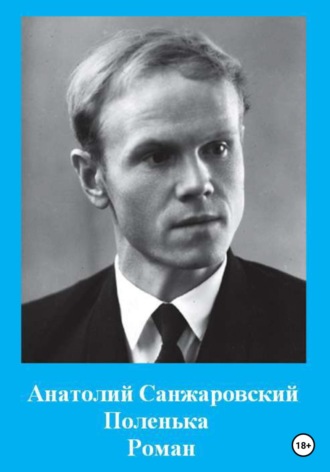
Анатолий Никифорович Санжаровский
Поленька
11
Иль у сокола
Крылья связаны,
Иль пути ему
Все заказаны?
Месяца через три у Поли нашлась дочка Маша. Пришла Маша в мир болезненная и до того придавленная страданиями, что уже почти не могла плакать. Она безучастно лежала в люльке и если всё же плакала когда, так без голоса, как старуха, умученная болью, хорошо знающая, что криками боли не унять, не задавить, только домашним да Богу досадишь. Плакала девочка молча, про себя, как говаривал братец Антошик, лишь слезинки торопливо погоняли одна другую по сухому пергаменту личика. Не было недели, чтоб Поля не носила её к врачу, лежала с нею трижды в совхозной больничке. Чуть подживёт в Маше дух, едва залопочет что-то своё радостное, да не век звенеть звоночку, снова к врачу.
Ермиле Чочиа, старый седой грузин врач, высушенный весь долгим своим веком и пропахший лекарствами, настаивал в четвёртый лечь раз.
– Во-первых. Будешь в больнице с дочкой, тебе оплатят бюллетень. Прибыльней и ребятам твоим по хлебной части. Как-никак твоя и её нормы идут…
– Да что там той нормы!? – плеснула Поля руками. – Кило триста на пятерёх. Хочешь ешь, хочешь молись.
– По военной поре и это большой хлеб, хоть и кукурузный. Положение с девочкой крайне серьёзно. Как главный врач говорю…
– А на кого… К кому я приткну тех трёх своих гаврюшат?
– Уже взрослые… На пожарный случай, соседи не присмотрят?
Кого ещё просить как не Анису?
Как свёл Господь в один кулак Аниса и Никиту (взяли в одну часть), Аниса ещё прочней приварилась к Поле.
– Ты гляди, – гордилась Аниса, – прямушко подбор. Вместях воронежские и там, на войнёнке. Как тута, дома, держаться кучкой сам Бог повелел!
И если раньше они просто дружили семьями, поскольку мужья вместе тохали, мотыжили, чай, у обоих были щемливо-нарядные, мятежные голоса и случалось, нет-нет да и запоют на крылечке так, что сбегались соседи послушать, то теперь они выручали всегда друг дружку. В письме одного обязательно сообщалось о судьбе другого и из дома обычно писалось про обе семьи, а иногда слалась и одна грамотка на двоих. Писала Аниса, Поля поддиктовывала что от себя.
Аниса даже обрадовалась, что вошла в открытую пользу Поле. Оттого каждое утро, каждый вечер залетала она к ребятам, весело пытала:
– Ну как вы тут, домовята? Никто ещё не умёр с холода?
– Неа! – гремело отовсюду и мальчишки выкатывались к её ногам из разных углов, из-под кровати, из-под стола.
– Тогда, геройчики, по сто лет будете жить! В этой своей волкоморне!
С ходу она кидалась разводить печку. Сварит какого супа из жареной кукурузы, наколотой Митрофаном молотком на скрыне. Заштопает кому там носки, рубашку. Вымоет пол красным кирпичом. Пристирнёт что.
И ой как не н равились эти благотворительные наскоки Митрофану. Ну кого оставляли в доме за старшого? Его! Кто в доме хозяйко? Он, Митроша! Это ещё сам отец заложил, как уходил на фронт. Так по каковецкому праву она тут царюет?
равились эти благотворительные наскоки Митрофану. Ну кого оставляли в доме за старшого? Его! Кто в доме хозяйко? Он, Митроша! Это ещё сам отец заложил, как уходил на фронт. Так по каковецкому праву она тут царюет?
И солоней всего подпекало то, что ни надумай он сделать, только соберись со всей мужской основательностью, к чему приучал отец, то-олько вот он вот разготов взяться, ан, ни слова не говоря, Аниса уже делает всё то со смешками.
«Ну уж тюти! Хватя из меня буланчика строить!»[53] – пальнул ей в мыслях, а вслух не отважился. Как взрослому такое ахнешь?
– Всё бы хорошо, да с ботинками у вас, воителюшка, скандалик, – заметила Мите как-то Аниса. – Каши просят прожорливцы столько, что и котла такого не найдёшь сварить. Да и самой крупы где эстоль сыскать?
Митроша понял, что тут тётя Аниса ничего не может поделать. А вот он и покажет, кто он такой в деле. Потом вежливенько попросит не путаться её под ногами.
На следующий день шёл он из школы, подобрал в канаве и прикатил шину с легковушки.
– Украл? – выразили скромное предположение Глебка с Антоней.
– Взял, – тактично подправил Митя.
– Раз взял колесо, так сгоняй ещё разик туда, забери всю машину.
– И без второго захода отхватите по целому легковику. Будете по лужам летать быстрей всякого автомобилика!
Мальчику хотелось, чтоб все в семье имели по две пары новеньких чуней. Одну пару на будни, другую на праздники. Чтоб не было обиженных, настроился шить размером всем одинаковые. У нас все равны, говорил в школе Сергей Данилович. Так пускай и обувку все носят одинаковую.
Снял мерку с подошвы маминой калоши, топором разрубил потёрханную шину на десять равных кусков. Больше подошв не выходило. Ну что ж, будет обувка пока на будни. С праздниками подождём.
С огнём завзятого сапожника, с каким-то внутренним горением навалился он пришивать к литой шине-подошве верх из отношенной кирзы голенища, макая цыганскую иголку не в мыло, как делал отец, а в простую воду в мамином напёрстке. Загляни Никиша в окно, он бы увидел в этом маленьком усерднике себя в далёкой родной Новой Криуше. Манера работать в наклон, слегка выпустив и прикусив язык, качающийся на вершинке жёлтой мётелкой хохолок – всё то его, Никишино.
Мальчика распирала гордость. Никто не учил, никто не заставлял, а спонадобилось – сам сел и шьёт. Сам! И разве хуже отца?
Подкатилась печальная отцова песня.
Митя не удержался, бесшабашно замурлыкал:
– Не осенний мелкий дождичек
Брызжет, брызжет сквозь туман,
Слезы горькие льет молодец
На свой бархатный кафтан.
Ожидавшие обновку Глеб и Антошка стояли в размолоченных ботинках у Мити за плечами, как ангелы. Подхватили припев яростно-прилежно, с укоризной:
– Полно, брат молодец,
Ты ведь не девица.
Пе-ей, тоска пройдет!
Митя благодарно покивал братцам и уже один взял повёл песню дальше.
– Не тоска, друзья-товарищи,
В грудь запала глубоко,
Дни веселья и дни радости
Отлетели далеко.
Безмятежность в его голосе подломилась, пошла таять, уступая раздумчивости, грусти.
– Э-эх вы, братцы, вы, товарищи,
Не поможет мне вино,
Оттого что змея лютая
Гложет, точит грудь мою.
И теперь я все, товарищи,
Сохну, вяну день со дня,
Оттого что красна девица
Изменила мне шутя.
А и впрямь-ко я попробую
В вине горе потопить
И тоску, злодейку лютую,
Поскорей вином залить.
После каждого куплета шёл припев. Глебка и Антоха ни один не прокараулили, брали в самую пору. Митроше пало к душе, как ему подпевали, и в ответ он, едва дошив первую чуню, с ласковой важностью проговорил:
– Певчуки! Необутики! Получите отдарок. Меряйте!
Глеб, заранее разувшись, торопливо воткнул ногу в чуню и скис:
– Ой!.. Больша-ая… Как корабель!
– Ну и радуйся. Не утопнешь в луже.
– До лужки ещё надобится добежать. Зачем такие большие мастурячишь?
– Где большие? Ну где большие? Я на вырост шил! Ты, клопик, собираешься когда-нибудь расти?
– Что, сиди и жди, когда нога вырастет по чуньке? Это ско-оль ждать?
Глеб вжал в чуню вторую ногу. Сделал прыжок и, не удержавшись, вальнулся на бок. Зажаловался:
– Бо-ольшие… Горбатые чуники… Я из них выбегаю… Выскакую… Ты маленькие сошей.
– Не положено.
– Большие положено, а маленькие не положено?
– У нас все равны, как в бане. Все носи одинаковые!
Глеб присвистнул:
– Хэ! Кто все? Кто все?.. Не хочешь, а рассмешишься!.. Что, и Машуня, и Антонка, и я, и ты, и мамка – все равны? Антя достаёт мне головой до мышки. Машутка ещё короче. И все одинаковые носи? Ты сошил эту чуньку по маминой калошке. Маме её и оставь. А нам… – Глеб поставил на отрезанный кусок шины свой размолоченный ботинок, очертил карандашом. Другой кусок подложил Антону под обутую ногу, обмахнул карандашом. – Нам давай по нашим меркам. Зачем нам шить по маминой ноге? Не перевязывать же чуньки на ноге верёвочкой, чтоб не слетали!
В душе Митя согласился с Глебом. Но принять это он не мог. Не дорос ещё, братка, учить старших!
Не дорос-то не дорос, да тогда неправ и Сергей Данилович? Сергей Данилович говорил в классе, что все у нас равны. А этот шкетик упёрся: не равны. Похоже, его правда. Выходит, учитель неправ, а вместе с ним и я? И прав один Глебочка, не видавший ещё школу и в глаза?
С досады Митрофан щелканул Глеба по верху уха.
– Эв-ва, Балда Иваныч! Ещё в школу не ходил, а уже такой вумный, как вутюк. А что с тобой будет, когда в ту школендию побежишь?
Глеб зажал боль в ухе, промолчал. Чего не вытерпишь ради новых чунек?
До самой старой ночи Глебка с Антоном ждали чуники. Но так и не дождались. Зато утром, едва пролупив глаза, увидели у койки две новенькие пары. Надели. Ловкие, удобные. В самый раз.
– Нога в чуньке прямо спит как дома! – подхвалился Глеб Мите.
– Да что она, беспризорка? – довольно пожмурился Митя. – Где ж ей ещё спать как не дома?
Ещё вчера за окном беспризорно болтались редкие снежинки, а сегодня повалил точно из ковша февральский дождь, уже по-кавказски тёплый, обомлело-радостный.
Митя убежал в школу, а братья вылетели в беспогодицу обгулять обновку. Раскидав перед собой руки на воображаемом огромно руле и правя им, то басовито подвывая, как студебеккер, тяжко ползущий в гору с грузом, то жалобно подскуливая на лад полуторки, Глеб с Антохой бешено носились под ливнем по жирной грязи, и пацанва, с фырчаньем табунком клубясь за ними следом, обалдело млела от восторга, во все глазоньки с немым изумлением таращилась на их отпечатки легковушных шин.
– Вот это класс! – стонало пацаньё.
Вечером на чуни положила глаз и сама Аниса. Осведомилась, в какой это Москве раздобыли.
– Братик Митя сошил! – похвалился Глеб.
– Что-то веры не дам… Моднячие штиблетики, вечные. Избою не жди… Всёшки где, Митрюшечка, укупил?
Митя зацвёл. Его чуни принимают за магазинные! Вот и он на конике!
– Да не покупал я, тёть Ань! Правдушки, сшил… Видите, кое-что и я могу… Сварить что, помыть… Руки-то на что привязывал Боженька?
Тем временем Глеб разулся. Аниса увидела, что носки на пятках у него прохудились. Сняла с мальчика носки.
– А то сапожульки новые, а пяточки голые. Негожо так…
Аниса села штопать. Это выдернуло Митю из себя.
– Да не беспокойтесь Вы за нас! – въехал он в каприз. – Мы сами! Сами! У самих же руки без дела висят!
И будто в оправдание того, что вовсе не зря болтаются у него руки, Митя нервно свалил в корыто ведро холодной воды. Тут же птицами полетели в нее рубашки, штаны, майки, что толсто висели на спине койки. Из печки черпнул ладошкой-лопаткой золы, шлёпнул в одёжную горку.
– Ты зачем ещё грязней делаешь мои штаники? – крикнул Глебка. Его штаны лежали поверху. – Разве так мама делала? Забыл?.. Она сыпала золу в марличку, завязывала и клала не в холодную воду, а в горячую. И мыла нам головы.
– Так то головы! – нашёлся Митрофан. – Такую дурную башку, как твоя, и кипятком не отмоешь с самым лучшим мылом! Не то что в холодной воде с золой. Жалко, нету мылки… Ну да этот тарарам, – взгляд в корыто, – и в холодной воде с золой денька за два умякнет, чисто выстирается сам. Без помогайчиков!
На первые глаза, увлечённый маленький человечек толковал сам с собой. На самом же деле выпевал Анисе. Поймала это она и не знала, как быть. Взять и уйти? А Полькин наказ? Её замешательство накинуло мальчику храбрости.
– Так что уж не учащайте Вы к нам, – сказал прямо. – Не убивайтесь. Мы сами с усиками… А у Вас и своих забот полный мешок да ещё вприсыпочку.
– Лепишь ты, Митрюха, старее деда… Ну-ну… Что эт, дедо, за мой мешок у тебя такая переживанка?
Митя насупился индюком. Отмолчался. Аниса не полезла в новые допросы. Живо дочинила носки и ушла.
– Ты чего так с нею? – насыпался Глеб на Митрофана. – Она помогать приходит. Она добрая, хорошая. А ты! А ты!..
– Все хороши, пока спят носом к стенке и ничего не видят кроме снов.
– А разве видят с закрытыми глазиками?
– Видят. Невредно бы и знать.
– Ну-к закрой… Тэ-эк… Ну что ты видишь?
– Ничего.
– Жалко, – постно вздохнул Глебка. – А я тебе дулю скрутил.
– А я тебе за такое скрутю шейку. Но мне сейчас некогда. Это удовольствие я перенесу на потомушки.
Щёлкнув гаврика тихонько, жалеючи по носу, Митя тут же был смыт будто водой в пропасть неотвязных дел. Как пироги валял[54] он их, чувствуя себя первым человеком во всём доме, тем человеком, которому дом в непременности обязан своим спокойствием, жизнью и даже тем, что и рассвет в эти окна входит лишь с его высокого соизволения. Нарубить дров, натаскать воды, протопить печку, наготовить еды, покормить коз, подоить – на всё хватало Митю. Вертелся как волчок. Ложился хозяйко позже всех, вставал раньше всех. И ещё вскакивал среди ночи, напахивал на острые плечишки мамину фуфайку и, дрожа от холода, от страха, шёл к сараю. В сам сарай он боялся заходить, там было ещё темней чем на улице, где хоть звезды подсвечивали, останавливался у двери, накладывал ухо на щёлку и, остановив дыхание, вслушивался в темноту за дверью. Не родился ли кто? Нет ли прибавки?
Но было всё тихо, и лишь по временам козы вздыхали во сне.
Во всякую ночь мальчик подолгу зяб под дверью, боялся, что проспит нового козлёнка. А в ночи коза может ненароком наступить козлёнку на ногу или вовсе стоптать. Правда, случалось такое редко. Однако случалось.
Докисала на отходе зима. Холода уже основательно подрастеряли свою осатанелость, хотя в иные дни и февраль садился на нос крепким декабрём. Начинался окот. Ещё мама дома была, когда окотилась первой Белка. Белкины двойняшки жили под кроватью, огороженной табуретками, фанерными кусками, и будут в доме до поры, пока не падёт стужа.
Теперь вот в тягости ходила серая большая коза с жёлтыми подпалинами на животе, на груди. Её звали Серка. Четыре ночи Митя бегал к ней под дверь, всё слушал, не родила ли. На пятую почувствовал, что именно сегодня произойдет всё самое главное. Опасаясь, как бы чего не произошло худого, привёл на ночь Серку в дом, чем остро изумил младших братьев.
Огрузлая важная гостьюшка, сухо постреливая вытертыми старыми коленками, охотно прошлась по душной комнате, всё с любопытством оглядела, познакомилась и ко всеобщему удовлетворению рассвобождённо улеглась на чистенькой ветхой дерюжке, раскинутой ей на пятачке между жарко натопленной печкой и койкой, на которой укладывались спать Глеб с Антоном.
Раздеваясь, Антоня с излишним усердием бросил носок на кроватную спину. Носок перелетел через спинку, повис на высоком литом роге Серки. Она удивилась, видимо, хотела посмотреть, что за напасть села на рог, устало подняла голову. Рог подался назад и вышло, будто подала Антону носок.
– Спасибушки! – Мальчик благодарно погладил её по лицу, по седой бородке. – Серка, а Серка! Скажи, а где у тебя грудь?
Коза покачала рогами, словно твердя, чего не знаю, того не знаю, притомлённо положила голову перед собой на дерюгу. Отвянь, дай отдохнуть!
Антоня озоровато протарахтел тот же вопрос Митрофану. Митрофан не знал, что ответить (когда люди не знают, они злятся), сердито пробухтел:
– Ума у тебя палата, да ключ от неё потерян!
– Поискал бы ключ от своей палаты, – подпёк Глеб Митрофана.
Мирофан состроил вид, что не слышал нарывистого совета, и скоро установилась тишина.
Первый сквозь сон поймал тоненький, жалостный зов новорожденного Митя. Спичек в доме не было. С криком «Глебка!.. Антоха!.. Вставайте, вставайте!» накатился он их тормошить и, не разбудив, кинулся в барак напротив за огнём.
Напротив жил одинокий бригадир. Батлома. Мерклый свет уже грел низ его окна. Первое свое дело – пораньше поднимать посёлок в работу – он переложил на петуха, выменял в городе за пиджак. Не всегда бригадир надеялся на себя и частенько вскакивал под оранье петушаки, единственного во всём первом районе.[55] За бригадиром просыпались соседи. Обычно, выглянув в окно, говорили:
– А у Батломы уже светится.
Это значило, что и нам след вставать.
Когда ни посмотри на бригадирово окно, в нём всегда теплился слабый, сиротливый огонёшек. Даже поговаривали, что Батлома вовсе не тушил лампу. Как же, богач! И богат лишь тем, что у него были спички. По утрам ближние бараки стучались за огнём. Спичек он никому не давал, а лучинку от лампы почему не зажечь? Зажигай и неси, что и сделал Митя-огнедар. Каждое утро-вечер добывал, приносил в дом огонь, в бережи защищая полой фуфайки или пиджака зябкое пламешко.
Митя торопливо поднёс лучинку к каганцу на столе – свет несмело облил комнатёшку. Мальчик увидел: на дерюжке лежал маленький козленок. Серка старательно вылизывала его.
Митя выгреб откуда-то из-под койки кукурузный ломоть, накрытый перевёрнутой лёгкой бамбуковой корзинкой, куда мама собирала на плантации чай.
– А-а!.. Ты от нас хлебушку прячешь?! – заныл Антон. – Расскажу мамке!
– Пока не расцвело, скорей бежи в центр в больницу и докладывай. Голова! Это ж ещё сама мама спрятала полпайки. Давно-о… Черствей кирпичины…
В миску с водой Митя положил хлеб.
– А зачем спрятала? – донимает Антоха.
– Значит, надо… Так ведётся… Наказывала дать козке хлеба, как родит… Тогда будет помно-огу таскать молока. Ты любишь молоко?
– Ну!
– Не нукай, я и так довезу… Не ной…
Набухший, потолстевший кусок Митруха щедро осыпал синеватой крупной солью, протянул Серке. Ела она захлёбисто, с опаской, со страхом, что эти детские руки, пахнущие только что сдоенным её молозивом, возьмут вдруг да и решат годового лакомства, случавшегося от снега до снега, раз на году, в окот, отчего – опасайся бед, пока их нет! – угорело отхватывала куски во весь рот, роняя пену, тряся блёстким пуком тягучих нитей до полу; в спешке глотала, поводя шеей из стороны в сторону, помогая живей пройти хлебу, и было видно, как он в спехе бежал по горлу – один бугорок за другим.
А у её ног, голых, вытертых на коленках, билась уже новая, молодая жизнь. Примерно через полчаса после своего появления беленький прибавленец храбро ловчил встать. Подымался на колени, а на большее, ах ты, боже! духу невдохват. Коленки разъезжались, и он, аврально вскрикнув, падал ничком. С минуту лежал не двигаясь, приходил в себя, а придя, снова за своё, и снова падение, и снова отдышка… Бог весть на какой попытке он все ж таки подымается в полный росток. Ух как высоко! Даже дух занялся!
Стоит на тоненьких длинных ножках неуверенный, дрожащий, не отваживается и голову повернуть. Страшно! В следующее мгновение незаметно для себя, скорее по толчку чутья – всё живое двигайся! – делает первый самостоятельный шажок, делает и не падает! Печальные глаза наливаются праздничным ликованьем, и беленький, выгнув шёлковую спинку и отставив далеко левую заднюю ножку, всласть потянулся до весёлого хруста в косточках. Не удержавшись на трёх ножках, упал и тут же снова резво поднялся.
Заслышала, заметила его квочка – сидела под маминой койкой в ящике. Подошла, с шипом присела, пристально посмотрела беленькому прямо в глаза красным воспаленным пылающим взглядом, а тронуть не тронула. Поохала, поохала да с тем и села снова на яйца. Познакомилась…
Громкое наседкино оханье разбудило близнецов, что спали в тёплом углу возле печки, спали, встречно обнявшись долгими шеями и положив головы друг другу на спинки.
Увидев новенького, двойнята обрадованно подскочили к нему и, толкаясь, поддевая друг дружку зудкими прорезывающимися рожками, стали бесцеремонно рассматривать его со всех сторон, ласково посмеиваясь глазами, словно говорили:
«Неужели и мы были такие потешные слабачки? Дрожишь?.. Ну, грейся, грейся дрожью!»
Лёгкий, грациозный перестук копытец в столь ранний час – уже отпевал третью песню петух – заинтриговал Анисина кота, дремал у Антона в ногах. Кот, прозванный за невероятно роскошные усы, за осанистый, вальяжный вид Ус Усович Усатенко, к тому же, по словам Семисынова, «с отличием окончивший церковно-приходскую школу и насобачившийся там открывать лапой комнатную дверь и тумбочку», изящно спрыгнул на пол.
Сильно горбясь, он ради знакомства картинно продефилировал под новичком, основательно задев того. Беленький зашатался, едва не упал. Усатенке этого показалось мало. Заигрывая, он зажмурился и, блаженно потягиваясь как после пробуждения, навалился всем корпусом, всей своей тянущей книзу свинцовой тяжестью – ростом они одинаковы, а в кости Усач и поразмашистей, – и беленький с паническим вскриком упал. Повалился на него и сам Ус Усович. Ну это слишком!
– Ну, дядь Ус! Вота заснёшь, я состригу тебе усищи. Будешь знать, как обижать маленьких! – погрозил коту Антон.
Душа у мальчика мягкая, отзывчивая, чувствительные кости слышали чужие падения. Потому при падении беленького он так вскрикнул, будто упал он сам. Зверьком слетел с койки, подхватил козлёнка на руки.
– Мой маленький братик… Мой маленький братик…
Почувствовал себя козлёнок в безопасности, чисто с младенческим доверием прижался к мальчику; греясь, плотно обвил шеей насколько мог его шею. От этой доверчивости, от этой беззащитности, от этой дрожи мальчик как-то обмяк сердцем, ещё острей ощутил боль при падении беленького. Судорожно притискивая его к голой грудке, мальчик тихо заплакал. Он был легкораним, оттого при всякой беде он был так прост, так скор на слезу. Он снова лёг на койку уже вместе с беленьким, и чтоб никто не видел его слёз, накрылся одеялом с головой.
Антон боялся расспросов и всегда прятал слезу от показа. Выплакавшись, вылив душу, приподымает край одеяла, в щёлку смотрит, что же делается без него в комнате. Внимание упало на то, как сосредоточенно, как натужно Митя почему-то уже второй раз за утро доит Серку, приговаривает:
– Да не крути, не крути ногой… Серка! Не на танциях! А то и я крутану кулаком в лоб. Знаешь как! Искры пудами полетят!
Доволен Антоня, что его слёзного водопада не заметили, смелей приоткрывает одеялко. Видит у себя на животе беленького. От него пахнет молоком, он ещё не совсем обсох. Только что Серка сняла с него и съела его рубашку, послед. Она ещё облизывала беленького, когда мальчик брал его к себе. В тепле он перестал дрожать, угрелся, присмирел, вытянул у мальчика на груди шею, упёршись головой в подбородок.
– Вут посмотрите, кто к нам пришёл! – Антон приподнялся, показал козлёнка всей комнате. – Ты кто? Мальчик? Девочка? А-а… вижу, вижу… Мальчик. Наш. Ну что, давай сознакомимся? А как тебя зовут, Зовутка? На Борьку согласишься?
Беленький зевнул, показал алый беззубый рот. Ему было не до знакомства. Поудобней положил голову мальчику на шею, прикрыл глаза. Хотелось спать.
Мальчик слышал, как торопливо настукивало у Борьки сердечко, слышал слабое дыхание, и ему отчего-то сделалось хорошо-хорошо, и он дал себе слово, что и сегодня вечером, и завтра вечером, и послезавтра, и потом, и ещё потом обязательно возьмёт к себе на ночь под одеяло Борьку, хотя и преотлично знал, что через какой час шебутной Борька его разбудит.
Так оно и случилось. Едва задремал Антоня, как беленький, проголодавшись вконец, навалился сосать у мальчика ухо. Спросонок Антон испугался, но, поняв что к чему, улыбнулся и тихонько вытянул ухо изо рта. Однако Борька не растерялся, поймал мальчика за нос, оказался перед самой его мордашкой; и вовсе не было больно, а было щекотно, смешно, и мальчик смеялся, отводил нос. Беленький, разгораясь, ловил его за все, за что можно было лишь ухватиться: за подбородок, за клок сбившихся волос, за пальцы.
Жадность, с какой Борька кидался сосать, перестала забавлять. Надо бы подкормить. За спинкой койки на табурете белела литровая банка с молоком по плечики. Антон дотянулся до ещё тёплой банки, ткнул козлёнка носом в молоко. Борька чуть не захлебнулся, заперхал. Заупрямился, не стал пить.
Тогда мальчик набрал в рот молока. Поддразнивая, показал беленькому кончик языка. Борька обрадовался, что можно схватить и за язык, и, схватив, не промахнулся. Мальчик тихонько пустил по свёрнутому в желобок языку молоко. В глазах беленького зажглось даже удивление. Откуда это?
Посмеиваясь, Антон отдал весь глоток. Беленький отпустил язык, он был уже почти сыт.
И теперь мальчик и козлёнок довольно смотрели друг на друга, улыбались. Вдруг лицо мальчика исказила страшная догадка. Суматошно пощупал на себе майку.
– А-а!.. Пустил мне на живот горячую росу и ещё хихикаешь?!
Козлёнок не мигая всё смотрел прямо Антону в лицо, смотрел с интересом.
– Ну, зачем ты так сделал? – с напускным огорчением зашептал мальчик. – Хочешь знать?.. Я сам так умею! Зачем же два таких хорошика на одной коюшке?
Эта авария вовсе не расстроила дружбу, и во всё утро мальчик не разлучался с Борькой. Из всех живых существ он уживался только с козлятами. Только с козлятами ему было весело, легко. Он мог не выпускать козлёнка из рук во всё время, пока бодрствует. Уже пора идти в сад. Антон «твёрдо, как пуговица» стоит на своём. Пойду с Борькой! И держит того, как гармошку. Борька обречённо мекает. Пусти! Я ж так и помру!
– Нет. В садик ты пойдёшь с паном Глебианом! – Митя отбирает козлёнка.
У мальчика одно оружие. Слёзы.
Заревел рёвушкой и примолк, лишь когда Митя серьёзно посулил принести из школьной библиотеки книжку с нарядными картинками. Книжки Антоня любил рассматривать наедине.
– Из-за вас ещё опоздаю в школу за своими пятаками, – по-дедовски ворчит Митя. – Да ну собирайтесь!.. Уже все пробежали в школу. Да собирайтесь вы, охламоны, в сад! Ну живо! Живо мне!







