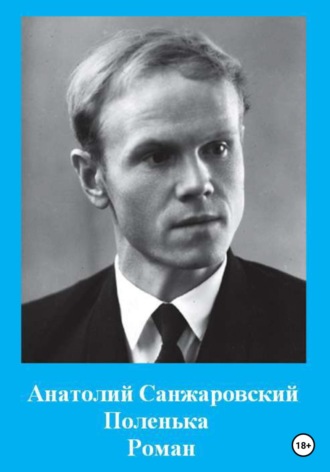
Анатолий Никифорович Санжаровский
Поленька
При свечах Полины старики благословляют молодых хлебом, а её подружки запевают песню-заплачку, песню-укор невесты своему отцу.
– Да отдаешь мене, мий таточку,
Як сам бачишь.
Да не раз, не два ты по мне,
Ой, заплачешь.
Ой, як на весне садочки
Зацветут
Да мимо твого двора дружички
Пойдут,
Да не будут до твоей хаты
Привертаты,
Да не будут кватирочку,[24]
Ой, отсуваты,
Да не будут Поленьку,
Ой, выкликаты.
Да даешь мене, мий таточку,
Сам от себе,
Да остаеться рута-мнята[25]
Вся у тебе.
Да вставай же, мий таточку,
Да раненько,
Да поливай рутку-мяту
Частенько
Ранними и вечерними
Зироньками[26]
И своими дрибненькими
Слизоньками.
Надсадная песня так и тянет за душу, так и сосёт телком, и вот уже на мокром месте глаза и у невесты, и у стариков, и уже смотрит отец на Полю так, будто застали его на месте преступления против родного дитяти, смотрит выжидательно, обречённо, точно ждёт кары. Но за что? Дело связано… Правда, отцу сейчас кажется, не всё чисто тут наработано, хотя какую ж ещё подавай чистоту, сама ж привела на хвосте сизарика, а что свояченица подтолкнула дело – ну, какая телега покатится, пока не взопрёшь её на гору да не толканёшь вниз. Ну какая? Вопрос этот застыл у него в глазах, и набежавшая слеза горячо прикрыла его, прикрыла мир. У Поли в каждой косе было по тюльпану с кулак. Ещё минуту назад отец видел лишь один цветок. Красный круг его разрастался, ширился, ало заливал всю Полю, и теперь красно-размыто видится зыбко дочушка, расплывчаты певуньи, расплывчаты улыбки жениха – расплывчато, размыто, неясно всё. Однако он не отирал глаз, не стыдился слёз.
Видят такое певуньи, не переводя дыхания наваливаются на другую песню.
– Как вьюн над водой увивается,
Никита у ворот убивается:
– Выйди ко мне тесть-батюшка!
Выйди ко мне теща-матушка!
Вывели к нему ворона коня.
– То не мое, мне не суженое,
Мне не ряженое.
Как вьюн над водой увивается,
Никита у ворот убивается:
– Выйди ко мне, тесть-батюшка!
Выйди ко мне, теща-матушка!
Вынесли теперь сундук золотой.
– Это не мое, мне не суженое,
Мне не ряженое.
Греет, веселит Володьшу молодая радость. Знает, добрая песня эта величальная про счастье, которое даровал он сегодня и своей дочери, и этому парню, отныне и его сыну, глядя на которого думал сейчас, а пускай лицом неудаха, зато характером счастливый. Характер Володьша угадывал по манере того держаться, говорить, обращаться к людям – о, Володьша насквозь видел человека.
«Держись, – мысленно советовал Поле, – держись, доцю, за Никишика, як воша за кожух. За глаза будешь им довольна. За ним тоби будэ житьишко, як у Бога за дверьми».
– Как вьюн над водой увивается,
Никита Борисыч у ворот убивается:
– Выйди ко мне, тесть-батюшка!
Выйди ко мне, теща-матушка!
Вывели к нему Полюшку,
Полюшку свет Владимировну.
– Это мое, мое суженое,
Мое ряженое!
Негромкими, раздумчивыми голосами подружки заводят про то, как Полюшка приезжает в первый день к резвому свёкорку и решительно не знает, как повести себя.
– Ой, як мени в чужий хати привыкаты?
Ой, як мени до столика, ой, доступаты?
И як мени свекорка называты?
Да назову я свекорком, ой, неприлишно,
Назову я батичком, ой, дужэ пышно.
Вслед за песней Сашоня протягивает дочке тарелку с платочком. Рдея, Поля передаёт всё это Никите. Тот кланяется Поле, отирает её этим платочком стыдливо и как-то украдкой, резко приблизившись холодными белыми губами к её полным алым, прикасается коротко, точно в испуге. Хотя у собачанских кавалерок поцелуй не такая уж редкая реликвия, но у Поли это был первый поцелуй, как впрочем, и у Никиты.
Под вопросительно-смешливыми взорами Никита подошёл к тестю. Важевато, с поклоном Владимир Арсеньевич сронил четвертной в тарелку на поклад.[27] Но в новую минуту, когда тарелка докружилась до Бориса Андреевича, тот совсем небрежно накрыл Владимирову бумажку, будто то был убогий щербатый грошик, своей половинной сотней.
– Чтоб колёса свадебные не скрыпели, – пояснил вкрадчиво.
Приразинул Володьша рот. Пять десятков рубляков! Вот так замах! Таковских мильонов ни один бешеный не отваливал на поклад. Три коровы выкинул из кармана и не поморщился!
– Торг любит потешку, – заискивающе, приторно пропел на все стороны Владимир Арсеньевич. – Ой як и лю-юбит, дорогый Бори-ис наш Андреевич! Доброму товару добрая и цена!
Володьша столкнулся с Полей глаза в глаза, повинно подумал:
«Бери поклад: брат братом, сват сватом, а деньжанятки нам родня. Уж там тебе будут печки и лавочки![28] По запеву видать, не знают, в какой угол и посадить тебя. А я, кулёк, казнил себя, всё считал, шо ты у меня нескладёха. Всё горевал, вот клад дался – никому не спихнéшь. Тепере дело наше свято, возврату нету назад. Женитьба есть, а раз-женитьбы нету!»
Пятидесятирублёвая бумажонка сбила с ног весь дом. Слишком многое сказала она и Никите, а именно: к сердцу пришлась Поля отцу, отец ничего не жалел для такой невестушки, отчего после его денег тарелка показалась враз настолько тяжёлой, будто на неё махнули золотой слит-угол, что Никита, разбежавшись к свашеньке, которая уже приготовилась положить и свой тоскливый червонишко, дёрнул от неё тарелку вбок – не надо твоего сору, обойдёмся и без! – и с низким, почтительным поклоном подал деньги тестю.
Володьша жмурится от довольства. Навяливается сам наливать девушкам винца, наливает не в пример щедро, с краями. Ласково просит:
– Утаптывайте! Пейте, а шоб глаза не западали! Пейте за здоровья молодых! За здоровье дорогого свёкорка!
Девчата выпивают по стаканчику и уходят всем развесёлым калганом на улицу.
Одни старики пьют основательно, пьют поверх глаз, и никто не рискнёт просчитать, сколько они приговорили. Бутыль, ведро? А может, то и другое разом на плюс взятое?
В глухой час криушане отбывают. Хмельно, сострадательно попыхкивают, степенно провожают их до брички Полины родители.
– По к-какому п-праву м-молчим?! – ересливо тукнул ватной ножкой в стёжку Голово́к. – Усватали Никишке божью картинку и м-молчим?
Не может он отбыть исподтиха, невнавязку для приросшего уже к подушке соседского уха. Куражливые позывы к пению подкусывают его, и он, отроду дробненький, считай с воробья, с такой карусели-радости – усватали картиночку! – раздаётся вширь, вытягивается ввысь. Уже сердце одно у него с кошку. Подпекаемый восторгом, начинает враз с ворох песен. Но всякая песня красна ладом. А какой уж лад, коли левая нога не знает, куда пошла правая, оттого тут же, не переводя дыхания, на выдохе бросает одну, хватает другую, там третью. Не терпится в мгновение перепеть всенепременно всё, так радостно на душе, и эту радость зудится ему поведать и уже спящему хутору, и небу, и звёздам, и тракту, глянцевито блестящему под месяцем. Запал велик, да на одном хотении не выскочишь. И высока у хмеля голова, так ногами жидок.
Оно вроде только и явил отважки, что сполоснул зубы ковшиком настойки на зверобое и иных невинных травках, известной Бог весть под какими именами: и сильвупле, и французская четырнадцатого класса, и чем ворота запирают, и хлебная слеза, – только смазал глотку, только замочил вислые усы, помня, что без поливки и капуста сохнет, ан в головушке гусляк разгулялся,[29] нетерпёж валит с ног съездить четверней (на карачках) – нет такого хитруна, чтоб обманул винцо, чтоб хмелина не брал. Вот собачий нос, как чарку нальёшь, так её лукавый тебе и несёт, и столько понанёс лукавый, что криушанин вконец озлился, озмеился на малость чарки. Малыми пташками летали ему в рот чарки целыми стаями. Рука занемела от быстрой работы. Он только хлоп об пол ту чарку. Не будь малой с напёрсток! Да всю флягу себе: «Фляга моя, фляга, сем-ко я к тебе прилягу. Ты меня не оставь, а я тебя не покину?» Выпил её до капли, на лоб. Он будто каменеет, сжимает в одеревенелых пальцах пустую, мяклую и послушную, как кисея, флягу. За столом сидит прямо, тупо и сосредоточенно смотрит перед собой с остановившейся оловянной улыбкой.
Пьянее вина, совсем не годный в дело бредёт он теперь к бричке. Мечет попутно петли, закидывает крюки. Невдомёк ему, в честь это чего вошёл в пьяное пике. Он же, насколько помнилось, не кланялся градусам. Или, может, влюбился в невестку?
Зашибив дрозда и поборов заодно медведя,[30] он невозмо-жно как умаялся, еле держался на ногах, но таки ж держался. Э! Да он ещё парубок хоть куда! По крайней мере, так ему казалось. Когда вспоминал, что усватал картиночку, его поджигало петь. И он пел будто взлаивал, по временам выкрикивал куски слов из песен. И потом, разве скинешь тут со счёта то, что в борьбе с медведем он мёртво уработался, потому теперь шёл с расстановкой? Эта цена победы над медведем разве не сказалась на энтузиазме пенья, на порывах к нему, вспыхивавших в мутных оконцах рассудка?
Перед венцом, вот уже перед самым венцом, подымались уже по порожкам на паперть, Сашоня (колыхалась она грузной уткой рядом с молодыми) тесней сжала Поле локоть. Дочка поворотила к ней лицо.
– Помнишь?
Спросила Сашоня так тихо, что Поля не расслышала, но что вопрос был именно таков, она догадалась по губам матери.
Поля посмотрела на неё вполглаза, едва заметно кивнула.
Пуще всего Поля боялась перепутать материнские наставины. Она хорошо помнила, что под венцом невеста крестится покрытой рукой, жилось чтоб богато. Она так и делала, крестилась покрытой рукой и всё покуда шло благополучно. Но бедняжка запамятовала, как держать свечу. То ли вровень со свечой Никиты, то ли ниже, то ли выше. Ее сломало холодом испуга, она машинально-угарно повела свечу из стороны в сторону. Дрожащая свеча сыпала слепые, тут же в треске гаснущие, огоньки, дёргалась в полутьме церкви, как блуждающая звезда в ночи.
Поля упрела плутать, остановила руку: её свеча оказалась ниже жениховой. Первой за спиной у молодых стояла Сашоня, вскипело буркнула:
– Вы-ыша-а! Иля ты повредилась?
Поля послушно подкинула руку – свеча окаянно выпрыгнула выше Никитиной на всю ладонь.
– Ни-ижа-а!
Материна толстая туфлина с разворота бухнула её тупым лаковым носком в щиколотку, так что Поля, жалостно охнув, вздрогнула. Вместе с ней вздрогнула свеча и дернулась книзу. И ещё несколько мгновений белая девичья рука со свечой то коротко и резко опускалась в церковном сумраке, то поднималась. Всё вокруг зашушукало, строя чёрные догадки о нраве невесты, суля молодым нерадостные дни.
Но все это было ничто, мыльный пузырь против того, что приключилось в самый конец. Венчание кончилось. Молодым следовало разом задуть венчальные свечи. Никита показал глазами Поле на её свечу – не забывай, вместе! – и дунул на свою. Его свеча потухла. Поля же растерялась, забыла, как дуть. Она не знала, что делать, а потому ничего и не делала, всё стояла со своей свечой, и тут она почувствовала плечом, как кто-то огрузло, зло привалился к ней сзади, и струя воздуха с шипом пронеслась к свече, свеча погасла. Это дула Сашоня.
Вихрь над ухом вернул Поле память. Она всё разом, в единый миг вспомнила, что твердила мать, вспомнила до слова, до голоса, каким было сказано:
«Кто под венцом свечу выша дёржить, за тем большина. Дёржи чуток повыша Никиткиной. Ну, на палец. Колы на секунд спустишь до ровни не беда. Но довго не дёржи вровне. Всё ж таки треба подать сигналик, что верху твоему в доме быть. Хоть и небольшому, на большой ты и не разбегайсь, а все ж твоему. Нехай это всяк видит загодя, ещё под венцом. А уж кто як примет его… Пускай обижается, пускай не обижается. Нам оттого ни холодно ни парко. Венчальные свечечки задувать разом. Шобы жить вместе и помирать вместе. Тут никакой убежки в сторону от моих слов. Запомни. Не острамись сама, не острами ж и нас».
Не осрами…
Что же теперь?..
Поля стояла как вкопанная, не смела повернуть головы. А поворачивать уже время. Свет от распахнутых дверей ударил в спины. Послышалась возня выходивших. Да и не стоять же здесь веки вечные. Но как выходить? Что я скажу матери?
Поля боялась повернуться. Повернуться значило заговорить. На ней было в косах рублей на пять дорогих лент одних да дорогие жемчужные подвески, побрякушки всяких мастей и голосов на груди, в ушах да опять же в тех косах, так что только чуть повороти голову, сделай какой шаг, всё на тебе вздрогнет, проснётся, зазвенит, запоёт, заплачет, захохочет. Боже праведный! Ты уже вся на виду, вся уже на голосах, хоть и молчишь! Только шелохнись, они враз загалдят, проболтают всё про тебя. И то, что ты, горькая невеста, не скончалась под венцом, а цела, и то, что ещё хватает у тебя совести наглой ехать отсюда к свадебному столу. С какими глазами выходить к людям?
И привиделось ей, падает она в обморок, и подвески, дребезжа как-то набатно, возвестили своим взбрязгом о страшной беде. Венец слетел у неё с головы и солнечным, звончатым колесиком покатился к дверям под ноги выходившим. Кто-то в нечаянности наступил на него. Венец жалостно хрястнул под слоновьей ногой, малая толика позолоты пылью ссыпалась на пол.
8
Много ль раз роскошная
В год весна является?
Много ль раз долинушку
Убирают зеленью,
Муравою бархатной,
Парчой раззолоченной?
Не одно ль мгновение
И весне и юности?
История с венчальной свечой приняла неожиданный ход. Старики жениха припечалились. А может, суженая с бусырью? Ну куда нам такой товарко прибирать к своим к рукам? Пускай уж сами её батько-матирь радуются ей одной всю жизнь. И похоже, запросились на попятный дво-рок, к разженитьбе.
– Вам-то что за разор?! – вскинулся Никита. – Я-то вроде её беру!
– Ты-то у нас партизанишко смелай, что хошь возьмёшь. А моргать за неё всем семейством? – подкрикнул отец. – Уволь! У меня моргалки не заёмные, не покупные. Скажут же, не мог Никишок в лесе палки найтить!
– Не всё то в строку, что молвится, – возразил Никита.
Никишу поддержал тесть:
– Правильно! На весь мир не будешь мил! За ветром в поле не угоняешься. За глаза и про царей знаешь яку хохлому несли? А Романовы слухали да триста лет верхом на России ехали!
Борис Андреевич удивлённо уставился на Владимира:
– Ты-то, грамотейка, откуда такой выщелкнулся? Ты-то откуда знаешь?
– Ехали! – ерепенисто подкрикнул Володьша.
– Ну и доездились!
Головок нахмурился и долго дёргал, как бык, носом, но молчал.
– Может, – заговорил наконец, – пока со всей дури не наломали дива, неча сухую грязь к стене лепить? Всё ж одно не прилепится. Можь, всё по-вашему? Молва, как волна: расходится шумно, а утишится, нет ничего. Ладно, Никишка, твой воз, ты и командирь! Вези, да не пыхкай. Будешь и гужи рвать, меня в подсобники не жди. Тащи, тащи дурёну в дом! Двум неумытым дуракам легче прожить вместе, чем одному.
– Пускай и под вывеской дураков, да союзом! Спасибо, батечка, на уступке.
– Оно, дорогый нам Борис Андреёвич, – залисил Володьша, – проданному товару золотой верх. Другого верха не може буты. Уже и повенчал молодых батюшка, слил венцом. Куда ж нам разрушать содеянное самим Богом? Грех великой будэ! Не по-христиански всё тое. А мы с тобой христианины. Раз дело за венец перевалилось, тут уж, сватушка дорогэнький, е одна женитьба, а разженитьбы нема. Вотушко моё словко.
– Сто разов про одно и то ж! Да сбегай за сарай поссы ты на то своё слово! – вшёпот выругался Головок на ухо Володьше и сплюнул, растоптал плевок. – Вот твоё словушко и весь ему сказ! Вся красная ему цена! Растоптать даже нечего. Уж лучше б меня лихоманка стукнула тогда!
– И я просил Бога, лучше меня, не её. А шо я могу тут соделать? Не бьёт меня, бьёт её. А к кому по молодости не может така беда натолкаться? А свенчали – теперь дело свято, возвратки нема.
– Эко лихостно… эко жалобливо со́дит! – насупленно обрезал Головок. – Не кукарекай допрежь время! Вот ещё с глазу на глаз потолкую с невестушкой, там и скажу свою решенью.
Головок помягчел после разговора с Полей. Он понял, что выскочил конфуз у неё с перепугу, с растерянности. Однако во зло Володьше он горел убедить себя, что она и в самом деле полоумка. Он долго судил да рядил с нею о многих сторонах жизни – во всём Поля выказала завидный природный ум. Это повергло старика в восторг.
«Умом девонька не надорвались, талант варит! Вот только я чуток не выпал из рассудку. А ну грохни я по злой дурости разженитьбу, что стало б с Полюшкой? Какая неслава накрыла б и её, и родителей, и Никишку, и меня самого? И слепому ж видно, что тут обое рябое.[31] Бачили ж очи, шо купувалы. А теперь ешьте, хочь повылазьте! Панаскам сам венцедатель велел ухваливатъ дочуру. Им надобно сбыть товар, лежал без почину.[32] Но ежли ты такой разумник, чего ж полез именно в Панасковом лесе искать палку? И не с тесна ль умка какой усадил поклад? Дом целай мог бы месяц кормить на тот поклад… Не может всё то быть неправедным. Не мог я сглупа так несокрушимо сесть в лужу. Тут впросте распоясался господин Случай. Самый раз дать этому господину расчётишко. По ше-ям! По шеям его да руки и вымыть!»
И старчик утолкал свою дуристику на самое донышко в себе. Прямота, искренность, жертвенность – всё то, что стареник ещё не растерял и теперь до изживу своего дня убережёт, враз полыхнуло из него, ударился он просить прощения у Поли, у Никиты, у Владимира Арсеньевича, у всех, кому подранил душу праховидной напрасниной, и – знай царского племянничка![33] – щедро отломил на свадьбу полцарства своего. На Покрова гулял весь сбродный молебен.
Иэха, батюшка Покров, покрой землю снежком, а меня, молоду, муженьком!
После богатой, бесшабашно-обильной недельной свадьбы с катаниями на тройках с бубенцами отгорело лет восемь.
О, велик врачеватель время. Оно примирило, присмирило всех и вся. Про казус на венчанье ни один Ероша уже нигде и ни при каком случае не поминал. Было другого в достатке, заслонили беды последней поры..
Разлился в плечах Никита, новой силой напитались и без того крепкие хлопотливые руки. В аккуратной работе, в обстоятельной манере разговаривать, вести дело со старшими проступали умная мужицкая хватка, сноровка делать всё ладно, делать всё ловко. Округлые в прошлом черты красивого Полина лица заострились, стали какие-то выжидательно-виноватые. Казалось, она ждала чего-то такого, чего смертельно боялась. Поубавилось восторга в голосе, некогда звеневшем чистым, журавлиным звоночком над вешним полем. Всё реже слышали её привялый голос. Время споловинило блеск в некогда лучисто-озорных весёлых глазах. Задорная походка скачнулась на озадаченно-медлительную, потускнела. Из неё ушло что-то такое, что делало её непосредственной, живой, приманчивой.
Но горячей всего Володьшу подпекало то, что Поля была холодновата к Никише. Это заметили и его старики.
Как-то приезжает Володьша в гости в Криушу, а сватья Надежда Мироновна и зажалуйся:
– Ой, сват, чтой-то худое с Полюшкой деется. Пока я с нею в хате одна, она весёлая, вся радостью пыхкает. Прядём и песни граем, ино она грубку[34] размалюе цветками, и разговоры-переговоры у нас без краю льются. А Никиша на порог – замолкает. Не то что с ним – со мной слова при нём не подаст! Полсловечка не выжмешь!
– Надо, Мироновна, её полечити. Я знаю как.
И поехал Володьша в Старую Криушу к бабке Ревихе. Стала бабка наговаривать на сахар и запечалилась: «Да как же она будет с ним в ладу жить, если на дорогу перед ихним свадебным поездом, когда ехали из Собацкого в Новую Криушу, хлюпнули мёртвой воды, в которой купали покойника?»
Поили Полю компотом с наговоренным сахаром, кормили наговоренными пампушками… Не помогло.
В другой раз Ревиха наговорила на рыбу:
– Cпрашивает Павел Петра: «Где ты слышал голос осетра? Рыба не говорит, не кусается, не кричит, не взъедается». Отвечает святой Пётр: «Рыба не кричит, рыба, Павел, молчит». Так бы в семье раба Никития в гневе не кричали, а любили и мирились на каждый год и на каждый час, и на полчаса, и на минуту, и во веки веков. Аминь.
Кормили Полю и наговоренной рыбой, но остуда между молодыми не уходила.
И стала Поля ещё забывать. Вот придёт в ту же лавку. Смотрит на товары, знает, шла за чем-то, но за чем именно не вспомнит. Бредёт назад спросить. К свёкру она не подходила, не смела, хотя и расположен он к ней был грех жаловаться. Обычно шла к Никише. Уже тот бежал к отцу разведать в деланной наивности, а куда это и за чем угнали Полю. Никиша передавал что нужно. Крадучись от свёкорка, снова тащилась она в ту злополучную лавку.
На первые глаза, жилось Поле в доме свёкра хорошо. Её любили, почитали, ей первый кусок, ей первый тост за праздничным застольем, ей первая честь в доме во всём. Но вместе с тем она читала укор на лицах и Никиты, и его стариков.
Как-то в шутку не в шутку свёкор и скажи, что же это-де, невестонька, заждались мы внучика, не пора ль усчастливить старого валенка? Без подсказок она знала, чего от неё ждали, и невидные, потайные слёзы её лились и на золото.
Рожала Поля каждый год. Каждый год на погосте становилось одним её холмиком больше. Уже шесть верб-пало-чек посадила на могилках. Вербочки укрепились, уже лопотали на ветру торопливо, взахлёб, и не могла Поля разобрать, что они такое шумели ей в ответ. А спрашивала она об одном, долго ли быть ей лишь вербной матерью. (Так называли тех, у кого часто умирали дети, кто много сажал верб.) С поклоном на ветру вербочки отвечали что-то своё скорое, невразумительно-удалое, блестящее на солнце, а что – она не понимала.
И когда Головок отметил, что невестка снова в тягости, он внутренне обрадовался и испугался. «Как ба ещё чего худого не выскокло. Всяк же годок хоронит по человечику. Горя всю высушило, как ветоньку… А внучика хотно… А ну сдуру отстегну копыта?[35] Невже и внука не потетёшкаю на своих на руках?»
Новых родов очень боялись и ждали в крайней надежде. Ну, может, ну, может, эти сойдут благополучно. За Полю молились, отслужили молебен. Уже ни на грамм не верили бабке Олене с её подмятой репутацией. Ей в открытую ле- пили, что её наговоры всевидец ясный не принимает, того и Полиной беде сконца не видать. Бабка сопела, на богохульные выбрыки отмалчивалась. Весь вид её говорил: да неохота впусте топтать с вами слова, изыдите!
В район, в Калач, роженицу не повезли. Далеко. Накладно. На даровые харчи надёжи никакоечкой. Есть-пить хоть чего подадут? А кто повезёт? От дома не отлепись. Сентябрь, сама работа. Полный к зиме спех.
Роды принимала дома сама свекровь. Прислуживала ей Олена. Олена не надеялась ни на свекровь, ни на себя. Всё творила заклинания.
Перед самым началом Поля попросила пить. И бабка Олена не простой ей водицы, а той, на которую положила в мыслях Боговы слова:
«Стану я, раба божья Пелагия, благословясь, пойду перекрестясь, из избы дверями, из двора воротьми. Выйду я в чисто поле, помолюсь и поклонюсь на восточну сторону. На той восточной стороне стоит престол господень. На том престоле господнем сидит пресвятая мати божья Богородица. И помолюсь и поклонюсь пресвяти матери божьей Богородице: «Пресвятая мати Богородица, соходи со престола господня и бери свои золотые ключи и отпирай у рабы божьей Пелагии мясные ворота и выпущай младеня на свет и на божью волю». Во веки веков аминь».
Едва перерезав пуповину, бабка Олена, вся светясь, будто родила она, хвать жёлтыми со старости пальцами мальчика за нос. Потянула трижды, приговаривала:
– Не будь курнос да спи-и крепша!
Ребёнок заплакал.
– А ну тебя к коням! – Свекровь властно оттёрла Олену, взяла мальчика на руки. – Кочеток серый, кочеток красный, возьми крик у сынушки у нашего.
Обмыла она мальчика, стянула пальчики на ручках, на ножках. Положила к себе на ладонь. Головка и ножки свесились, как рожки у только что народившегося месяца. Встряхнула:
– Расправила… Всё-ёо!.. Уродушкой не хотно нам рости…
С днями, когда Поля почувствовала себя лучше, свекровь выпарила её в бане. Следком принялась парить в великой радости и младеня. Наконец-то можно наговориться с внуком!
– Бабушка Соломоньюшка Христа парила да и нам парку оставила. Господи, благослови! Ручки, ростите, толстейте, ядренейте! Ножки, ходите, свою телу носите! Язык, говори, свою голову корми! Бабушка Соломоньюшка парила и правила, у Бога милости просила. Не будь седун, будь ходун. Банюшки-паруши слушай: пар да баня да вольное дело! Ба-нюшки да воды слушай. Не слушай ни уроков, ни причищев, ни урочищев ни от худых, ни от добрых, ни от девок-пустоволосок. Живи да толстей, да ядреней. Спи по дням, рости по часам. То твое дело, то твоя работа, кручина и забота. Давай матери спать, давай работать. Не слушай, где курицы кудахчут. Слушай пенья церковного да звону колокольного.
С этими седьмыми родами не набавилось верб погостных. Мальчик вышел крепенький жилец. Свёкор подпихнул молодых назвать его именем своего деда. Был дед ядрёней Тараса Бульбы. И Митя таким будет, считал старик. Выживет, накинет крепости старинному роду.
В здоровье Митя дожил до второго льда, до нового покоса. Домашние не чаяли в Поле души, только что не молились.
– Передохни́ годишко какой, – твердил старик. – Спала с лица, извелась в нитку. Поглянь на себя. Кости да кожа. Не-чему радоваться мужицкому глазу, смотрючи на тебя. Я твоё что могу поделаю по дому. Не бегай и с косой. Сами управются.
Но Поля ни о какой поблажке и не слушала.
Стоял июнь, красный румянец года. В июне, говорят, еды мало, да жить весело: цветы цветут, соловьи поют.
Цвела кольцовская степь. Наливался зерном колос. Июнь-скопидом добросовестно копил мужику урожай на весь год.
В канун сенокосицы сбились молодые косари в кучку, куда вошли Никиша с Полей. Окашивали канавы, придорожья, скудные лесные прогалки, полевые охвостья. Правил артелью Никиша. Самый старший, самый хозяиновитый. Уж такой, подхваливали старики, ни былинки не покинет на сгной осенним ералашным дождям.
В заполдни ребята домолачивали придорожный бугор. На стремительных рессорных дрожках бесшумно подкатил Сергей Горбылёв.
– Хорь!..[36] Сам комсомолистый вождяра!.. – заметался меж косарями по пригорку заполошный шлепоток. – Из самого района. К нам! Что-т большое в лесе сдохло!
Приезд незнакомыша всегда Бог весть какая новость в селе. А тут райвласть! Начальничий наскок смутил парней. Откинута работа. Все до пояса врастелёшку, босые будто с повинной посунулись вниз к дрожкам. Началюге подай своё уважение, иначе как? Обступили тесно Сергея, готовые к солидному разговору.
Только одна Поля всё косила и не знала, как повести себя. Признать за знакомца, за собачанского соседушку? Неизвестно, как ещё к тому отнесётся Никиша. Никише она и разу не промолвилась про Сергея. Посчитала, а чего бутить лишний раз воду внапрасне? Может, больше и не увижу того Сергея. Ан судьба к самому носу с таким шиком подкатила его разодетого в новёхонький чесучовый костюм, в блёсткие хромовые сапожики.
Поля стрельнула глазами. Взгляды их, пожалуй, не успели встретиться, как она угнула голову, сделала вид, что никого и нет поблизости чужого. Ради чего останавливать косу?
– По-оль! Брось-но махать, – шумнул кто-то. – Перекури.
– Я не курю…
К ней подошёл Никита.
– Неудобно перед районным гостюхой, – вшёпот долбит. – На кой ляд выказывать непочтению? Поддержи коммерцию.[37]
Она выпустила косу на валок и пошла, босая, к кустарикам, где в тени на раскинутой холстине сидел Митя. Обхватив его, на боку сосредоточенно сопел во сне свёкор. Вот ещё бесплатное приложение! Увязался в чине няньки. Ну надо. Без внука не дохнёт! Свился калачом и нянчит.
С проголоди мальчик ловчил впихнуть себе в беззубый ещё рот отполированный работой большой стариковский палец. Пробовал его сосать.
Поля тихочко расцепила дедово колесико рук. Ну спал нянь – как штатный ударник. Даже не шелохнулся.
Она взяла мальчика и стала за кустом кормить высокой грудью. Она кормила и думала, чего это через такой прогал времени нежданкой налетел Горбыль. По работе? А разве раньше не было работы? В прошлом году? В позапрошлом?
Долго рыскал он вокруг Поленьки, чужого лакомого пирожочка, да откусить и крошки не подсчастливилось. Однако он всё ещё на что-то надеялся и уже не надеялся. Он искал эту встречу, ловил момент свидеться. А как? Открыто не подкатишься. У неё семья… Сам ты комсомольский районный шишкарь. Столькое двинуть на кон? Восемь лет Поля замужем за другим. И за все восемь лет он не женился, всё для Поли держал себя в узде. Он бы и дальше держал себя для Поли, не дал бы воли сердцу, но после вчерашнего разговора там… Ночь он не сомкнул глаз, всё думал, как поступить, и – решился.
Уже на первом свету усталь разломила его, он задремал.
И приснилось ему…
Ночь.
Ночь придавила, придушила вокруг всю жизнь.
Темно в кабинете, темно за окном.
Не пошёл Сергей домой, к дальним родичам, у кого снимал койку, всё сидит в своём кабинете, без мысли таращится в звероватое, чёрное окно.
Откуда ни возьмись входит криушанский старик Долгов, следом Поля с Никитой.
– Так ты комсомолистый секретарь? – с порога допытывается старик.
– Нет. Пока заведую организационным отделом.
– Раз заведуешь – верховод! Бугор!
– Он самый.
– Ты трудно пробивался к своему креслицу?
– Ох, трудно, дедо. Был пастухом по найму. Коровьим генералом. Обслуживал кулаческий класс. Хлебопашествовал в своем хозяйстве. Колхозник… В красной армии служил. Стрелок. Ме-еткий… Бригадир-полевод. Зав избой-читальной. Борьба с кулачеством. Крепенько кулачиков потрошил. Эта борьба и выхлестнула меня сюда…в районный комсомолитет…
– Значит, кулаки подмогли тебе завладеть этой высоткой!? – старик кольнул взглядом стул под Горбылёвым. – Выходит, кулаки не вороги тебе, а всплошь друзьяки!?
– Они самые! – хохотнул Сергей.
– Вот я и пришёл к тебе как к другу… Тут ты самый первый?
– Хочется тебе так считать – самый первый. Пока ночь…
– Само главно в жизни попасть к первому номеру, товарищ Горбылёв…
– Верно говорите, товарищ Долгов.
– Вот мы и потоваришували… Я с чем так поздненько… Лежу я, товарищ Горбылёв, лежу и нипочёмушки не засну. Неспячка[38] напала. Да как жа я могу расспокойнешко спать, ежле я всё ещё в комсомолий ишшо не вбежавши?!
– Ты что же, дед, пришёл в комсомол вступать? – прохладновато наводит справку Сергей.
– Вступа-ать! – с апломбом выкрикивает радостный дед.
– Не рановато ли?
– В самый разушко!.. Нетерпица сбила… Не дождамши по-людски утра… Мне дожидаться уже опасно… Могу и не дождаться… Шесть десятков да сверху набавка ишшо четыре – это не шашнадцать кругом! Я как понимаю… Наша нонешняя жизня – это роднющая советская власть плюс сплошная комсомолизация всей страны! – вскинул указательный палец. – Всей! А у тебя, товарищ Горбылёв, где в районе сплошная? Не сплошная, а дырчатая! Одни дырьи! Я мимо комсомолия… Эти мои подлетки, – показал на Полю с Никитой, стояли рядом, – тоже мимо… Это правильно?
Сергей замрачнел.
– Комсомол, дед, дело святое, а не зубоигральное.







