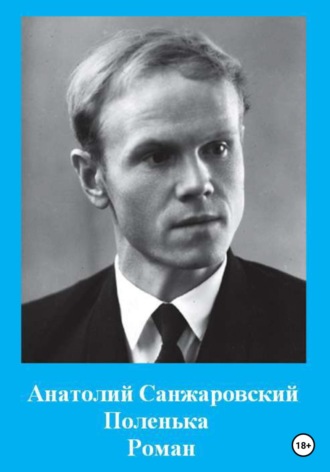
Анатолий Никифорович Санжаровский
Поленька
– Не задавайся. Садись, Гле-еб…
– Не хнычь. Третьяки совсем в другом классе, за стенкой… Бастуешь против Неяновича? – Жмись тогда третьим к Юрке с Вовкой. Иди.
Звонок угомонил ребячий водохлёст, пала чопорная тишина. Все как-то сникли, будто ждали тяжкой участи.
Вошёл учитель. Весёлые веснушки смеялись у него на лице, на руках.
Одни ребята встали, другие всё сидели и с любопытством смотрели, зачем это забрёл сюда дядяйка. По забывке? Здесь же одни малюки! Чего он здесь потерял?
Учитель удивлённо остановился у порога.
– Ребята, когда входит учитель, всем надо вставать.
Сидяки торопливо встали. В оправдание тоненький, как лучик, девчачий голосок пропищал:
– А мы не знали, что Вы, дядя, учи-итель. Вы ж нам не сказали зараньше.
Учитель прошёл к столу, положил руки на края стола и пристально обвёл щемливым взглядом класс.
– Здравствуйте, ребята!
Класс вразнобой, горячо ответил.
– Садитесь.
Под чинный перестук закрывающихся на партах крышек сели. Учитель внимательно ещё раз обвёл взором класс.
– А теперь, – сказал он, – давайте знакомиться. Я ваш учитель. Меня зовут Сергей Данилович… Вы будете по порядку вставать и называть свою фамилию, имя, отчество. Начнём с тебя, – показал на Юрку. Юрка сидел на первой парте справа.
Юрка мигнул Вовке и Антону. Все трое разом поднялись.
– Клыков Юрий Иванович! – заученно прокричал Юра. В его крике были и боязнь забыть что-нибудь, перепутать, и стыд возможного конфуза, и та невыразимая властная сила, когда вразрыв торопятся свалить с души неподъёмный крест.
– Юрий Иванович, значит… – раздумчиво проговорил Сергей Данилович, мелко стуча калачиком указательного пальца по кривоватому столу. – А почему вы втроём сели?
– Мы тут одни с пятого района… Кругом чужие… Хотим чтоб вместюшке…
– Пожалуйста. А зачем все трое опять же встали? Я же говорил – по одному.
– Чего уж по одному? – рассмелел Юра. – Боженька любит троицу. Как все сразу встаём, не так… боязко…
– Может быть, может быть, – одобрительно покивал Сергей Данилович. – А теперь, – наклон к Вове, – представься ты.
Вова также бойко оттараторил своё, только от зубов отскакивало. За этим проснувшимся Ветерком мысленно повторял Антон, и когда подбежала его очередь, быстро, ясно сказал фамилию, сказал про имя.
– Хорошо, – подхвалил Сергей Данилович, уверенный, что мальчик остановился отдохнуть. – А дальше? Что ты ещё не назвал?
В недоумении Антоша молчал.
– Отчество, – мягко подсказал Сергей Данилович.
– От… чес… тво?.. – заикаясь, переспросил Антоша.
– Да, правильно. Отчество.
Мальчик вконец смешался. Покраснел:
– А что… такое… от?..
– Отчество от слова отец. Как звали твоего отца?.. Имя отца?
В растерянности мальчик задумался, сгоняя морщинки на лоб, сосредоточенно глядя на учителя. Вздохнул, потом остановил выдых посреди дороги, как бы вслушался в себя. Упавше, осипло выложил:
– Н-не-е… з-зна-аю… Погиб он… Давно погиб… Я не знаю… Ни в лицо… ни так… По имени чтоб… Никак не знаю…
Мальчик смолк, распято свесил голову на грудь.
– Ни в ли-цо, ни по и-ме-ни… – по слогам повторил Сергей Данилович, зачем-то опасливо тронул скобку шрама, что глянцевито пробегал по высокому лбу. С первого курса пединститута рядовой Косаховский ушёл на фронт добровольцем. Через полгода вернулся по ранению. Прямое дело вернуться в институт, а он в школке призастрял. Некому было вести уроки. Так и присох в Насакирали. – Мда-а… Садитесь… Все трое садитесь…
Юра с Вовой сели. Но Антон продолжал оторопело стоять. Да как же это так садитесь себе? Неужели такой вот он несчастный сюсюра, что не доведается батькина имени?
Мальчика сковала злая ярость против этого, как ему показалось, безразличного повеления сесть. Раз-де не знаешь, так чего ж с тобой воду лить впустую?
Он совсем не помнил отца, но всегда думал о нём. В нежданном разговоре об отце он поначалу устыдился, что не знал даже его имени, но скоро внутренне выкреп. Он был наслышан о всезнании, о всемогуществе учителя. Учитель должен знать! Именно сейчас дотюпал, что учитель наверняка скажет всему классу, кто его отец, скажет, каким героем погиб.
Мальчик не успел ещё обрадоваться, он только был на пути к радости узнавания всей правды об отце, в душе засветилась надежда и на́! Cадитесь!
В комок обиды сжался мальчик. Всё не садясь, буркнул, наливая голос слезой:
– В-Вы… тоже н-не знаете?..
– Не знаю, – глухо ответил Сергей Данилович.
Сам учитель не знает?! Не может того быть!
Мальчик смотрел учителю прямо в глаза. Ждал. Не верил, что тот не знает. Сергей Данилович не отвёл сострадательного взгляда. Виновато, медленно покачал головой.
Первая же встреча подломила веру во всезнание учителя.
Мальчик совсем опал духом.
– Так Вы а ничегошеньки не знаете про моего отца?.. У меня брат большой… В третьем… Может, он знает что?
В больном нетерпении мальчик рывком вышел из-за парты, будто выпал, и, не спрашивая разрешения, засеменил, срываясь на бег, к двери.
В соседнем классе, куда влетел, он ожёгся о добрую сотню глаз. Старчески скрипнула дверь – ребята оторвались от тетрадей, заулыбались ему. Мальчик смешался, заробел и дальше от порога не посмел шагнуть. Поднялся на пальчики, суматошно запрыгал глазёнками по лицам. Ловил Глеба.
– Эй, канарейка в золотой короне, в ту ли дверку изволил вломиться? – в ладошки рупором гахнул в удивлённой тишине вертушок с хохолком, стоявшим на макушке опрокинутым вытертым веником.
Мельком глянул Антон на спрашивавшего с ближней парты.
Веник подмигнул, ералашно вывалил язык.
Антон не привык в таких случаях оставаться в долгу, не забыл свернуть тому уже кукиш, деликатно предъявленный к обозрению рядом с карманом брюк.
– Че-ётко он тебя посадил! – толкнул хохластого в бок сосед сзади.
По классу пробежался, разминаясь, легкий смешок.
Всё это время учительница стояла с мелом у доски, сбоку наблюдала за вошедшим. Наконец напомнила о себе:
– Молодой человек, вы к кому?
– Тольке не к вам, тётечка! – с досадой отмахнулся непрошеный гость, продолжая глазами искать братчика.
Где-то на задах встал Глеб.
– Марь Ванна, это ко мне, – сказал Глеб и вприбег подошёл к Антону. – Что ещё за номерушка?
– Там, – Антон повёл рукой в сторону своего класса, – учитель спрашивает, как звали отца… А я… а я… а я… а я… н-не з-з-зна-а…
Мальчик уронил лицо на кулачки и горько-пронзительно заплакал во весь голос.
За ужином мама блаженствовала, услужливо подливала Антону в миску с мамалыгой молока.
– Ну, як? Вкусно?
– Да есть можно…
– Ну ешь, ешь, сыночок… Цэ молочко от камолихи Маньки. От комолой козы молочко козлятиной не шибае… Саме лучшее. То я всегда доила сподряд всех в одну банку. А тут, думаю, дай-ка я Манюшку отдельно сдою в литру. Антошику нашему на вечерю…
– Ма, – ересливо отдул губы Глебка, – а чего это Вы так?.. Кто говорил про нас, какой палец ни ущеми, всяк болит? Вы-ы… Без обидки всем было одинаково во всём. А сегодня… Он цаца какая иль подвиг какой нечаянно увершил, что Вы его в отдельный колхоз-пуп отсадили, особнячком от нас с Митькой умасливаете молочком от безрогой?
– Да Глеб, да сынок, да нехай один разушко за всю жизню! – взмолилась мама. – Он у нас меньчий ото всех. Первый раз сходил в школу. Праздник! Эге ж? Так нехай, хлопцы, цэ ему в подарок пойдёт!
– Если так, пускай разок сходит, – отходчиво проворчал Глеб.
Антон покосился на него важно. Ну что, выплакал, плакучка?
– Антоша, – сказала мама, – давай доедай. А в смотрелки посля наиграешься. Лучше проскажи, как там школа.
– А что школа? Стоит… Не качается…
– Хоть одну пятёрку ущипнул? Тебя уже спрашувалы?
– Спра-ашивали…
– Про шо?
– Не про что… Про кого…
– Хай по-твоему… Про кого?
– Про папку.
– А что про батька?
– Как звали.
– Ты сказал?
– Глеб сказал.
– А ты шо ж?
В коротких беглых словах Глеб пояснил, как всё свертелось. И как Антон вошёл к нему в класс на уроке, и как его искал, и как уже вдвоём пошли к Сергею Даниловичу…
Слушала мама, смотрела перед собой и ничего не видела.
– Бач, – тужила она, – бомага щэ колы була… В вивторок[89] шестнадцатого марта сорок третьего помер в Сочах от ран. В Сочах и сховали чужи люди… Нема по бомаге чоловика, а вин живэ во всех нас, живэ в Ваших именах… – Измученная улыбка шатнулась в её глазах. – Так ты, Антоша, и не знал, як тебя по батюшке?.. Да откуда тебе и знать… Був не выше чёбота, из пелёнок тилько выдрался… Уходил батько на хронт рано утром, всё хотел тебя на руки взять… Шоб не застудить, сгрёб с койки вместе с одеялишком. А ты – в крик, ногами как замолотишь батька по лицу… Свое Отчество по лицу… Почему ты не хотел идти к нему? Ты же видел его в последний раз… Не простились… Ты так и не пошёл к нему на руки. Поцеловал он тебя в пятку – на миг глянула из-под одеяла, – и выпустил… Ты убежал, забился под барак наш на коротких, в локоть, столбиках и всё со слезами кричал: «Айда вместях не пойдём на войну!» Думал, если ты не выйдешь к нему, он и не пойдёт на хронт?.. Ушёл… Сгиб…
Слеза воткнулась в миску и потерялась, утонула в молоке.
– Да Вы, ма, не плачьте, – сказал Глеб. – А то не поймёте, с чем у вас каша. С молоком или со слезами.
– Оно, конечно, зручней жить покойно. А не выходит. За батьковой за спиной був бы спокой… Затишок… А так… Были сами малые – малые заботы. Сами подросли – заботы подросли. Выще меня вжэ те заботы. Вжэ самый малый в школьниках казакуе… Все росли без батька. Без батька оно круто часом. У других як? Толкнул кто – бегом до батьки за защиткой. Заступится иль сам набавит – это посля. Главно, е бежать к кому. А ты вжэ не побежишь. Не до кого Вам бежать…
– А чего бегать? – подал голос молчавший всё время Митрофан. – Чего суетиться? Надо просто самому вежливо, основательно давать не сходя с места сдачу. И точка.
Драчун первой гильдии аккуратно поставил острое, заточенное и стёршееся в боях, рёбрышко ладони на край стола.
– Той-то весь в первосентябрьских сдачах! – Мама брезгливо поморщилась на его синяк под глазом и на шишку с голубиное яйцо на лбу. – Дорвался… напекли… В школе разжился?
– Где ж ещё… Я ему тоже по-царски слил… Ничего, мам, это учебные, дорогие. На синяках отлично учатся. Новый метод! Не слыхали пока про такой? А жаль… В городе вон на базаре за одного битого уже трёх небитых дают, да и то не берут!..
Трескотня про новый методишко напомнила маме выходку первоклашки. Она и повернись к нему.
– Антоха, сырая картоха! А ты слыхал, век живи, век учись?
– Да вот слышу…
– Век учись… Сёдни у тебя завязался этот век. Да с оплоху… Шо ж ты за ученик? Забыл все книжки-тетрадки дома!
«Как же, забыл! Са-ам выложил… Что они пристают? Как уговорились… В школе Сергей Данилович зачем-то попросил показать ему книжки, будто их в жизнь не видел. На столе перед ним лежали точнёхонько такие, какие я дома спокинул. Сунул нос в мою сумку с яблоками, запере-живал. Ты ж что, говорит, на всю жизнь провиантом запасся? Или голодный год почуял? Пожалуйста, ты в школу ходи учиться, а не обедать».
Так напрямо рубни и мама, было б не лучше? Знает, что не забыл. Книжки с тетрадками с вечера сама клала в сумку. Сами книжки не могли выскочить из полотнянки. Кто-то приделал им ножки. Кто кроме хозяина сумки? Всё это распрекрасно знала. Так на что рисовать вид, что все спеклось не по вине мальчика? Зачем выставлять его несчастной жертвой случая?
Антон круто покраснел. Всё ниже опускал голову, готовый пустить сырость.
Мама заметила это, бросила выражать ему соболезнования по поводу его забывчивости, а сказала легко, поддержала:
– Ну что ж. Невольный грех живёт на всех.
Однако Антоня боялся разоблачения. А вообще разоблачение желанней, чем это каторжное сочувствие.
Иначе считала Поля. Она не кинулась его отчитывать, а заговорила так, что Антон сам понял всю ненужность, всю ложь своего утреннего выбрыка. Окриком да понуждением много ухватишь? А крутни так, чтоб сам человек пережил, пропустил через сердечко сотворённую им же глупость, дотюпал наконец, что эта глупость – только глупость и ничто не большее. Это куда важней.
Признание, раскаяние вздрагивали у него на кончике языка.
Эта новая для Антона кара вовсе не грела маму. Убедившись, что ошибка осознана, осуждена самим же мальчиком, она как-то искренне-ободряюще, поддерживающе улыбнулась ему.
– Ничего. В другой раз, вот завтра, не забудешь? А?
– Неа! – со спасительной готовностью пальнул Антон.
– Ого, – поскучнел Глеб, – как крепко обещает наш Яша-растеряша. Думаете, ма, и станет по-ладному делать? Только начни жучковать… Сегодня забыл книжки. Завтра забудет выучить уроки. А там забудет и в школу пойти… И не троньте. Он один у нас такой забывчивый на весь район!
– И-и! – сердито махнула Поля на Глеба. – Чего гýдишь? Чего хаешь на все лопатки парубка нашего? Не забувае той, кому забувать нечего!
Антон глубоко выдохнул, и этим выдохом, казалось, вымел из себя все беды первого школьного дня.
Не ожидал он, что за смирным словом школа стояли такие мýки. И всё же, одолев их, почувствовал себя на голову выше мальчика, каким был ещё вчера. Вчера у него не было никакейских заботушек. А нынь он уже при высоком деле. Учеба!
Он в воображении выстроил в порядок пускай и маленькие на глаз взрослого свои первосентябрьские события. Все они ему нравились. Правдушка, несладко таскать полную сумку яблок. И хошь не хошь, выжми местечко для тетрадок. На яблоках не станешь же писать. Но есть и последняя переменка, когда все, выголодавшись, просят яблочка на зубок. И как жалко, что на всех не хватило сегодня…
Он весело пожмурился своим мыслям.
– Ты чего блестишь, как намасленный блинец? – спросила мама.
– Это, – Митрофан мрачно раздул ноздри над кашей, – он готовится урадовать Вас первой двойкой.
– А вот и нет! А вот и нет! – Антон крутнулся к окну, шатнул к боку тюлевую занавеску и разлил щёку по стеклу, лупясь в темноту. Растерянность на его лице вытянулась в недоумение.
– Ты что потерял? – шутливо спросила мама.
– Месяц потерял… Вчера ещё был…
– Чего, чего? – Митрофан ядовито надставил лодочку ладони к уху. – Вчера над двором стояла чаша с молоком, а сегодня нету? Молочко выпили, а чашечку кокнули!
– А куда, ма, делся старый месяц? – огорченно спросил Антон. – Вчера он был очень пухлый, толстый, жёлтый. Он что, заболел? А без месяца так темно… Кругом звёздушки, звёздушки, звёздушки… Рассыпался горох у наших у ворот, ни лопатой не сгрести, ни метлой не смести… Звёздушки низкие, прямо пальчиками трогай…
– Чего ж мнёшься у окна? Иди и трогай! – серьёзно подсоветовал Глеб.
– Ручки коротковаты! – прыснул Митрофан в ложку.
Поля осуждающе посмотрела на Митрофана, и он конец смеха проглотил, отчего и покраснел.
Антон напомнил про своё:
– Так куда, ма, старый делся месяц вчерашний?
– Старый месяц на звёзды всегда крошат, – ответила Поля тихо, как-то таинственно-властно.
Все безразговорочно поверили.
– А кто крошит? – шепнул Глеб.
Кто крошит, Поля не знала, а только крошит. Она считала, раз родился человек, на небе загорается его крошка месяца – звезда. На небе у каждого сияет-живёт своя звезда, потому как сколько на земле людей, столько на небе и звёзд. Голубое поле часто серебром усыпано… Ещё про звёзды старые люди сказали: поверх деревьев свечи теплятся. И теплятся до поры, покуда жив человек. Звезда падает, по примете, к ветру. Это для посторонних. Но в одно время умирает человек и падает его звезда. Говорят, человек видит, как падает именно его звезда, а сказать про это он уже никому не может: увидев падение своей звезды, он с лёгким вздохом перед покоем в облегченности навсегда закрывает глаза… Говорят, видит умирающий падающую свою звезду даже днём. Вот почему умирающие уходят от нас со взглядом на окно…
Придавила жуткая, томительная тишина. Все как-то внутренне ужались, прилипли тягостными глазами к небу, к этой синей шапке в серебряных заплатках. Уже стемнело. Сидели без огня. Было видно в окно, как по небу, суля на завтра ветер, как бы бежали звёзды, эти ночные светляки; одновременно казалось, синие потолочины накрепко приколочены золотыми гвоздями; светящиеся их шляпки мирно, святочно посвечивали на одном и том же месте, вовсе не летели эти белые светляки по синему пологу…
Страх круглил, напрягал ребячьи глаза. Сдавливая в себе панику, Митрофан хорохористо вшепнул Антону в ухо:
– Не пялься в окно – никогда не отдашь чалки! Включи мозги… Намотай кой на что… А то ты слишком горячий любитель камушки считать…[90]
– Больше не буду, – торопливо покаялся Антон.
А Глебке почему-то примлилось, что Маня умерла лицом к окну. Покойников он боялся и ему ли выследить, поймать такую тонкость? Но сейчас казалось, всё было именно так, лицом к окну. И разве на звезду на свою она смотрела? Не могла она видеть свою звезду: раскрытое окно прохладно, таинственно, прочнозелено завешивала яблоня. Тогда только завязалось лето. Нет, то было немного рпньше, в конце весны. На яблоне едва свертелись белёсые мохнатые зелепушки.
Было воскресенье. Мама и Митрофан собирали чай. Как велось, на выходной припасались в бригаде лучшие делянки, люди раньше обычного, ещё потемну выскакивали на плантацию. Работали в воскресенье до обеда. А тут обед уже пробежал, а мамы и Мити нет да нет.
Голод ломил, гнул в крюк.
Маня с Антоном ныли напару. Антон бродил по комнате, не забывал ронять редкие слёзы. Глеб отстранённо слушал их и думал, что ж такое дать им хоть на полизушки.
Распаренная зноем яблоня устало жалась к бараку, к его тени. Оперлась ветвями на стену. Отдыхала. Нижние ветви разморенно возлежали, отдыхали даже и на подоконнике.
На правах старшего Глеб взобрался на лавку, отщипнул зелёный катышек. Попробовал и сморщился. Слёзы без спросу покатились по щекам.
Не было еды и это не еда.
А что если… Невесть почему он побрызгал из своего петушка на яблоко. Горечи в нём убавилось вроде. Захлёбисто сжевал одно, другое… Невыносимо видеть голодному, как едят, да тебе не подносят.
– Жрун! Жрун! Жрун! – взбунтовался Антон. – Всё сам да сам! А нам?
– Вам может не подойти… Малешки ещё. Вот проверю на себе… Если хужей не станет…
– Жадобистый ты! Жаднюга!
– Я? Да слопайте хотько всю дереву! – махнул Глеб на ветки, что свисали к подоконнику. – Всю! С корнями! С листьями! С червяками! С паутинищей!
Однако и в ярости он не упустил оросить яблоко из петушка, отдал Антону. Антон съел, жмурясь, лишь половинку, другую чинным кавалериком поднёс сидевшей на койке Мане.
У Мани не было зубов. Она пососала, пососала огрызок и выплюнула.
«Не могла она от яблока от моего помереть? Не ела… А от росы на яблоке? Да мы с Антохой ели с моей росой и совсемушки досе живые!» – спасительно, рассвобождённо подумалось Глебке. Полегоньку страх стал вынимать из него свои коготочки.
Так куда же смотрит человек в последний миг свой? На свою звезду?
Поля обмерла, будто впервые слышала это, хотя и слышала от самой себя. Раньше она как-то не придавала этой примете значения. А тут наплыли со всех сторон, в печальных подробностях сгрудились лица усопших на её глазах. К ужасу, самой себе подтвердила, что умирали они лицом к свету. Маня так вот отошла, и до Мани так угасали дети её. И дед Арсений, и дед Павел, и дед Андрей тоже так прибрались ещё перед второй германской войной…
– Ма, а там, – Антон показал в окно на небо, – нету теперь папкиной звёздушки?..
– Може, нема, а може, и е… Може, там и сшибка какая похоронку накрыла… Скилько було ошибок… Живые ж люди пишут, долго ле сшибиться? Война замирилась щэ колы… В мае! А вжэ сентябрюха… А чужи батьки с хронта идуть, идуть, идуть. Чужи хлопцы бегают на дорогу встревать с хронта своих батькив. Клыки вон Юрка с Витькой привели своего домой. Катька Семисынова привела Аниса… А вы… какие-то без разницы к батьке к своему. Никто и разу не сходил на дорогу совстретить… Уроде как и рады, что повестка була. А что повестка? Оно пошли бы на дорогу из города… Как стала бы душа душу звать, глядишь, и отозвался б, скориш наявился бы батько. Невжель для вас он уже помер? Вы что же, посмирились с той похоронкой? Подкорились той брехучке?.. Что же вы первые не ступнёте первый шаг навстречь батьке? Что же?..
Поля беззвучно, стёрто заплакала, вдавив висок в охолодалое перекрестье рамы.
Она размыто почувствовала, что упрёки её несправедливы. Зачем было ватлать, трещать в горячке, что сыны не ходят встречать со станции отца? Ходила она, ходили и они…
Бывало, в воскресенье, после работы на чаю, под вечер, побежит в Махарадзе мацони какую баночку продать да на те копейки взаимовыручно взять картох ли, луку ли; мечется, мечется по базарику, словно под неё угольев махнули, во всякую минуту наводит час. Всё боится не поспеть к батумскому поезду.
А уже наваливается ночь, велики ли торги? И отдаст ту мацоню не за спасибо ли. Выгодней было б не тащить её от ребят сюда, так нет чего на хлеб. А с одного молока, как и с одного мёду, сытости не наскребёшь. Век на одном молоке не пропоёшь. Детская душа и корочку просит…
Пока утоварится, бежать край надо домой, темно уже. Сторона чужая. А ну не дай Бог какой еще хамлюга польстится на молодое, радостное тело, косы до пояса не пожалеет, примет за заблудшую какую пустёху с русской земли да и заломит где в канаве подол?
Держит она все те страхи в себе невпросте. Как-то раз присатанился один нечёсаный, страхолюдный чебурек со шкаф, бородища чёрным, патлатым снопом во всю грудь. Заорала, поди, черти повскакивали со сна у котлов в аду. Как раз машина совхозная из-за поворота вывернулась, чай на фабрику вёз Ванька Познахирин. Спасибо, Ванька и отбил от того скотиняки.
Помнит, помнит всё то она, а все равно подзабыла под момент коза тот чуть было не приключившийся грех. Ей бы лететь в сумерках назад. Она вроде и бежит домой, только видит, ноги-ослушницы прибежали на станцию. Версту с гаком кинули крюк! Не пожалели её плеч больных, обиженных, при грузе. В чувале и кукуруза вприкуп, и картошки узлина, и пшеница, и соя, и венок луку – набежал тяжёленький мешок.
И больно косточкам, и горько, и дивносладостно. То хорошая боль, то весёлая боль, то наша боль – харчи сыночкам!
К батумскому она опоздала. Люди с поезда уже растеклись, пусто всё кругом. Она потерянно побрела под мешком из угла в угол. То в один зал вошла, то в другой, то к кассе зачем-то шатнулась, то все лавочки прошла обсмотрела. А ну где ранетый лежит ничком, не может своим путём до дому дотолкаться?
Она наткнулась на жирного милиционера. Фараон неладно так, с издёвочкой хохотнул:
– Чито,  ,[91] искай?
,[91] искай?
Это она-то, в поту, с лошадиным чувалом на плечах, госпожа? Барыня? Она и сказать не скажет, чего тут ищет, и краснеет. Не брякнешь же, что прибежала встречать мужика с фронта. А мужик погиб два года назад.
И не было такого раза, чтоб бегала она в город, да обминула вокзал. Возвращалась всегда ночью, налетала в придорожной канаве на своих старшеньких, на Митрофана с Глебом. То вперебой, то хором докладывали, что сидят встречают её. А однажды и проговорись:
– А мы думали, ма, что Вы не одни…
Поля знала, кого парубки держали в виду. Про это не говорилось в голос.
После замирения, после Победы весь район стал выходить на дорогу целыми семьями. В прогулку не в прогулку, а собьются полной толпой перед сном и идут к станции, и у всякого надежда спеет в душе:
«А вдруг… А вдруг нечаем и совстрену своего?!»
Сначала ходили взрослые, потом это поветрие придавило и детвору. Всю площадку Аниса выводила гулять на городской большак. Именно там всем детсадовским базаром она встретила с Катькой, со своей дочкой, Аниса.
Дети поверили счастью городских походов, но Антон к ним ни ногой. Он дичился сходбищ и на встречу отца всегда тайком один пускался в мёртвый час.
Пожалуй, это было первое, что он ясно помнил в своей жизни, – как бегал встречать отца с войны.
Миновав пятый район, городская дорога змеисто вползала на гору, вилась дальше к центру совхоза. Наверное, не было дня, чтоб по ней весело не промаячил какой краснопогонник оттуда, с фронта. Мальчик не сомневался, что во множестве этих людей отыщет отца.
После обеда в саду укладывали спать.
Для солидной строгости Аниса надевала очки, которые обычно болтались на всякий горячий случай в связке ключей на боку. Очки ей во вред, она в них нипочём не видит. Она ссаживала их на вершинку носа, командно лупилась поверх ободков, наклонив голову, будто собиралась бодаться.
– Иха, ребятьё, кому говорено? Спитя на здоровью! Зараз же засыпать! Как я!
Ради наглядности она смеживала глаза, валилась снопиком на одеялишко в проходе на полу, где было прохладней. В агитации за срочный сон она, нянечка, была так убедительна, что уже через минуту и впрямь засыпала сама первая.
Тут же Антон, изображавший мертвецки спящего примерного детсадовца, ловил басовитый Анисин всхрап, на цыпочках с разбегу перепрыгивал через её широковато разлитое мягкоперинное бедро и, старательно зажмурившись, соскакивал с низкого подоконника в нежную упругость высокой густой мохнатой травы.
Мальчик почему-то считал, что закрытые плотно глаза верное средство от всяких ушибов. Ушибов он и взаправду не наживал и не столько потому, что сигал с закрытыми глазами, сколько потому, что их, ушибов, вовсе не могло быть: барак где жил детсад, сидел прямо на земле, окно подымалось над нею чуть выше стула. А потом ещё трава такая, похожая на горушку зелёной ваты. Откуда здесь тебе убиться?
По углаженному до сверкания просёлку мальчик босиком бежал в майке, в трусах, в чём укладывали в постель, бежал на стрелку, где совхозный грейдер, вертлявый, корявый, в сухих ухабинах, как бы извиваясь в извинениях за свою нищету, боязливо втыкался в вальяжный, в тугощёкий большак, по асфальтному, по гладко-широкому телу которого смерчем прожигали чужедальние машины.
До крайности его тревожило, а ну завезут незнакомые шоферы отца куда? Вот забудь свернуть к нам и потащит дорога совсем в Баиалети, в Джумати,[92] в Ниношвили, в Мачхварети, поведёт в дикие, в варяжские горы горские, куда чёрно лез за поворот асфальт; и оттого, выждав машину, где были и военные, мальчик спугнутым зайцем выскакивал из канавы, летел следом (именно тут, на подъёме, мятая полуторка брала новую скорость, шла медленно) и сквозь дымный чад, которым, карабкаясь с могильным воем в гору, упалённо дышала машина ему в лицо, кричал, горько показывая на совхозный просёлочный отросток:
– Дяденьки! Вам не сюда? Не в Насакиралики? Хоть одному?.. К нам?..
Люди в пилотках цвели щемливой радостью.
– Нет, малышик, мы помним дорогу к своему дому. – С борта свешивалась участливая рука с кулёчком печеньев, липких подушечек. – Подправляйся! А то ты худой, как лучик…
Гостинец не шёл к душе тем, чем обычно бывал – кусочком счастья. Подарок говорил, что и на этот раз вышла сшибка. Смятый восторг ожидаемой встречи с отцом в одночасье растворялся, пропадал. В подарке виделась подачка. Вот-де тебе конфетки, только отвяжись!
Мальчик бросал пластаться за машиной и провожал её укорным взглядом исподлобья.







