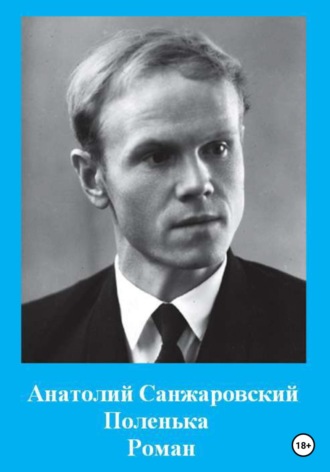
Анатолий Никифорович Санжаровский
Поленька
10
Все постоянно лишь за морем
И потому, что нас там нет.
А между тем, кто минут горем?
Никто… Таков уж белый свет!..
На третий день войны, во вторник, Никиту позвали повесткой в военкомат, в Махарадзе, и комиссия всей-то час вертела его так и эдако, но из-за опухоли на ноге ни под какую статью не поджала, отбраковала. А он был уже рад-радёшенек сунуть голову парикмахеру в коридоре. Едва вываливался от комиссии признанный в годные, как крюковатый ветхий цирюльник подманивал бледным пальцем – а давай-да бумажкю! – и в согласии с той бумажечкой слизывал чуприну. «Вот подберёт мне космочки старинушка… обрядит… На войну надо при полном параде, в опрятности! Гм… Покойника тоже провожают чистеньким. И войне подай чистенького? Чтоб проглотила и не запачкалась? А не подавится?»
Домашне, просто сказал военком:
– Вот подживёт ваша нога, месяца через четыре призовём в конники. А пока идите растите деток, припасы какие делайте для дома.
Выбрел Никита во дворок, привалился боком к штакетнику, никак не придёт в себя от комиссии. Мятежные глаза ловят, как катят с порожек всё чистенькие, от парикмахера всё уже, и обида затягивает его.
Как же так? Изо всех призывников один только он в негодности, один только он мимо парикмахера? Неужели он хуже всех? Ни в избе ни во дворе?..
С приступок уныло топает Анис Семисынов, первый его в совхозе закадыка. Никита с Анисом с первой встречи хорошо вошли в дружбу. Земели воронежцы. Слегка родня. Их сарай нашему плетню двоюродный дядя. Может, родня не тесней и той, когда чужой плетень горел, а их деды только руки грели. А всё ж роднюки. Свои. Анис лохматый, неприбранный.
– Ты чего некошёный? – хмуро допытывается Никита.
– Как же мне быть кошёну, ежли на тебе сломалась у дедка машинка? – постно отшучивается Анис.
«Похоже, не последняя я спица? Не одному мне отбой?» Просторная улыбка трогает Никиту:
– Если б да кабы во рту росли грибы, тогда был бы не рот, а был бы огород! Выходит, из всего совхозного калгана лишь ты да я мимо стригаля стриганули?
– Выходит… – Анис надломленно кривится. – Как сказали, что погодят брать, у меня с удивления рожа на шестую пуговицу вытянулась… Состряпали таракана с лапами… Айдаюшки глянем, что за лапы у нашего у таракана…
В магазине Анис добыл бутылку красненького, прозванного одним стриженым чтоб пуля плохо брала, да по смоченному яблочку, хлестнули прямо из горлышка, не тратясь и не прося ни у кого стакана. «Мы не стакановцы!»
Потешно было Анису со стороны наблюдать, как это Никиша, и в рот не бравший бабьи слёзки, вдруг на радостях дёрнул горнистом полбутыли, и теперь, отписывая кренделя, усердно норовил шествовать как по струнке, но питое из горлышка срезало его старания на нет, бегом заводило то в канаву и тут же бегом выносило, то толкало с силой вперёд, так что он несколько пробегал сноровистым коником, то вдруг ни с того ни с сего заставляло сделать широченный резкий шаг в сторону. Он добросовестно, послушно его делал, а сделав, случалось, останавливался и думал, что это он такое делает, зачем делает, однако скоро забывал, о чём думал, и снова пробовал взять шаг к дому. Зуделось ему показаться перед Полей отчаюгой. Она никогда не видела его подогретым. Так пускай увидит!
Он отрешенно бойко вскинул ногу, хлопнул под нею ладошками. Назидательно погрозил пальцем ворчавшему за плетнём псу:
– Не боись… Я не тро… не т-трону…
И запел рычащему псу, вселюбовно раскинув руки:
– И-ие-ехала д-деревня м-мимо м-мужика-а,
Вдруг из-под с-собаки-и вышли в-ворота.
Кнут из-под телеги вын-нул м-мужика,
Хвост согнул собаку – шмыг под ворота!..
Пёс деликатно выслушал пенье и лениво щёлкнул зубами. Идите, идите! Не замайте! Хорошего понемножку!
Анису не понравилось это вульгарное щёлканье. Пригрозил вареным кулачком:
– Соб-бачка… не дражнись… Не дражни дядю…
Барбос понуро авкнул, зевнул и утащился от греха подальше в прохладу садовой глуши.
– Анисушко! Что-то на душе душно… А не смочить ли моим «Дождичком»?
– Это можно…
Красивым, вязко-бархатным тенором Анис запевает про осенний мелкий дождичек, что сеет, сеет сквозь туман. Никиша сомлело вслушивается в начальные слова, угрюмо подхватывает и себе. Песня эта у него первая. Пел один, любил петь её с Анисом. И не понять Никите, почему эта жалоба о безответной любви умягчает его душу, поталкивает к слезам.
С посуровевшими лицами долго брели братилы молча. Каждый думал своё. Худо-бедно, всё было ясно ещё позавчера. Заведенная пружина жизни раскручивалась привычно. Работа. Дом. Семья. Война же сломала всё. Что с ними будет через месяц? Через день? Через час?
Как-то разом, не сговариваясь, в один голос запечалились они мучительно бездольно:
– Ах как далече, далече в чистом поле
Раскладен там был огонёчек малешенек,
Подле огничка разостлан шелковый ковер.
На ковричке лежит добрый молодец,
Припекает свои раны кровавые.
В головах его стоит животворящий крест,
По праву руку лежит сабля вострая,
По леву руку его крепкий лук,
А в ногах стоит его добрый конь.
При смерти добрый молодец сокрушается
И сам добру коню наказывает:
«Ах ты, конь мой, конь, лошадь добрая,
Ты видишь, что я с белым светом разлучаюся
И с тобой одним прощаюся.
Ты зарой мое тело белое
Среди поля, среди чистова,
Среди раздольица, среди широкова.
Побеги потом во святую Русь,
Поклонись моему отцу и матери,
Благословенье отвези малым детушкам.
Голоса напитались слезами. Стыдятся они друг друга, каждый норовит держать лицо в сторону, хотя и идут рядом, плечо в плечо, сплетясь руками.
– Да скажи моей молодой вдове,
Что женился я на другой жене.
Во придано взял я поле чистое,
Свахою была калена стрела,
А спать положила пуля мушкетная.
Тяжки мне раны палашовыя,
Тяжчее мне раны свинцовыя.
Все друзья-братья меня оставили,
Все товарищи разбежалися.
Лишь один ты, мой добрый конь,
Ты служил мне верно до смерти
И ты видишь, мой добрый конь,
Что удалый добрый молодец кончается…
Домой Никита втащился вечером, уже все вернулись с чая. Неуверенно-озорным, заносящим из стороны в сторону шагом не переступил, а как-то торопливо перепрыгнул порожек, будто об него споткнулся. Под Полей подломились ноги – видела впервые мужа вросхмель.
– Ой, лишенько! Иля ты увэсь пьяный?
– Нехай буду пьяный, – готовно согласился он и, выставив одну ногу вперёд и избоченившись, качнулся петь:
– Чоловiк[50] сие гречку, жинка каже: «Мак».
Нехай так, нехай так,
Нехай гречка буде мак.
Чоловiк поймав щуку, жинка каже: «Рак».
Нехай так, нехай так,
Нехай щука буде рак.
– Не куе, не меле… – расшибленно загоревала Поля. – В ноль наквасился! В лапшу увэсь пьяный.
– Н-никак н-нет, – галантно возразил Никиша. – Слегка тверёзый. А с чего быть пьяну? Подумаешь, налиховал… Колупнули по масенькой… В кружкý, Полянчик, не без душку… Особо не печалься. Мужик не лешак, больше ведра в сутки не пьёт.
– Всадил же Бог душу, як в дуплястую грушу! Не комедничай. С каких это радостей накуликался, як зюзя?
Заморгал Никита, будто дивясь, а чего это и впрямь налимонился он, но тут же неестественно ровно выпрямился, сосредоточенно уставился в пол перед собой. Словно думу великую думал, проронил:
– Это чтоб примета твоя сошлась… Сама ж убивалась, а чего это не получается, как мама говорила. А мамычка твоя сочиняла библию будь здоров. Любит мужик соль – склонённый к пьянке! Сольку я, сама знаешь, обож-жаю. Чего ж мне ломать народово примечание? Вот я и…
– Э-э, хлопче… Тебя послухай… Ни Богу свечка, ни чёрту огарок. Кругом беда, а он… Тошно!
– А тошно, так дай вёдра, принесу воды. Зальёшь тошноту.
– Воды и без тебя на потоп хватит. Сама нанесла. Ты лучше с Глебом сходи на огород да молодого наломай пера.
– Луку так луку…
Минут десять спустя отец и сын шли по берегу Скурдумки, богатой раками и до смеху мелкой рыбешкой с палец. Бо́льшей никто никогда здесь и не лавливал. Ещё речка была богата камнями. Через одни вода как-то беспечно, дурашливо переваливалась, вжимала в своё дно. Других, высоко выступавших, величественных, она боялась. Низко, точно в поклоне молчаливом, виновато, заискивающе обмякло обнимала-обегала камень, обнимала и боялась. Благополучно обежав, за спиной у камня вода смелела, снова пенисто смыкалась и что-то лепетала. Что было в том лепете? Жалоба, восторг, скорбь? Поди пойми язык воды.
А жила река среди гор. По её тощей долинке люди расквартировали огородишки. Долинка то почти слипалась, то разбегалась далеченько, и тогда молчаливые толпы гор отступали, подавались назад, сверкая на солнце царственно-могучими каменными лбами, подавались нехотя, в злобе, как подаются лошади, в оскале мотая и дёргая литыми пудовыми мордами. В непонятном чарующем беспорядке разметались горы окрест, будто кто гигантским бульдозером понадвинул сюда эти громады, изумительные, величаво-страшные в своей первозданной, светозарной красе.
У воды княжила прохлада. Уже ничто не напоминало о полуденном смертном зное. Подбитой птицей солнце свалилось за дальний утёс, однако было ещё светло.
Сутулясь, Никиша безразлично брёл по тропке, в блеск выглаженной по огородным межам. Держался он обычно удальцом. Даже говаривали, вот бы хорошо к этой выправке в прибавку поддать росту да шири в кости, эким красавцем генераликом смотрелся б Никиша. А тут вовсе скис, ужался.
Мальчик шёл следом и в растерянности глазел на надлом в отце. Что варилось в отцовой душе? Понять того сын не мог своим маленьким рассудком, но уже хватило на то сердца, чтоб почувствовать, что у отца не все ладно. Тянуло спросить, в чём эта неладица, и не смел.
Тропинка воткнулась в речку. Никита обернулся, молча подал Глебке руку, чтоб перевести через воду по голому телу ольхи, перекинутому вместо мостка с земли на землю. Мальчик увидел, что небольшое скуластое лицо у отца было жёлтое; всегда огненно-живые, искристые, брызжущие весельем глаза потускнели, смотрели отрешённо и не двигались. Казалось, из него вынули жизнь. Мальчик содрогнулся, ему жалко стало отца.
Боком, прощупывающе ступая по бревну, перебрались на тот берег и очутились у раскоряченного красно-зелёного шатра тунга, что потрескивал под множеством плодов, похожих на яблоки краснобокие.
– Вишь, сынок, как тяжело их держать, – глухо заговорил Никита, показывая на тунг. – Плоды – нужное всем добро. А от того добра видишь, как тяжеле дереву? Так и человек… Добро добром живёт… А тут… Сколь ни твори добра, сколь ни клади в него сердца, а ответного добра, хоть маленького просвета ну никакоечкого… И тяжело, и больно душе… А он не крикни. Не смей кричать про свою боль, не то хужей будет. И он молчит, молчит, молчит! Всё терпит! Всё-ёо! А на кой, я тебя спрашиваю? Вот убреют туда… Уж милей… Поймал первую пулю в лобешник – и весь расчётишко с нею…
– С кем – с нею, па?
– С кем? – машинально спросил себя Никита и осёкся.
Сыну он не мог ответить. Ну, в самом деле, разве вывалишь шестилетику свою душу? Разве пожалуешься ему на Полю? Ты перед ней на пальчиках, чуть на ладонки не положишь… Всё стараешься, из кожи выскакиваешь… Смешно подумать. Четырнадцать лет они одна ложка, одна миска – одна семья! – а он всё её следы считает,[51] всё горит попасть ей в честь. Кто во всякое утро аккуратно, до сини выбрит? Кто подобран по-солдатски? У кого кирзовые сапоги во всякий день в блеске? Кто не заявится в столовку или в магазин в рабочей одежине, а всегда только переодевшись во всё чистое да наглаженное?
Увивался он за своей Поленькой как неприкаянный, горький жених за невестой. Только у его невестоньки было уже три женишка мал мала мень. В чистоте, в душевной опрятности, в праведности подымал ребят. Не делил на любимчиков и нелюбимчиков. У него все равны, как в бане. Сам стриг. Знал, кто какой носит размер одежды, обувки, и покупай что из обновы, покупал разом всем. Никто не носил братнины обноски. Недовольных не было.
В посёлушке не нахвалятся Поле, какой Никиша умница, какой уважительный, какой обходительный. Такого мужика посади только в угол да молись, нету ему равного по авторитету и у старого, и у малого. А Поле всё то в пустяк, всё то вроде так и надо, всё то и норма, и никакой ему особой почести, и всё-то она в холоде к нему душой, в равном душии. Ведь же и у воробья сердце есть! А где же её сердце?
Поначалу, похоже, вроде стерпелось. Но коли даёшь мёд, подавай и ложку. Стерпелось, так в непременности должно и слюбиться. В свои тридцать три года он чисто верил, что непременно всё слюбится. Трёх богатыриков, полное хозяйство мужиков ему надарила. Все у неё у души лежат, все ей по сердцу не потому, какой палец ни зашиби, всяк больно, а лишь потому, считал он, что это его дети, что в них она любит именно его, что через любовь к сыновьям дойдёт пора и до любви к нему к самому. Ещё спасительно думалось, может, стесняется Поля любви навырушку, нараспах. Поди, хранит обычай казачек сполна не выказывать мужу открытой любви, не распущает особо вожжи, держит меня как бы в прохладе? Так оно, сорочило старичьё, надёжней. Крепче будет мужилка почитать свою благоверку.
Он почитал её до невозможности, ждал такого же ответа себе. Что за заноза сидела в её душе и не позволяла ей шагнуть к нему в горячей радости?
И вот теперь, когда ударила, подпекла война, ощутил он неотвратимость рока, безысходность великой беды личной. Как-то враз обмяк душой, потерялся. Неужели вот так пойду и не вернусь? Не получивши полной меры любви? Не поднявши на ноги своих соколков?
Но Боже великий, но Боже правый, это сама судьба положила его желание в боговы уши. Бог вернул его из военкомата, вернул только на то, примозговал Никиша, чтоб вволюшку надышался он любовью своей жены-душеньки. Хоть и сказано, что перед смертью не надышишься, а уж лучше подышать, чем не дышать вовсе. Уж теперь не в пример другой станет ненастушка Поля: всякая великая беда воедино сливала русских людей, роднила роднее родного.
Он очумел, что его отпустили домой на целых на четыре месяца. На радостях плеснул в себя винца, этого бабьего переполоха, потому что слыхал, к забавнице-присухе варяжистей подкатишься, пока задорит тебя веселуха. Тогда всё полетит как по маслицу. Ему хотелось, чтоб всё так и было. Размахнёт он до пят дверь, любимка Поля увидит – Никишенька под мушкой, посмотрит именинницей, в восторге засмеётся. Уветливо скажет, дуранюшка ты мой ненаглядушка, что ж это ты делаешь, и преданно обнимет, поджалеет поцелуем, поджалеет отходчивой лаской.
Как же… До смерти уласкала гадким зюзей!
«Зюзя! Мокрый зюзя я ей, а не Никушечка…»
И такая в нём закипела обида, что просто в удивленье, как это он вслух ещё там, в бараке, не рубанул про ту пулю. Обида выпихнула, вытолкнула из него крик безмолвный поймать лбом первую же на войне пулю себе в вечные любовницы. Мало-помалу он уверовал, что короткое игрище с той пулей-любовницей у него ещё впереди, смирился с этим, ждал его и боялся, что дождётся. Ослаб, обмяк духом, не удержался, проговорился сыну про свой расчёт. И пожалел.
И пока ломали лук в соломенку кошёлку, и потом ещё всю дорогу в обрат Никита всё сушил голову, как поделикатней умягчить парню смысл под запал выложенного, но так и не смог, досадуя на небогатый свой умишко.
Глебка нёс на манер отца, на плече, кошёлку с луком. Кряхтя, угинаясь под тяжестью, Никита впробежку тащил пень, прибило водой к огородному берегу. Не пропадать же добру, жалко. Печка зимой сожрёт. Да и моим тепло. Он перебегал от ёлки к ёлке и отдыхал стоя, привалившись пнём на плечах к теплому телу придорожной ели. Он боялся бросать ношу на землю, потом её не поднять. Уже у самого дома, в последний стоячий привал, Никита, откинувшись на пенёк и отпыхиваясь, глухо попросил:
– А знаешь, сынок, ты не докладай мамке, что я так сказал. Пускай это помрёт меж нами. Мы ж мужики, не брынчалки?
– Я не скажу, отеценька…
Глебушка сдержал слово, не проронил матери ни звука ни в тот вечер, ни после. Однако давящее чувство беды росло и росло в Никите, словно снежный ком, что катился с горы. Ком матерел, пучился, всё толще наливался кручиной неминучей разлуки с домом, с Полей. Не отходила сердцем, не оттаивала она. И по-прежнему была к нему ровна, прохладна. Это мучило её, но что она могла с собой поделать?
Видел это Никита и с необъяснимым больным ликованием уже загодя выдёргивал себя из этого дома, из этой семьи, в каждую свободную минуту выменивая по окрестным селениям пустяк зерна на свои личные вещи. Вещей становилось всё меньше. Значит, и его самого оставалось здесь все меньше? Пускай. Зато больше хлеба своим на чёрный день!
– Никиш, – сказала Поля, – ты б уж не трогал второе своё пальто. А то ж все свои рубашки, кустюмы, сапоги вжэ повытаскал. Всё сменял! Ничо своего не оставил. Шо это на тебя накатило? Или ты не сбираешься посля войны жить?
– Жить-то оно мне надвое помечено… Доведётся… нет ли… Без пальта без моего не завянете. А не станет хлеба, тут уж не до пальта. Вот завтра в последний разок сбегаю в Мелекедурики и тем бал кончится. Трындец!
На работу, на чайную плантацию, которую мотыжил, он прихватил утром и пальто. Вечером, не заходя домой, уплясал в горы, в селение.
Начинало уже темнеть. Никто не брал то пальто, и всё ж в Мелекедурах охотник грузин наскочил-таки, дал три пуда пшеницы. Хоть и сдешевил Никиша, но отдал. На пустой карман и грош хорош.
Бодро молотил он домой и совсем не догадывался, что в те же минуты чёрной птицей постучала к нему в окно почтальонка Аниса, жена Аниса Семисынова.
Дрожащей рукой Поля взяла повестку. Румянец на щеках померк, лицо побледнело. Хотела что-то сказать, раскрыла рот, а говорить не могла. Будто задыхалась, ловила ртом воздух.
– Да возьми ты себя в руки! – прикрикнула Аниса. – Не одного твоего утребовали. Видишь, какая кипища? Надо разнести. Завтра к десяти с вещами. Ох, Господи-и… Земля треснула – зверюга Гитлерюга напал. Зло-ой собаке мно-о-го надо.
Поля молча заплакала.
– Не опускай крылья, – жалела Аниса. – Чего так убиваться? Мой Анис – а плановали разом с твоим в конники брать – полные уже два месяца как воюет. Хорошо воюет. Колошматит немчурят и не жалуется. Только ленты в пулемете успевает менять. А вчера, слышь, письмо было. А в письме кусок голубой ленты. Это он Катюшке… Кабы ты видела, как она обрадовалась, как плакала с радости. Вишь, и контроль над письмами пропустил. Анис Христом-Богом просил: не выбрасывайте, прошу вас, это я дочери, она у меня немая. Э, какие добрые. Посочувствовали.
Поля и Никита не спали ночь, укладывали мешок, и не было такой вещи, что легла туда не окроплённой жениной слезой. Он не ожидал, что вот так будет. Внове, в странность ему было, что за мерклым, тихим разговором она всю ночь проплакала. Казалось, этими отчаянными слезами она молила прощения за то, что была с ним и лишне суха, и лишне строга, и лишне холодна. Вот только поняла и жалею. Что же теперь сделаешь? Что? – спрашивали её слезы.
Он мог читать слёзы. Он всё понял, пожалел и простил. Его душа успокоилась, зажглась верой в проснувшуюся взаимную любовь Поленьки. Он весь сжался, налился гневом. Теперь он знает, что будет до смерти биться вот за эти счастье дарящие слёзы, вот за эти покаянные взгляды, вот за эти дрожащие в беде руки, вот за эти нежные прикосновения её щеки к его щеке. Комок поджало к горлу. Стис-нул мешок, куда в бережи опускались самые необходимые ему вещи, потянул к груди. Забыл, что это мешок, принял за автомат, готовый к атаке.
За эту ночь в нём сделался желанный переворот. Он пойдёт туда не ловить первую попавшуюся вражью пулю, нет. Он ещё так подерётся, что ему никогда не будет стыдно ни перед этими слезами, ни перед вздыхавшими во сне своими тремя богатыриками.
Первый проснулся утром меньшак. Поморщился на еле мерцавшую на столе лампу.
– Ма, а на что ты плачешь?
– Как же не плакать, сынок?.. Батька от нас забирають на хронт…
Антон подумал.
– А что такое хронт?
– Это где война, сынок…
– А что такое война?
– Война – это где убивають. Война – саме погане слово.
Брезжил, просыпался поздний дождливый рассвет. Пора была прощаться. Никиша посадил к себе на колени Митрофана. Митроша насупился, угрюм. Взгляд исподлобья.
– Разделался ты с первым классом на пятёрки, – рассудливо, как с ровней говорил Никита. – Похвальный лист ты уж и за второй выстарай, пожалуйста. Вот смотрел дневник, пока ты спал. Что ж, хорошо. Хорошо идёшь и по родной речи, и по русскому, и по арифметике, и по пенью. Пятёрики вкруговую. Так и держись дальше. Не балуйся. А то за громкое поведение да за тихие успехи живо вымахнут из школки. И останешься при печальном интересе без высокого образования.
– Без высшего, – подправил Митя.
– Всё равно…
– Па, а какое оно, высшее? Вышей потолка?
– Вышей.
– На что оно мне?
– На хлеб будешь намазывать… Нам с мамкой не далось, так хоть Вы… Теперь ты самый старший в доме мужчина. Мужик Мужикович! Хозяйко! За что берёшься – дожимай до конца. Будь аккуратец в деле. В ком да в кучку на скорую ручку ничего не ляпай… На твоей совести подмога матери, забота про младших. Ты понимаешь?
– Угу…
– Договорец-братец… Крепись… Ты уж постарайся. Я ненадолго покину тебя в старших. Поди, белый свет не углом сведён…
А Глебу отец сказал:
– Ты у нас теперь главная нянюшка. Некогда больше торговать воздухом.[52] Смотри, чтоб Антошик рос у тебя без происшествий. Не обижай. Он самый малютенький. Три годушка малёхе всего.
– Три-то три… Да дерётся на все десять!
– А вот это твоя печалька. Отучи. Присеки хвосток. На то ты и нянька. Не доводи дело до сшибки, не будет драться. Не будет, отсохни у меня рукав!
Шутливый зарок подвеселил Глебку. Он вопросительно быстро глянул на Антонку на постели (все трое ребят спали на одной койке).
– Ну будешь, сумкин сын, драться?
– Не знаю…
Отец поманил по очереди к себе на руки и младшенького:
– Иди ко мне, маленький.
– Был маленькой, икогда в люльке качался. А тепере я быльшой! – отчеканил сердито Антон и надёрнул на лицо одеяло.
– Ты чего бастуешь? – спросил Никита и подождал ответа. – Ну чего молчишь? Коза язычок сжевала?
Боясь ухолодить сына, он сгрёб его вместе с одеялом на руки, потянулся прощально поцеловать. И тут заварилось невиданное. Мальчик с рёвом трубным стал вырываться, вывинчиваться из отцова кольца, отбиваясь руками, ногами. Тёплые со сна пяточки остукивали отцовы руки, грудь, лицо.
Никита размыто улыбнулся, выпустил сына.
В одной майке, босой мальчик зверьком забился под низкий барак-мазанку, что стоял на столбцах не выше локтя, и уж из той засады ни одна живая душа никакими калачами не могла его достать. На все растерянные уговоры выйти кричал одно и то же сквозь ливень слёз:
– Не пойду!.. Не пойду на твою войну!.. Не пойду!.. Я не пойду, а ты без меня не пойдёшь! Айдаюшки не пойдём вместях!..
Мальчик верил, что отец, не простившись с ним, не пойдёт ни на какую войну, а потому и не вышел из-под мазанки. Так Никита и ушёл, не попрощался с сыном.
С ночи всё подсеивал дождь.
По дороге в военкомат Никита говорил Поле:
– Вы тут не очень-то экономничайте. Не век нам с тем кривоногим однояйцовым Гитлерюгой маяться. Может, вернусь, не успеете ещё и то зёрнышко прибрать, что поприпас. Под завязку три чувала. Надолго потянет Вам на четверых?
– Бери выще, Никиш. На пятерёх считай. Пятый под серцем ось туточки уже стукае…
Никиша опустился перед Полей на колени.
Сторожко приклонил ухо к животу и зачарованно вздохнул:
– С-с-сту-у-у-учи-и-ит…







