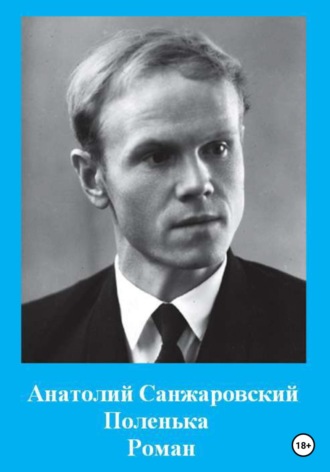
Анатолий Никифорович Санжаровский
Поленька
– До мостика подождать?
– А хотько и тако…
Поля пристыла на берегу, не ступает на мост. У мальчика ёкнуло сердце. Глядь из-за неё – моста нету!
А окаянцы умывали б этот молодой месяц! Недельные ливни на молодик, про которые говорят, что это молодик умывается, до того выбанили чистёху, что вот шалая вода содрала мост. Новый урядить не успели, кинули бревно с берега на берег. Перелетай как знаешь!
«Охохоюшки… – сгорилась Поля. – Нарвалась девка с ковшом на брагу, на эту передрягу… Хоть матушку репку запевай. Кабы знатьё, шо тут така петрушка, обмахнула б кружной утрешней доро́гой…»
Поля приклонилась, бережно опускает мешок на землю. Огорок важно, грузно съехал с плеча. Поля не удержалась на дрожащих ногах, ткнулась лицом в верх мешка и упала на колени перед ним. Так и простояла, пока не отдышалась.
– Ну шо, Глебушка, будем делать?
– Переходить, наверно…
Сказал это мальчик буднично, с таким спокойствием в голосе, что мама не поверила, что ему всё то пустяк, одновременно и поверила его твёрдости, с какой он говорил. Глеб вжал чуни под мышками, ощупал бревно одной голой ступнёй, поставил ту ступню поперёк бревна, поставил так же поперёк другую и пошёл боком, не отрывая босых ног от горбившегося над одурелой водой кругляка и держа руки в сцепке у низа живота. Пуще всего он опасался, что именно здесь, над стонущей бездной, яблоки могут удрать от него. Тут уж не подберёшь. Поддерживая снизу яблоки, он очень боялся выпустить из-под ремня край рубашки, как джина из бутылки.
Но всё обошлось.
Высыпав яблоки на росистую траву, мальчик деловито вернулся к матери.
– Уй ты-ы! Пока ты патишествовал на той берег, я вся со страху сопрела… Я думала, ты у меня, хлопче, так… Ни в избе ни во дворе. А ты молоде-ець!
– Как солёный огурец.
– Дальше, Глеба, шо делать? Считать звёзды до утра?
– А зачем? Из мешка рассыпьте всё по маленьким кучкам, я перенесу.
– Вот головонька светлая! Как же это ты, девка, не дотумкала сама? А? – укорно спросила себя Поля.
Торопливо-услужливо развязала она комок с вещами и в шевиотовый костюмный отрез, лежал сверху, суматошно отсыпала яблок. Яблоками набила и хорошие мужнины чёботы. Глебка поволок узелок на ту сторону.
Тем временем мама снаряжала богатство из мешка и в шаль, и в косынку с головы, и даже в отцовы рабочие брюки, которые, вышло, оказались под случай самые вместительные, ловкие. Перехватила низ у штанин драценой, напустила пшеницы. Глеб ликующе воткнул голову, как в ярмо, меж торчком стоявшими брючинами и вприбежку к кладке. Зерно только покряхтывает, охлопывает сноровистые молоденькие коленочки.
И покуда сын перетаскивал яблоки, пшеницу, Поля о них только и думала. Но когда всё переехало на свой берег, её вдруг окатило холодом. Хочешь не хочешь, а и самой надо переходить!
В первое мгновение подумалось варяжисто:
«А чего? Переползу, Анютка бессерёжная. Никуда не денусь. Напусти Бог смелости, а то и горшки полетят!»
Вызывающе шагнула к кладке – вся смелость её сварилась. Её обомлелый взор столкнуло вниз, в ревущую, в неутешную пропасть и, не помня себя, она порачилась назад.
– Сынок, я боюся… Вода из-под кладки бурунами…Голова кружится… Этой крутаницы я боюсь…
– Такие большие и боитесь. Пойдёмте. Я переведу.
Глебка взял её за руку. Свободной рукой она изо всех сил вцепилась ему выше локтя.
– Вы только вниз не смотрите.
– Ну, сынок, – чуть не плача сказала Поля, – давай крепко друг дружки держаться. Есля понесёт вода, так пускай несёт обоих. Есля погибать, так разома.
– Чего погибать? Ну чего погибать? Всё нашенское уже на нашенском на бережку и – погибать!
– И-и, сынок… Всяк жмётся к лучшему, а завсегда треба буты вготове к хужему.
Не отлепляя босых ног от бревна, они ощупкой, боком посунулись в кромешной мгле к своему берегу. Со страху Поля плотно зажмурилась. Дрожь мелко потряхивала её и чем дальше, всё сильней. Надо перехватиться! Обеими руками мёртво вкогтилась в Глебово плечо; её дрожь теперь уже и его подёргивала.
«Да не дрожите! Не тряситесь Вы так! Не то свалите меня! Загремите и сами!» – мысленно выговаривал Глеб, боясь спугнуть её внимание.
Кладка кончалась.
Баловной вертушок кольнул мальчика в ребро. Сделалось забавно, как это он, малец с палец, перетащил через речку по одной лесине не кого-нибудь из детсадиковских пузыриков, а саму маму. Воды боится! А ну скажи в саду кому, ухохочутся головастики!
Тонкие губы сложились в зарождающуюся усмешку. Тут он почувствовал, что его заваливает. Невероятным усилием, сообщенным чутьём, рванулся во весь дух впёред, и они благополучно слетели на обрывистый берег.
Пенистая грязная вода, судорожно обегавшая утёс-камень, хищневато доплёскивалась до них, холодно, зло мыла им ноги. По обрыву щетинились мелкие цепкие деревца. Поля клейко ухватилась за кустову чуприну одной рукой, другой помогла Глебу встать и, поталкивая его перед собой, держась за кустарики, покарабкалась кверху.
– А не будет того… Плыла, плыла девка та на берегу и утопла? Теперь ты, девка, до-ома. А на своём пепелище и курица бьёт!.. Знать, Глеба, е Бог. Не турнул девку с кладки прямёхонько в речку. Сжалился. И на том спасибонько.
А кому спасибо? Богу или сыну? Она подумала и с такими словами вернулась к своей мысли:
– А спасибоньки сыночку! Бог сжалился, а сынок, мужичок с сапожок, помог. Кабы сынок не сдёрнул с пропасти, несло б водой уже где… Спасибоньки, сыночку…
Меж ёлок сиротливо глянул, просквозил горький огонёшек своего домка.
Где-то далеко в селении, откуда они брели, ударили мятежные петушиные голоса, и совсем рядом, впереди, подпел в ответ единственный в районе петух одинокого бригадира.
Хвалу дню пели в ночи петухи.
14
Дуют ветры,
Ветры буйные;
Ходят тучи,
Тучи темные.
Не видать в них
Света белова;
Не видать в них
Солнца краснова.
Будто магнитом подогнало Полю к своему к окну, вжало в низ стекла. До двери шаг. Войди и узна́ешь, чего это детвора среди ночи при огнях. Ан нет. Подожгла нетерпячка, невмочь сделать этот последний шаг, пристыла с мешком на плечах у окна.
Митя загнанно кружил по комнате, убаюкивал плачущую сестру. Чем усмирить её? Мальчик сел на лавку у стола, пододвинул ближе каганец. Девочку заинтересовало сопящее, качливое пламешко, и она, притихая, засмотрелась на него.
– Ой, Ма-арушка! А правдушки, красивый у нас коптушок? – сквозь близкий сон допытывался у неё Митя. – А правдушки? Тебе под интерес знать, как его сла́дили? Слушай… В пузырёк из-под твоих лекарствов мамка налила керосину и опустила туда палочку из ваты. А чтоб палочка не уплыла вся в керосин, на неё надели картохину пластинку. Белый воротничок из картошки! Оя, какой красивый у огончика воротничок!
Девочка сморщилась и снова улилась.
Митя яростно трясёт её, нагоняя на неё сон, рассеянно тянет пробаутку:
Солнушко, солнушко,
Выглянь в окошечко,
Твои дети плачут,
Серу колупают,
Нам не дают,
Черному медведю по ложке,
Нам ни крошки…
Но все его старания напрасны. Девочка слезой слезу погоняет и, похоже, это до бесконечности.
– Музлейка!.. Для тебя для одной поясняю… Плаксиха! Вот ты кто!.. Ну, чего ты?.. Не битая, а плачешь! Сколь в тебе ведров слёзок? Думаешь, я не могу заревти? Только станешь ты меня нянькать? Станешь? Вот придёт мамка, всё расскажу! Всё!.. Ну… Прикуси язычок, плакуша. Умолкни. Хочешь, я перед тобой на коленки?..
Мальчик кладёт её на пол, спускается перед нею на колени.
Девочка закричала навзрёв.
«Похоже, серьёзко дочка подболела, – подумала Поля и пошла в барак. – Совсем рухнула здоровьем. Плаче и плаче… Шо его делать? Не знаю, и в какую бутылку… лишь бы повернуться… Эхэ-хэ-э… Хоть пой, хоть плачь, хоть вплавь, хоть вскачь…»
В первые после больницы дни девочка ела охотно. Бледные щёчки подвеселила розовость, заиграла живинка в ясных сколках глаз, но скоро снова снесло её в вечные капризы, в слёзы.
– Вот тебе, сынок, за труды. – Поля дала Мите чурек с лобией. – Антон не утерпел, заснул… Лягайте и вы с Глебом… Спите… А я…
С плачущей дочкой она вышла во двор.
Укачивала, выговаривала бессонницу-полуночницу:
– Пойду я с Машей под восток, под восточну сторону. Под восточной стороной ходит матушка утрення заря Мария, вечерня заря Маремьяна, сыра земля Полина и сине море Елена. Я к ним приду поближе, поклонюсь им пониже: «Вояси ты, матушка заря утрення Мария и вечерня Маремьяна, приди к ней, к моей Машеньке, возьми ты у неё полунощника и щекотуна из белого тела, из горячей крови, из ретивого сердца, изо всей плоти, из ясных очей, из черных бровей, изо всего человеческого суставу, из каждой жилочки, из каждой косточки, из семидесяти семи жилочек, из семидесяти семи суставчиков; понеси их за горы высоки, за леса дремучи, за моря широки, за реки глубоки, за болоты зыбучи, за грязи топучи к щуке-белуге в зубы, понеси её в сине море». Щука в море, язык в роте, замок в небе, а ключ в море; заткнул и ключ в море бросил!
Дочка вслушалась в слова. Примолкла. И как только Поля стихла, заплакала в изнеможении, хрипя с простоном.
Майское утро катилось из войны, из-за гор. Посерел воздух. Из тающей ночи чётко выступил белый ком цветущей яблони. Томила духота. Окно было раскрыто настежь, и невесть какой судьбой белая яблоневая ветка покоилась на подоконнике. Спала.
Привыкшие к ночному плачу парни спали.
Поля и на раз не свела глаз. Склонилась у окна над дочкой, шёпотом просила ей покоя у зари:
– Заря-заряница, заря, красна девица, твоё дитё плаче, пить-исть хочет, а моё дитё плаче – спать хочет. Возьми наше бессонье, отдай свой нам сон, отдай…
Девочка утишилась, а там и вовсе перестала. Мама положила её к братьям на пол, где из-за жары с Мая спали впокат.
Вскоре Маша уснула.
Барак придавила тягостная тишина.
Зоревой упругий сквозняк вытягивал из мазанок последнюю душность ночи, когда огромная, с малахай, птица чёрно ударилась с лёту в закрытое окно и, не разбив, сползла по стеклу к его низу, царапая могучими когтями. От этого скрежета проснулось всё в доме. Все видели, все застали тот момент, когда неясная птица скользила по стеклу. Свалившись на землю, она взмыла в угаре и снова с разгона бухнула в окно, заставив всех в ужасе сбиться в кучу.
Только Маша спала спокойно. Она не видела ту птицу, не слышала свист и стон её когтей по стеклу.
Девочка умерла во сне.
Повязала Поля гробик с дочкой платком, будто живую, прижала к груди и понесла хоронить. Следом Митя нёс крышку гробика. По бокам понуро брели лишь Глебка, Антоник да Пегарёк.
Митя шёл и думал, почему же умерла Маша.
В её смерти он чувствовал и свою вину.
Всю последнюю неделю сестрёнка беспрестанно плакала и просила еды. Главнянька Митя сказал:
– Будет тебе, Машка, еда королевская! Над нами ж растёт! Только вот ещё чуток недозрелка…
Он пододвинул лавку к стене, взобрался на подоконник. С подоконника малец дотягивался до веток яблони – росла вприжим к окну. Митя рвал недозрелые яблочки. Они были ещё горькие, и мальчик нашёл управу на горечь. Сорвав несколько яблок, он летел подальше от гомонливой малюсни за угол, обсыкал свою поживу. Яблочки становились не такими горькими и их можно было разжевать и проглотить. Сладостей в доме не водилось. Когда-никогда перепадёт детишкам в праздник по тощему кулёчку дешёвых конфеток-липучек. В редкость был и сахар. Сахар повсегда был только в собственной моче. «Живой сахар». Этим тёплым «живым сахаром» Митя орошал зелёные яблочные комочки и раздавал всем своим. Ел сам, ели Пегарёк, Глебка, Антон. У Маши не было зубов. «Усахаренные» яблочки Митя разжёвывал и изо рта в рот выдавливал свою жеванину Маше.
Все ели, все живы… А что же Машенька?..
Печаль при́чети беззвучно лилась с закаменелых губ.
– Отлетела ты, маленька пташечка,
Ты от батюшки, от матушки,
Ты на чужу, дальню сторонушку,
Ты на веки-то вековечные.
Прилети ты, маленька пташечка,
Посреди-то летичка теплова,
Когда распустится наш зеленый сад
И расцветут всякие цветики.
Прилети ты серой пташечкой,
Сядь на яблоньку на сахарну,
Запой хорошеньким ты соловушком,
Чтобы батечка с матушкой догадалися,
Во зеленый сад похваталися;
Как поймали бы эту пташечку,
Эту птичку во белы руки
И сказали бы этой пташечке:
«Ты скажи нам, пташечка,
Что ты, какого роду-племени,
Какого ты поколеньица?
Ты не нашего ль рода-племени?
Ты не нашего ль поколеньица?»
Мы узнаем маленьку пташечку
По белым волосам, по белому личику,
По хорошему наряженьицу.
Унимали мы маленьку пташечку:
«Останься ты, маленька пташечка,
На родной-то на сторонушке».
Нам отвечает родима пташечка:
«Да ты скажи, кормилец тятенька,
Что не останусь я, батюшка с матушкой,
Я на вашей-то сторонушке,
Там ведь жизнь-то горазд хорошая,
Там и хлеба-то хлебородные,
Там и люди-то доброродные».
Удалая ты головушка!
Две буханки-кирпичины жёлтого кукурузного хлеба, осклизлого, непропечённого, выписал бригадир Батлома на поминки. Поля позвала соседскую детвору. Сквозь слёзы смотрела, как взахлёб ели. При этом мальчишки тайком отпускали ремни на целую дырочку. Когда-то ещё столькушко дадут хлеба? Надо наедаться под перёд.[72]
Беда не живёт одна.
Беда здесь теперь срослась у Поли с бедой там. Ей постоянно млилось, что ниточка смерти дочки вытянет и весь ком беды оттуда.
В посёлке никого так не боялись, как почтальона.
То дважды на неделе бегала в центр совхоза на почту Аниса. Но разносить повестки-похоронки, эти вечные смертные крики, было ей невмоготу, и она столкнула эту беду новенькому почтарику.
Отощалый, побегливый Федюха Лещёв – месяц назад отпустила домой война без руки по самое плечишко – весь измаялся скакать по мазанкам. От него закрывались на засовы, прятались при встрече, ныряя куда вбок. И нарешил Фёдор вручать почту прямо на окопах. Там от каждой семьи кто да и катался всегда на лопате.
Он знал, где чья делянка, и, не желая смущать лишних, кружной петлёй выстёгивался в сумерках в нужном месте. Шёл ужимаясь, стараясь быть незамеченным. Однако его видели, не комар, и на всякий случай приседали в окопах. Вот вроде отстукивает мимо. А ну пади ему в глаза, не поднесёт ли здравицу[73] оттуда?
Уже в третий вечер Фёдор приворачивает к Поле, всё не отдаст письмо. Только была – нету! Как корова языком слизала да сжевала. Где она? Сыщи впотемну!
И на этот раз едва уметила почтарика – в ров, в кусты. Фёдору гнаться не в удобность, но и не таскать же её цидулку до второго пришествия? Довод ему кажется убедительным, он срывается вдогонку.
Затрещало, заохало всё живое под ногами.
В самую чащару залетела Поля птахой, запуталась в колючках пхали, толстой высокой стеной преградивших ей дорогу, упала. А встать нет её, нет сил. С устали выпятила язык на плечо, никак не отпыхается.
– Шо ж ты… – загнанно окусывается, – шо ж ты, чертяка обрубленный, в ночь за молодой бабой у кусты прёшь? У мене детворни трое по лавкам. Мужик живой! Чего ты лезешь не в свою лавочку? Иля думаешь, как без хозяина, так побегу за волей?[74]
– А я, Поленька, не в конкуренции твоему Никитарию… Я скачу вследки не за блудной потешкой. Я по делу…
– Хох! Не было у бабы писку, так купила шелудивое порося? Яки ще у тебя ко мне дела по ночам?
– А угадай… Маку в мешочке насыпано, а не перетрясётся? Что будет? Молчишь?.. Думаешь про меня: маменька породила, да забыла заморозить. Дурашка, мол. А думай! А я те на засыпку ещё шлю вопросец. Маком по белой земле посеяно, далеко вожено, а куда пришло, там взошло? Что это? Что? Не слышу…
Поля отдышалась. Встала.
– Федька, – повела задумчиво, – ты навроде взрослый му-жик. Тебя даже на фронт призывали. Руку даже оторвали… А шо ж ты прикидываешься огурцом? Чё крутишь пуговки? Чё этим маком глаза порошишь? Иль ты в сам деле малоумный!? Или ты перекупался со своим столбом?
Лещёв надулся, засопел. Нашла чем попрекнуть!
По утрам, собираясь умываться, однорукий Фёдор сперва намыливал на крыльце столб, об который тёр уцелевшую руку, поливал себе изо рта.
– Соображалистая… – проворчал без зла. – А умишка невдохват культурную загадку про письмо развязать. Твои маки вот чего будет! – Фёдор ткнул в её локоть письмом. – Мог ведь под дверку сунуть. А я в ручки подаю. Надёжно… А то не дай Бог утеряется, а там важное что… За таковскую работку не грех пуп целовать, а она в долбёжки произвела… Эх, мадам Фуфу, голова в пуху, а кой-что в перьях…
– Фе-едь, – повинно тянет Поля, – не корми обиду на бабский глупой язычок. Ляпанула сдурику… А ну там… – не найдёт речей, ужимается от письма. Понимает, не то мельница мелет, а взять не отважится.
Фёдор впихнул ей грамотку в руку. Деваться некуда. Ни жива ни мертва приняла.
– Прости, Федя, на слове худом…
Не до Лещёва, не до окопов теперь. Воткнула лопату в куст до завтрашнего вечера и, не чуя под собой ног, ударилась домой, к Митьке. Видят все, при письме она, а не спросит никто ни словечка. Робеют липнуть с расспросами, надеются на лучшее. А какое оно лучшее то, поди разгадай, и каждый в посёлушке сторожко прислушивался к воздуху. У беды голос трубный.
– Ну-ка, Митька, сынок, читай скорише, шо тут нам от батька.
Мальчик поднёс письмо к каганцу, трудно, по слогам отхватывает адрес. Всё-таки каракулисто строчит отец.
«Глядит, как корова на писаные ворота!» – осуждающе думает Поля, в нетерпении теребит сына за рукав:
– Не сомневайся. От нашего батька. Рука его… Письмо – рука, а где рука, там и голова… Вышей от адреста, рядом со звёздочкой… Что там чёрными книжными буквами сказано?
– А, это… Будь бдителен, сохраняй военную и государственную тайну. Разглашение военных секретов есть предательство и измена Родине.
Поля как-то испуганно суровеет, встаёт с табуретки.
– А ниже нашего адреса, – Митя стоит на лавке коленками, опёрся локтями на стол и вертит конверт, – напечатано грозно ещё… Вот слушайте… «Наше дело правое. Враг будет разбит, победа будет за нами!»
– Ну за кем же ще? – недоумевает Поля. – Ничего такого больше нема на конверте?
– Неа.
– Тогда давай само письмо. Раздевай… Скидывай конверт… И-и, возишься… Тебя только за смертью посылать. А шоб тебя совсем!
Мальчик слез с лавки, набрал полную грудь воздуха, выпрямился и, чуть изогнувшись перед огоньком, мёртво-помпезным, высоким, срывающимся голосом, каким на пионерском сходбище рапортуют преименитому гостю о готовности линейки к торжеству, пробарабанил:
– Письмо пущено сентября десятого!
– Шо ты орёшь? Не в лесе. Уши полопаются!
Мальчик затужил. Ему вовсе не хотелось читать на обыденку. Это ж донесение оттуда! С фронта! Читать надо так, чтоб вся земля слыхала!
– Здравствуй… – уже тише, с кислым вызовом кукарекнул он.
– Сбавь ще куражу на полграммки.
– Здравствуй, дорогая моя…
– От так и читай. Смирно. Без авралу.
– Ну, ма! Только сбиваете… Здравствуй, дорогая моя супруга Пелагия Владимировна. От супруга вашего Ник…
– Никиты, значит, – подсказывает Поля.
– У папки, ма, почти всё без точек. С маленькой буквы всё сподряд летит!
– А тебе горе? Завидки до озноба подкусывають? И ты поняй всё заподрядки!
– От супруга вашего Никиты Борисовича шлю…
Скучливые приветы на полный лист остужают мальчика.
«Донесение с фронта называется. Куча приветов да поклонов всему району! Где ж войнища?» – растроенно думает он и по диагонали проскакивает начало письма.
– Ты чего не всё читаешь? – дёргает его за руку Поля. – Обычно отец никого не обделял вниманием. Поля наизусть помнила начала всех его писем, знала, какой привет идёт за каким. – За приветом Анисе шёл привет бабе Вале. А ты пропустил, зажевал.
– Ну раз Вы знаете, что этой бабке-косолапке есть приветик, чего ещё и читать?
– Ну, хлопче, так не годится. Читай як положено.
– А что тут кроме приветов наложено?
– Митинг прикрывай, читай безразговорочно, – прихлопывает мама ладонью по столу.
Скрепя терпение, Митя наново читает всё с первой строчки. Гудит уныло, монотонно. Оживает, когда наконец-то доезжает до интересного.
– А с неделю назад, – бодро зазвенел колокольцем, – со мной было такое пришествие. На всемка скаку убило подо мной Синичку. Лошаденка дробненькая, шустрая, а убило. Пуля клюнула ее в грудку, прошила сердце (это посля узнали, проверяли, экспертиза называется) и пошла ко мне. На полмизинца высолопилась уже из спины, уткнулась в седло. Тут-то и нету ей ходу. Ребята сорочат, не судьба, видать, тебе еще, Никитока, белы тапки по ноге подбирать. Подмилостивил, подсластил сам жеребий, помолотишь еще фрицья. В ином разе, как затишок, без боя, возьмут весело на зубок: ну охвались, как это ты верхом на пуле прокатился?
А оборот оно такой. Хоть глупа пуля и прожгла сердце, а Синичка по воле инерции еще какой куцый шажок и сделала. Гляди, пуля уже у меня под седлом утаилась. Вроде выходило, будто несла она меня, будто ехал я на ней верхи.
Но ты на эти глупостя не клади вниманию.
Только вот мало тижоловато пришлось, когда Синичка кувыркнулась через голову. Я-то на ней. Запутался в стременах. Не вырваться. Да и сообрази сразу что почем. Вот мы и хряснулись союзом, вместях колечко слили – петлю Нестерова. Помяло меня малешко, самый пустяк. Ну, очухался, а встать не встану, завалилась Синичка мне на ногу. Кой да как вынул ногу из плена. Дерг, дерг за уздечку, а у Синички моей глазыньки стоят. Какой-то мураш чинчнкует прямехонько по открытому глазному яблоку. Синичка никак на то не отвечает. Тут я дотюпал, копец, нету больша у меня Синички.
Хотели было запихать меня в госпиталь на дурной харч да на легкое житие, да я в обиду въехал. По мне, госпиталь – это где лапоточки надо откинуть. А чего мне лапоточка раскидывать, если у меня нигде никакой стоящей ранешки? То в блиндажике, то в окопчике полежу… Окунял. Безо всякого лазарета все посвятилось. А так боль ничего такого. Одна забота, одна работа – громи, Никита, Гитлерюгу.
Поля, пишу на коленке, кривовато подчерк идет. Подложил лопату – лучше.
Поля, не жалей мое тряпье, снеси в горы на зерно.
Рушник, что вязала мне цветами, весь целай. Я им не вытираюся, только носю всю времю скрозь с собой. Память какая… Гляну когда – сердчишко обмирает.
Вот было забыл. Часть нашу, Поля, крепко раздергало в боях. Осталось жиденько, человек так…
– Тут, ма, растёрто…
– То ревизор по письмах затёр.
– А… Значит… Осталось жиденько, человек так… да я, да шапка моя. На отдых, на подполнение часть нашу через два дня перекинут в Кобулеты. Совсем к Вам под бок. Так что ты с Анисей и приехать проведать можешь. Передай Анисе на словах, что Аниса ее взяла под сохранность да в полюбовники везетеха. Жирно везет милушке, ни одна горинка не привязалась…
До скорого свидания, чистая моя реченька Поля… Ты – Поля. И живет под Москвой реченька Поля. По мне, так назвали речку в твою честь. Про такую речку я узнал от одного сослуживца, он как раз родом из села Гармониха на берегу той Божьей реченьки…
Пугливо слушала Поля письмо. Ей всё казалось, вот-вот Митя такое прочтёт, что рухнешь с лавки. Но боязнь та была напрасная. Ожидание беды не сбылось. Сегодня беды уже не жди. Фёдька лишь завтра побежит на почту. И завтра вряд ли что будет нам. А там никаких страхов не выглядай. Мужик на курорте! Что страшного сварится на курорте? Переест пшёнки с салом или перекалится на сиротском солнцепёке?
Счастье с её лица обрызгало парней, стояли колечком вокруг, и в комнате посветлело.
Первые минуты, пока читалось письмо, Аниса толклась у порожка. Потом как-то само собой так связалось, что она и не заметила, как подшмыгнула, прикипела к незанавешенной оконной полоске. Вполглаза следила за Полей. Коль не воет, всё покудочки путно. А разулыбалась – в письме верный глянец!
– Ну что там твой? – не стерпела, вломилась Аниса. – Как дела?
– Два бела, трети, как снег! Лабунится приехать!
– Навовсе?
– Не-е. Поближще. Иха часть в Кобулеты уже, поди, услали.
– А про моего молчит?
– С чего бы молчать? Живой твой. Весь целой.
– А знаешь, подружака, – раздумалась Аниса, – давай на выходной отпросимся и укатимся к своим хвастунам-певчукам на свиданку.
– Оно-то так, да из хаты как? Кто тебе даст той выходной?!
– Невжель за полный год не дадуть один выходной? Слезой отымем!
– Може, и отымем. Да тогда на кого сю артель спокинешь? – Поля показала на сыновей, игравших в углу с козлятами. С четверенек Антоня угарно бодал оробелого Борьку, поджигал к ответному удару.
– Нашла об чём горевать! – осуждающе возразила Аниса. – Не ты ль пела, где нельзя перескочить, там можно пролезть? Перезвоним так. Съездим порозне… Я выплачу себе второй выходной, а ты поняй в этот. Невже я не угляжу за твоими козлятками-ребятками? Спокойно собирайся. Удалось кулику на веку! Случай такой не пускай… Вот к разу… Я к тебе с заданьишком от площадки. Вручишь командиру наши варежки… Эти варежки под моим глазом вязали девчатишки.
– Варежки я отдам… В горах заходит зима. Ко времени… А шо взять в гостинец своему да твоему? Хлеб не повезёшь же?
– А зеленуху? Сегодня что у нас было с утреца? Пято-ок![75] Настраивайся к ночи с субботы на выходной… Подхватишь с собой одного своего парубка. А завтра Митьку ушли в Мелекедуры. Наране подыми, на коровьем реву. Пускай покорячится на чаю у какого грузиняки куркуля да приплавит корзинищу груш, орехов, яблок, царского виноградику. Пустые руки да базарные глаза кому радостны? Как лупать ото? Да там со страма сгоришь. Не так я кажу?
На первом свету Поля нерешительно положила руку Митрофану на плечо, а сама попрекает себя:
«Ну, чего ты липнешь к малому? Не зверёк же, не чужак якый. Твое дитё, под серцем ношено… Нехай соспить ще минутушку какую…»
Будить она не отваживается, на пальчиках утягивается в угол. Через некоторое время возвратилась, постояла-постояла с протянутой к сыну рукой и снова отдёрнула, будто ужалила её змея. Бродит как во сне по комнате из угла в угол, крутится веретеном и не знает, к чему прибиться.
«Подымать жалко… А не разбудю, заспит всё малый. Поедешь ты, девка, с таком в те Кобулеты!»
Эта мысль насмелила её, подтолкнула к койке. Парень лежал на боку. Она опало колыхнула плечико, поднималось в сумерках над одеялом маленьким утёсишком.
– Митька… сынок… вставай… Пришёл генерал Вставай… Скоро зовсим розвидниться!
Парень приподнялся на локоть.
Смотрит оловянно, пропаще.
– Ну шо? Нияк не опомнишься? Дома. Не в гостях…
– Да вижу…
– Не забув, про шо учора говорили, як тётка Аниса пошла?
– А и скажи, забыл, так всё одно напомните… Не забыл. Иду. Школе отгул за прогул. Бегу в Мелекедуры на заработки!
Митя встал, заскакал глазёнками на все стороны. Где одежда? Нескладёха он препорядочный всё-таки. С вечера Бог весть куда позашвыривал, теперь бульдозериком ворочает всё кверх тормашками.
Штанцы добыл под койкой. Борька на них спал, свернулся в калачик. Рубашку выдернул из-под своей подухи. Чуни!.. Вот где чуни?
– Чу-уньки… золотуньки… – жалобно позвал Митя. – Ау-у-у-у…
Чуни не отзывались.
«Или куда умотали? Нигде проклятых нетутка!»
Он упарился искать. Сунулся за дверь хватить свежего воздуха – одна на крыльце торчит! Закоченелая, злая. Будто ночь с каким валенком гуляла, вся продрогла, прибежала, а её и не впустили. Так всю ночку и отдрожала под дверью.
Митя с размаху воткнул в неё ногу.
– Чунька! Где твоя подрунька?
Тупо, сердито чунька пялилась на двор. Митя глянул, куда она смотрела, и ахнул. Вторая чуня непристойно валялась на земле. Как пьяная. Лежит перевёрнутой лодчонкой вверх гладким голым пузичком и никакого тебе стыда, никакой тебе совести!
– Чумазики! Распустёшки! Вы почему дома не ночевали? Хорошие девочки все спят до-о-о-ома!
Мите показалось, обиженно, горько зароптали гулёны.
«А как нам быть хорошими, если ты выкинул нас вчера на крыльцо? – пожаловалась правая чуня. – И так сильно, что левая упала аж на землю! Отбила все бока! За ночь её переехали три раза машины, четыре раза арбы! Всё-о боли-ит!..»
«Оха-оха…» – простонала левая чуня, подтвердила, что у неё действительно все болят ниточки.
– Извиняюсь, госпожа Левка. Некогда мне вас по больницам катать. У меня ещё неизвестно где кепка болтается!
Закипают ералашные поиски кепки. Заламываются матрасы на обеих койках, перетряхивается всё в сундуке.
– От так картузик, – шепчет мама. – Загнал в пот. Дела!.. Хучь всехдержавный розыск подавай.
Расстроенный Митя столбиком торчит посреди комнаты. Немо пялится вокруг. Где ж ещё искать? Может, плохо проверил под матрасом? Он снова заламывает матрас у изножья так, что спавшие на нём Глеб и Антон почти становятся на головы. Сонным не устоять век на голове. Меньшаки просыпаются.
– Ма! – Глебка угорело впрыгнул в штаны. – И я пойду!
– Пойдёшь. Пойдёшь в свой сад. Какой из тебя, хлопче, горячий работун?
Но Глебке очень хотелось, чтоб что-то и от его рук пошло к отцу.
– Не пустите по-хорошему, обманкой убегу, – предупредил он и на всякий случай вышел.
Митя передвигает сундук. Стал краснее рака. Может, тоскливо думает он, мыши затащили кепку под сундук на званый ужин? С горячей надеждой заглядывает под сундук. В разочаровании подымается с колен.
Антон убрал фанерную заслонку, и свежий, бодрый Борька выскочил из-под койки на простор, озоровато просыпал по полу весёлый перестук копытец. Мальчик ликующе наблюдает, как разнарядный со вчера Борька перелетает с табуретки на стол, со стола на подоконник и вот уже важно обозревает улицу.
Перед окном солидно совершал утренний моцион бригадиров петух. Увидев Борьку, он в изумлении замер. Поднял одну ногу и забыл её опустить. Борька был весь в бантах. Антон вчера вымолил в саду у девчонок на один день. На шею повесил голубой, а рожки, которые называл стоячими косичками, ухорошил красными.
Не мигая смотрел петух и ждал, что же будет дальше с этим видением в бантах. А дальше ничего не было. Борька гордо погулял туда-сюда по подоконнику, прощально покивал ему бантами и грациозно спланировал на пол.
Мальчик суматошно бухнулся перед ним на четвереньки, навязывая продолжение вчерашнего боя. И этот бой был принят. Борька взвился колом, ужал передние копытца к грудке и со всего лёту ж-жах! в глупо подставленный безрогий лобешник. Мальчик склочно взвизгнул, опрокинулся на ягодки.
А ради правды надо сказать, при ударе вскрикнули оба, у обоих сыпанули искры из глаз. Борька сразу отпрянул прочь, лишь оглянулся, словно пожаловался:
«Ну и лобина, друже, у тебя. Твёрже кирпича! А рожки мои за ночку хоть и подросли, но не так ещё укрепли, чтоб не слышали больку».
Тесная боль сморщила мальчиково лицо. Он молодцом удерживает близкий рёв, боязко оглаживает ушиб.
– Ну шо, подвезло, как раку в кипятке? – Улыбка мягко стелется по мамину лицу. – Ужалила пчёлка?
– Аха…
– Пчёлка жалит – медку жаль.
Мальчик недоумевает.
Какой же у Борькиных рогов мёд?
А Митя уже валится с ног, потерял всякую надежду найти кепку. Посреди комнаты задрал люк в погребицу, в блажи растянулся по полу – не найду, так хоть отдохну! – выжато таращится в сытую темь погребухи, где зимой живут кабаки, картошка, накиданные на гвозди в стенках венки лука. Всё под тобой, не надо в январскую заварушку выползать на улицу.







