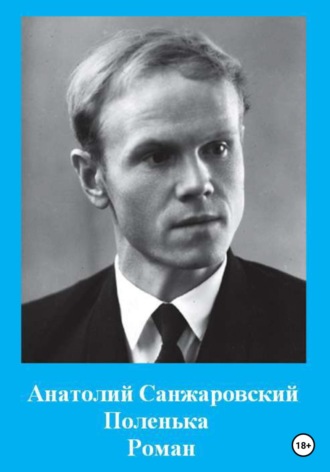
Анатолий Никифорович Санжаровский
Поленька
9
Ты прости, село,
Прости, староста,
В края дальние
Пойдет молодец.
Наперёд Поли молва вломилась в Криушу. Молва пеше не ходит, молва угорелой сорокой напрямки со двора на двор, из хаты в хату, из окна в окно лезет.
– О! Видали! Как Полька с этим с куриным жеребчиком из района… И не варили пива, да наделали там ди-ива!..
И следовало такое прибавленьице, отливались такие новые колокола, что только остаётся подивиться, как молодая жена все ещё смела ходить по земле. Давно, ах, раздавно, гневились толки, надо упечь её живьяком в самое в главное пекло.
Отходили дни.
Молва всё таскала небылые слова. Что же делать? Всякому на роток не вскинешь платок. И Поля, и Никита, и старики почернели с лица.
Едва отмолотились, старик и скажи Никите:
– Худую молву, ёлка с палкой, эту злу траву, скосить можно лише чужой сторонкой.
– Отец, нет в Вас христианской души. Это ж намёк. Кидай родителев домок да с глаз вон? Не так ле? – в растерянности спросил сын.
– А то ж как ещё? И чем дальше, тем лучшей. Что вам-то? Кости молодые, руки в крепости. Завербуйся куда и с Богом. С отъездом хула примрё.
Ранней ранью, на самой кочетиной прекличке, Поля и Никита унеслись в Калач к уполномоченному по переселению.
– Сам Днепр! ГЭС строить?
– Не. Не пойдёт, – отмахнул Никита предложение уполномоченного. – Это ж где-то в недальней стороне. Тестюшка чумаковали, так говорили что-то за Днепр. Нам понадальше куда.
– Ну, Ростов. Сельмаш.
– Не. Мимо и Ростов. Это ж такая близь! Слыхал я про Ростов. Нам и слыхом чтоб не слыхали!
– Аллах его ведает, чего вы не слыхали… Не желаете юга – есть набор на север. Ну, Заполярка вот… Заполярушка… Ковда, лесозавод семь… Полгода – ночь… Во козырь какой!.. Не греет?
– А где это?
Уполномоченный – молодые застали его за чисткой на себе уношенного, с блёсткими пузырями на локтях пиджака – ударил щёткой в самый вершок карты во всю стену:
– Тут ваш рай! От Кандалакши крючочек вправо… Натуральный край света! Вот то рядом голубенькое – Белое море. Одна вода и вода. А повыше туда и вода уже чужая, и земли чужие. В году одне сутки! Полгода день! Полгода ночь! Темней неш у волка в желудке!
– По носу нам этот табачок. Работа-то хоть какая?
– Королевская! – хохотнул уполномоченный. – Хватай боле – кидай далее! Какое дело у чернорабочего… Приходит водой лес. Надо разгрузить… Там новое. Распиловка. Распили весь его на нужный ассортимент. А там погрузи уже готовый распиловочник. С работой не соскучишься. Арабить придётся по-чёрному…
– Нам не привыкать… Выписывай литер.
– Так и выписывай! – От удивления уполномоченный хлопнул щёткой по ладони. – Ты хоть утрудись спроси в подробностях, что там да как. Думаешь, мёд? Думаешь, дело стало за большой ложкой? Северюга! Холодищи! На берегу моря завод придётся ещё достраивать. А потом и вкалывать на нём как сто китайцев!. Не ручки с перьями со стола на стол перекладывать. Работёха – чёрная ишачка, работёха египетская… Солнца по полгода не видют. Во льдах примерзает!
– Да не стращай, – повеселел Никита. – Не в грозу коту сметана!
– Я не стращаю, а с литером погожу. Чтоб потом не кляли. Неделю подумайте.
– У нас всё давно обсказано-обкашляно. Неужель будешь год помечать, а два отвечать, утолкавши делу под красное сукно? Не тяни резину, порвёшь. Рисуй давай лучше литер.
– За моим рисунком дело не станет… Мне надо ещё в одной инстанции это ваше дело усогласовать. Думаю, всё промигнётся. Забегайте через неделю.
Но на второй день они снова были у уполномоченного.
– Отпихиваемся мы от Заполярки, – сказал Никита. – Дома в спокое сообща посудили-порядили что к чему… Зачем нам своей волей в такие северные страхи вламываться? Рисуй на Ростов…
– Заходите через неделю.
Но ждать неделю не пришлось.
Через три дня, ночью, двое с винтовками постучали в окно. Им открыли. Те, зевая, велели собираться всем. Взять можно только по жалкому узлику.
– Собираться? – Посреди комнаты Головок раскинул мёртвые руки. – За что?
– Он не знает за что! – помрачнели конвоиры. – Три годяры сибирского лесоповала отсипел ты или твоя кепка?[43]
– Но я отсидел! Своё!
– Вот за то и берём, что уже сидел… Плохо сидел… Ты отсидишь своё, когда поймёшь, чего от тебя надобно. Сидел, сидел полные три годяры, а до мысли вступить в колхоз не досидел. Когда ты дозреешь? Когда в ум въедешь?.. Но у тебя пляшет выбор. Пиши сей менток заявлению о приёме всем двором в колхоз и падай спи даль. Мы и одной твоей блошки не востревожим!
– Я без грамоты живу…
– Так мы за тебя напишем.
– От себя?
– Он ещё зубы мыть! Собирайсь живей. На сборы полчаса!
– Полчаса… Как жа так? Всем родом… Век наживай – и в полчаса всё спокинь?! Дом… Амбар с новиной[44]… Коровы… Лошади… Быки…Мельница… Покидай кому на растаск?
– Не горюй, дед. Власть не даст растащить твоё добро…
– Или она сама его и слопает?.. Так въясните, за что вы нас угребаете посерёдушке чёрной ночи?
– За грубость. Ты власти не груби. Зовёт тебя власть по-хорошему в колхоз – иди смирно. Не кочевряжься. Сейчас побеждает тот, кто проигрывает. Смирись, иди колхозствуй и ты в победе. Хата и всё такое останется при тебе. А не подкоришься… Пять раз по три ещё откукуешь за кружочком,[45] покуда с радостью не влетишь в родной колхоз. Власть терпеливая, власть уждёт…
– Всё это я уже пробега́л… Чего этой власти надо? Какой я в хренах кулак? Бумажный кулак! В колхоз не записался и объявила… обозвала кулаком. Захотела и обозвала… А там захотела и три годищи лесоповала всукала… Все налоги чуть не с переверхом сдавал… У меня в жись не бывало ни одного работника!
– А ехал бы на работниках, на тебе давно б каталась верхи госпожа Колыма… А власть с тобой нянчится, как с малым дитём. Всё ждёт, когда ты подумнеешь.
– Подумнела б сперва она, эта ваша властюра… Чего она ко всем лезет? Я не пошёл в колхоз, я запретил всему семейству вписываться туда… Так и рви меня одного! При чём тут моя больная хозяйка? При чём тут мои сыны Никита, Михаил, Иван? При чём дочка Мария? При чём тут невестка Поля? На конце концов при чём тут годовалый внук Митрей? – дед тронул колыбельку на цепи, накинутой на крюк в потолке. Мальчик проснулся с приходом конвоиров, сторожко таращился на них и теперь, услышав своё имя, бездольно заплакал. – При чём тут парень годовик? Что, не помучивши его, ваша хвалёнка власть рухнет? Что, на детском горе она и дёржится? На детской слезе в советский рай въезжает? Шакалья ваша власть! Шакалья! Даже без суда гоните!
– А зачем суд? Это когда ссылка, суд нужен. А тут высылка… Всего-то… Безо всякого суда! Ты даже голосовать можешь! И все ваши… Хватя, дедушара, аллилуйку за хвост тянуть! Собирайсь и на подводу. Краснуха[46] на запаске уже заждалась…
На их красном вагоне было мелком нацарапано: «Скоропортящийся».
Ни в долгие дни, пока красный состав тащился на север, подолгу отпыхиваясь в тупиках суматошных станций, ни после, в бесконечные заполярные ночи, Никита и словечком не намекнул Поле про её грех. Напротив. В чужедальней стороне он как-то ясно почувствовал виноватым во всём себя. Ну да, говорил себе, оставаясь наедине со своими мыслями, если подумать, так разве её не понять? Она ж честно созналась в первый же день, что любит другого. А любивши да разом с корнем из души – это только у того и получается, кто вовсе не любил, кто только трещал про ту любовь. Разве она что-нибудь скрывала? Врала? И если по старой памяти Горбылёв забрёл на старую стёжку, какой я судья в этом клубке бед сердечных? Отлепись я от неё сразу, она, может, и дохороводилась бы до венца со своим Серёжиком. А раз я сам полез к ней не силком ли, взявши в помогайлы жадину её батечку? Кого теперь винить кроме себя? Досталась гадине виноградная ягода…
Конечно, ягода Поля. Его сжигала жажда поскорей замыть свою вину перед ней. Если в Криуше он раскладывал работы на мужские, на женские и уж не за свою и за золото не брался, – мог и отец подструнить, или ты не казак, что за бабьи хлопоты хватаешься? – то теперь, оказавшись на заполярных высылках, зажили они ладней, согласней, и Никита не различал, где в доме чья работа. Подбегала свободная минута, ломил все подряд. И обед сварит, и пол помоет, и пристернёт что по мелочи, и ночью к ребёнку встанет, покачает… За старушкой матерью шибко не разгуляешься. Часто и тяжело она хворала, ей самой нужна была подмога.
На вторую весну, в мае, нашёлся у них Глеб. Три года спустя, родился и третьяк, Антон. Вот тебе и полное хозяйство в дому.
Может, так бы и примёрзли, прожили б они за Поляркой, не получи однажды письмо от Полиных стариков. Сели читать. В обычае, Поля слушала, по временам просила повторить понравившееся или непонятное место. Непонятных мест было густо, потому что и из Никиты был чтец никудышный. На двоих один класс путём не кончили. Отходил Никитка в первый до Николы, отец и скажи, хватит попусту жечь монастыри (протирать штаны), и этого довольно за глазоньки. Читал Никиша по слогам. Длинное слово бралось с отдыхом посередине. Пока одолевал он конец, Поля порой умудрялась забыть начало. Разгадывалось всё сначала. Сам Никиша, еле-еле разбирая руку Анюты, Полиной товарки, сестры Сергея, – писала старикам под диктовку и читала ответы – трудно вникал в соль письма. Почти вся его энергия уходила на прочтение, на выкрикивание раскрытых с превеликим усердием слов. Казалось, Анюта в зло писала так, что сам архиерей не поймёт. Даже Поля деловито пускала глаза в листок, манило помочь мужу.
Весь вечер забирало письмо. Прочитав его раза три, Никита выучивал его чуть ли не наизусть. И если потом Поля спрашивала про что-нибудь из письма, он не лез в конверт, куда складывали все собачанские и криушанские грамотки, по памяти говорил интересное ей место.
Обыкновенно, получение и чтение письма превращалось в маленький семейный праздник. Как-никак вестонька с Родины. Из ДОМУ!
В противовес прежним эта читка вышла какой-то невесёлой, смятой.
Никита невпопадку повторял не ясные Поле места, проглатывал целые слова, не то что окончания, всё спешил отпихнуть письмо в сторону. Поля уже привыкла к Анютиной руке, знала, что та всегда кончала одной и той же привеской «Писала Анюта» и тут же ставила дату. На этот раз ниже даты курчавились ещё строчки. Совсем другая рука. Чёткая, уверенная, смелая, сильная. Полю заподкусывало разведать, что ж то за слова, кто писал. И чем ближе подбирался к той пришлёпке Никита, тем всё заботливей, всё просительней заглядывала она ему в глаза.
– «Писала Анюта. 15 мая». И всё… – Никита воткнул письмо в конверт.
– На этом всё?
– Добавки не прислали.
– А под Анютой, под числом что подлеплено? И сбоку ещё что-то, на поле, поперёк? Рука совсем свежая. Другая.
– Руки все одинаковые. Непонятные.
– А ты всёжки своими словами скажи, шо там.
– Да ничего стоящего. Про порядок в танковых частях… «У нас всё в порядке». Очень интересно?'
Чисто бабьим чутьем уловила она, что бухнул он то, чего не было.
Бухнул и заалел. Враньё ему не давалось.
– Ты сказал три словка, а там вроде до паралика было накидано!
– Растянуть, размазать можно и одно слово на весь лист. Не веришь, так читай сама! – Он угрюмо подтолкнул к ней по столу письмо и вышел.
Поле стало не по себе. Он что-то скрывал от неё? Что именно? Наутро ей пришла мысль показать приписку одной своей письмённой товарке. Едва Никита ушёл к себе на распиловку в лесопильный цех – обычно он уходил первым, по пути заводил Митю в детский сад, – кинулась она к конверту. Вчерашнего письма не было.
«Старые письма годами целёхоньки, знай себе пыль копят, а это в мент исчезло? Да что в нём такое было? Тут какая каверза да и буянит!»
Чутьё не обманывало Полю.
Ни звука не сказала про пропавшее письмо. Под сурдинку наладилась ждать, как оно всё покатится. Заприметила, стал её благоверушка какой-то рассеянный, всё больше молчит. В лице толклись досада, недоумение. Казалось, недоумевал он только потому, что таил от жены что-то такое, что никак не мог ей сказать, и это вынужденное молчание угнетало его, било.
А в конце нового письма была эта большая приписка, которую Никита не своей волей скрывал от жены.
Никиша, сынок, – сообщал милый тестюшка, – тольке на той неделе отписал под диктантий вам свою писульку, а уже соскучилси, как малое дитё. Наехали мы сегодня с хозяйкой на секунд к вам в Новую Криушу. Постояли на вашем меловом бугре, на милой вашей Лысой горушке, посмотрели на вашу усадьбушку и всё в нас заплакало… Спускаться к соседям вашим побоялись – ещё неизвестно, что потом бы связали… Сынок, где усадьба ваша жила – теперь голая ладоша… Дом ваш взял себе колхоз под правлению. Землюшка ваша при доме брошенная плачет. Обижают её осот, лебеда, лопух, незабудь, калачик… Я писал уже, скот ваш колхоз прибрал. Колхоз прозвание имеет «Безбожник». Ох, «Безбожник», он и есть безбожник.
По обычаю, писала вам письма под мой диктантий Анюта. Написала она и это письмо. Я его не отправил сразу. Отложил. Сегодня у меня писарчук надёженец, я и говорю, чего б не сказал при Анюте. Она писала, писала, много пустого места осталось. Не пропадать же, я и диктую ещё. Ты это Полюшке не читай пока.
Не соли лишний раз душу… Добежали до нас окольные слухи, нету Горбыля в Калаче. Перебросили не то в Нижнедевицк, не то в Лиски, не то за Лиски. Можа, возвернулись бы к нам? Мы с хозяйкой истаяли, как воск. Ишшо не таять! Нам же в субботу будет по сто лет. На том свете семеро колёс объездили, никак не сыщут нас, а мы-то ещё на этом свете. Я совсем слабкий… Кабы человек, а то хуже нашего старого кота. Старость, сынок, не младость, не красные дни. Поджалели б нас, возвернулись. А Полюшка не захочет, не сымайтесь с места. Было б вам хорошо, а нам и Боженька подхорошит…
Вчера полез на печь, подул ветер навстречь. И надул мне в уши… Что вы вцепились в тот север, как грешник в праведника? Грешника ещё поймёшь. В рай за компанию разлетелся пролизнуть. А вот вас я не понимаю. Что вы, каторжанцы, убёгли в холод? На север по тюрьмам засылают, а вы своей волькой туда вскочили! Скажете, как же это своей волькой, раз нас под ружьём на спецпоселенку… на те чёртовы выселки везли?! Смехота куриная эти ваши выселки! Вы б наших покушали, хоть нас никто никуда не выселял! Время какое отбежало, и только теперь видишь, что все мы на выселках. Только вас кудай-то вывезли, а нам наши выселки подали дома, до-ома… Вот так я сверяю и вижу, что ваши выселки слаще. Вы не стали вступать в колхозий-бесхозий и правильно сделали. Вас и повезли нашармака мир показать. А так бы, на свои кровнушки, куда б вы поехали и когда? А то везли с каким почетищем! Под прожекторами! Под охраной! В сталинских красных вагонишках! Как царей! Никто чужой не подойди! А поедь сами… Доро́гой ещё какие бандюры и приплантовались бы… А так… Подходи! Пулемёт на вагонной площадушке ждёт-с!.. Вы там свои часики отгрохали на лесозаводе и вы в свободе. А мы у себя дома? В колхоз столкали, как щенят слепых в отхожую яму покидали. Цвети и пахни, Владимирушка! До последнего обобрали. Всю живь, всё зерно под метёлку выдрали… Вы по часам отбываете свой завод. А мы горбатимся с ночи до ночи. А за что? За палочки-стукалочки! Палочек тебе можно с миллионий нарисовать. Только на них и мешка зерна не дадут за год. Что с огорода у хаты сгребёшь, то и твоё… Ни выходных, ни проходных… Беспросветь вечная. Так чем ваши выселки не лучше наших? Охо-хо… Прежде, до коммунизмии, мы жили не тужили; теперь живём – не плачем, так ревём! «Оглушены трудом и водкой В коммунистической стране, Мы остаёмся за решёткой На той и этой стороне». Ну разве неправду сказал дядько поэт?
В Криушу вам не к чему возвертаться. И в Собацком вам делать нечего. А что позвал, так это так, от дури старческой. Ну чего вам, молодым, тонуть вместе с нами в нашей общей отхожей яме? Можа, перемахнёте в тепло в Казахстаний? Бабка Олена уже тамочки коптит свои косточки. Дед её Борохван примёр, угорел на службе. Пошёл сторожить, уснул в певчей и позабыл проснуться. Горе какое… Детишков у них не было. Олёнушка-свахонька и съедь к замужней приёмной дочке-выселенке куда-то в Казахстаний. Видишь, дочка – выселенка, Олена – вольная, а живут под одной крышой. Навприконец Вы тоже выселенчуки. Начальство ваше разве не отпустит? Какая разница, где жить на высылках в Заполярье или в азиатском тепле. Так у вас козырь какой. Трояшка детишков! Всё про Олену, генералиху над дочкиными детьми, знает мой новый писарчук, в новом письме он даст точный ихний адрест. Спишись, уведай всё до точности. Понаравится, можа, и скакнёте на теплышко. Внучка́м там было б ладно. Поле и про Казахстаний не читай. Чего допрежде время болты болтать? Уведай, расспроси письмом всё хорошенько. Устроит вас всё, тогда и пой. А так не баламуть бабу в пустой след. Не пристало мужику ходить в болтунцах…
Криуша отпала сразу. Ну с какими глазами ехать домой? Все ж травинки знают, от какого сраму убегали. И на́, явились, как красны солнышки… Не станут ли Горбылём стебать по глазам? В сторону и Казахстан. Что мы там забыли?
Но примерно через месяц пришло новое письмо от Полиных стариков с припиской поперёк. На полях. Снова была рука не Анюты, а надёжного писарчука. Не читая вслух адрес-приписку, Никита мрачно отбубнил письмо, тут же его сжёг и тайком от Поли каракулисто настрогал бабе Олене целых полтетрадки. И как только отнёс бегом на почту, стало легко, ясно на душе, будто уже получил ответ и было в ответе всё как хотелось.
Не удержал себя. Однажды невзначай возьми и ахни под настроение:
– А чего б нам да не увеяться куда отсюда? Лично у меня один глаз на Кавказ, а другой на тёплые воды!
– Кавказ? – удивилась Поля. – Зачем?
– И правда, зачем? – Он спутал Казахстан с Кавказом. Подумал и не стал ничего уточнять. Весело подпустил: – Ну как зачем? У нас три женишка. Что им в промозглой ночи преть, в вечной темноте в этой? По полгода без солнца!
– Зато полгода и ночью сонце! – возразила Поля. – Сплять при сонци.
Было в доводе Никиты что-то дельное. Тогда чего он о солнце молчал раньше? Солнца не было и раньше по полгода, хотя ребята и были.
Между тем разговоры эти вылезали все чаще. С ними свыклись. Склонилась к переезду и Поля, и вопрос всего стоял в том, куда ехать.
– Непременно в тёплую сторону. На солнце! Мы живём для ребят. Ихнее здоровье – наша главная забота.
Поля не возражала. Однако север ей нравился. «Обживёшься – думала она, – и в аду рай…» Здесь обрела она равнинный, душевный покой. Здесь пережила полную радость материнства. Здесь наконец ей нравились и завод, и люди, и посёлочек, покрытый весь досками, где никто не видел на улице ни земли, ни асфальта. А доски, доски, доски одни кругом. В досках тротуары, в досках улицы…
Никита с Полей пришли по обычаю отметиться – отмечались они в комендатуре дважды в месяц, – а отмечальщик, кротоватый, заплывший ленью и жиром коротенький старик, и скажи:
– Пятачок ваш истаял… Что думаете?
– Откуда взяли, туда надо и возвернуть, – сказал Никита.
– В Новую Криушу?
– А хотя бы…
– Для Новой вы умерли навсегда! Ниоткуда ни с кем из Новой никакой переписки! Даже в гости туда на минутку нельзя! Ни-ког-да! Нарушите наш закон – схлопочете лагерей!
– Но мы отбыли своё!
– Своё вы отбудете, когда… – он сложил руки на груди и полусонно всхрюкнул. – Не забывайтесь, граждане ссыльнопоселенцы. Ссылка вам продлевается ещё на пять лет. А там продлят ещё… Песенка эта из рода вечных-бесконечных… И чтоб не было соблазнов…
Комендант положил перед ними по листочку с каким-то текстом.
– Расписывайтесь.
Никита насупился, дёрнул носом и чиркнул свою завитушку. Вспотев, Поля поставила крестик.
– Вы расписались за то, что обязуетесь хранить тайны до могилы. Первая тайна та, что вы были раскулачены. Ни-ко-му ни слова, ни звучика. Даже родным детям. Даже через сто лет! С нового места высылки никуда ни на шаг. Наш незасыпный глаз вас видит всегда и везде… Побег с высылки – строгая камера хранения![47] Вы предупреждены. Думайте, включайте мозги. Ваши головы пока с вами…
– Мы бы хотели уехать к знакомой в Казахстанец, – сказал Никита. – Тепло… малые парни…
– Хорошо, что сказали. Никаких знакомых! Казахстана вам не видать. Поедете, куда там, – он поднял указательный палец – велено. Заботливая власть об вас уже подумала. У вас трое малых детей. Надо вам в тёплую сторону. Добруша Софья Власьевна по-матерински узаботилась об вас и выписала вам литер в кавказский край-рай…В Насакирали… В тот совхоз свозят лишь завербованных да ссыльнопоселенцев… Работать надо невпритвор, это вы можете… доказали… Работа на отпад… не замёрзнете… Молодые, честные трудари… Понравится… И главное – южная местность…
И комендант, белобрысая чухонь, так расписал грузинский малярийный совхоз «Насакиральский», что молодые приняли его за рай. Ну как же не рай, раз тёплышко, шапок покупать не надо! Вокруг леса. В лесах всякой ягоды на полный год под самое «благодарю покорно» наберёшь. И потом, богатые валят деньжищи, если на солнце всё поглядывать[48] не будешь. Но разве привыкать волу к ярму? Работы Никита с Полей не боятся. Не из пужливых.
Совхозишко лет с пяток как завязался. На холмах сводят кустарники, по низам сушат болотину. Расселяют чаёк, мандарины, тунги.
С марта по глухую осень мужики в одних рубашечках. На Октябрьскую девчошки без головы[49] в платьишках в летних картинничают. Такой только перушко в ягодку вложи да на ветер пусти, она и полетит. В феврале фиалки цветут! А снежок ежель и падёт ночью, к полудню испарился. И вообще снег там в праздник, солнце за обычай. Иначе разве б купались по полгода в Скурдумке, в Супсе? Эти речки омывают совхозные закрайки. А ж-жалаешь, можно на море дёрнуть. На Чёрное. Близко! В каком получасе на поезде. Но зачем поездом? Бывает, по воскресеньям совхоз катает на своих машинах. Купайся на халявушку до утопа!
И через всю страну посунулись молодые северяне в слезах с Белого моря на Чёрное. Стариков-то, стариков от них оторвали и одних воткнули в Сибирь… Без права переписки….
Только-только вросли Долговы в малярийную грузинскую гниль, ан разлилась война.







