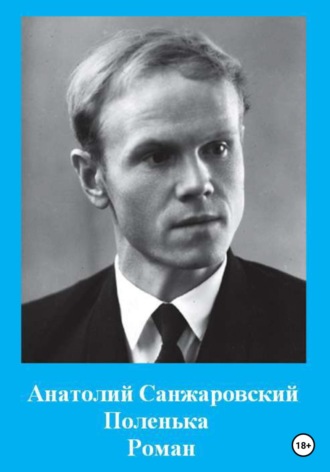
Анатолий Никифорович Санжаровский
Поленька
12
Все творенья в божьем мире
Так прекрасны, хороши!
Но прекрасней человека
Ничего нет на земли!
Поля не знала привычку провожать ребят в детсад. Собрать соберёт, выпроводит с крылечка, накажет Глебке:
– Ты большенький. Гляди там за Антоном, не бедокурил чтоб. Поберитесь за руки та идить с Богом, хлопцы.
Говорила Поля мягко, уважительно. Знала Глебкин нрав. Скажи что не так, не по нему, кольни только самолюбие – первые слова упрямика:
– Не хочу! Не пойду!
И не пойдёт, и не сделает, хоть в лепёшку перед ним разлейся.
Зато когда гордыня не потревожена, не пощипана, доверие греет его. По праву персональной няньки берёт он братчика крепко за руку и вышагивает так широко, что меньшак бежит за ним полубоком.
Поля постоит посмотрит вослед, вздохнёт да и втащится назад в комнату.
Теперь её нет дома. Однако в утренних сборах ничего не изменилось. Может, набавилось чуть детской деловитости, взрослости. Собирать меньшего никто за Глеба не станет, это он делает сам, делает старательно, внешне иногда грубовато. Но это показная грубость. Не липнуть же к брату в открытую, как смола от кедра. Засмеют ещё.
Вот подгоняемый Митрофаном застегивает он на Антоне красную рубашку. Ворот тесный, с верхней пуговицей никакого сладу. Ни под каким мармеладом не сходятся пуговичка с петелькой. Кое-как наконец свёл их рядом. Норовистая пуговица упрямится, не гнётся, не ныряет в петельку, точно в обиде смертельной на неё.
Глебка досадно морщится, припадает перед братцем на одно колено. Снова ладится застегнуть, снова ничего не выходит.
– Ты б на ушко шепнул, братушка, где это ты так раскушался. Я б тоже туда слетал на подкорм.
Антоха рога в пол. Насупился, косится.
– Один глаз на нас, – раззадоривает Глебша, – а другой на Арзамас! Не согласный? Чего молчишь?.. Ну, молчи, молчи. За умненького сойдёшь. Это ты от воздуха распух. Выдохни поглубжей и не дыши. Шея сразу стоньшает, тогда и застебну.
Антон делает наоборот. Собранно, длинно вдыхает, жертвенно поднимает глаза к потолку. Глеб влюбовинку смотрит на него, улыбается. Ему нравится брат, он любит брата.
Антон не выше велосипедного колеса, клоп пока. Белое полное лицо щедро закидано веснушками. Податлив, неустойчив нос перед солнцем, как исключение перед правилом, и, естественно, по весне являл скандальное поползновение к шелушению. По его облезлому носу мама в шутку определяла приход жары:
– А Антонка принёс нам новостёху. Набежало лето!
Его округлая большая голова со старательно оттопыренными ушами горела рыжим пламешком коротких густых волос. В ясных, в светлых глазах лучилась чистота.
– Ну, можно мне дыхнуть?
Что Антон спросил именно это, Глеб догадался скорее по губам, настолько глухо это было сказано.
– Да мне что, дыши. Воздух бесплатный. А потом, сикось-накось, я уже застегнул.
Они выходят из дому. Антоня останавливается. Не двигаясь с места, пробует пошире сделать первый же шаг. Одна нога плавно уползает вперёд, другая назад, и он, пухлявый весь, толстенький, как тыква, в шпагате садится на землю.
– Ты чего расселся, как на именинах? – в нетерпении подпирает Глеб. – Ты не уснула, бабушка?
Со спины Антон и впрямь похож на маленькую бабушку. Ветхое пальтецо из байкового одеяла совсем скрывало ноги. Вдобавок он сутулился, это делало его фигуру ещё больше похожей на старушеньку. Вместо шапки или фуражки, этих величественных отличительных знаков мужчин, Антон с наполеоновским упрямством[56] носил повязанный хаткой скандальный белый платок. По платкам мальчик обмирал. Однажды ему купили фуражку. Однако на площадку, в сад, он всё же пришёл в платке, а в руке нёс фуражку. Через неделю покаянно пролепетал:
– Я стерял фуражку.
– Где, Потеряшкин? Айдатеньки искать.
– Она уже далеко.
– Она у тебя ходит?
– Плавает… Большие ребята ловили в неё раков, положили на берегу…
– И что?
– Раки уговорились убежать. Столкнули фуражку в воду. А чтоб не утонуть – плавать раки не умели, – сели в фуражку и поплыли.
После столь сомнительного происшествия – на поверку, всё выскочило куда проще, мальчик просто забросил ненавистную фуражку в реку – Поля не стала покупать парню фуражки, и часто-густо, взяв себе платок, повязывала им сына, а сама бегала в старом.
Восседать с разодранными ногами неспособно. Подхватил, втянул под себя Антон одну ногу, встал, капризно хлопнув брата по руке, протянутой в помощь.
– Этот шаг не считается. Сначала! Я буду идти широко-широко. Как ты!
Снова ладит сделать порядочный шаг, снова ноги разъезжаются, снова шпагат.
– Пряник, кончай ломаться! Опоздаем на завтрик!
Напоминание про завтрак производит на Антона слабое впечатление. Он кисло переваливается с ноги на ногу. Глебка на бегу ловит братца за руку, в спехе тянет, и тот боком семенит за ним, откусывает тропку частыми-часты-ми шажками. Нежданно Антон ужимает ладошку трубочкой, выдёргивает из цепких сердитых пальцев, бдительность которых была усыплена внешней, притворной покорностью маленького лукавца.
– Ты не ходи за мной! – отскакивает Антон в сторонку.
– Почему?
– Кочерыжкой по кочану! Не ходи и всё. Я только нарисую след.
На ходу Антон снимает с ноги чуню вместе с носком. Босой ногой сторожко ступает в прохладу пыли на краю дороги, где её, пыли, всегда больше, чем на самой проезжине. След на обочинке живёт дольше, первая же машина не уметёт, не поломает его. Мальчик оглядывается, убеждается, что след спечатан чёткий, глазастый, довольно обувается.
– А чем тебе следы чуней не угодили? Легковушные ж следы!
– Так то неживые следы. Мертвячие.
За завтраком Антошик постреливал глазёнками в открытое окно за ряд ёлок, на дорогу, что пробегала у самого сада, прислушивался, переставал жевать, навязывая короткую безработицу всесокрушающим челюстям. Не идёт ли откуда машина? Не везёт ли беду?
Но вот мимо простонала на ухабах полуторка. Мальчик больше не едок. Высматривает, где там тётя Мотя Пенкина, воспитательша. Ага, собирает пустые тарелки и тихонько ужимает левый уголок рта. Она всегда стесняется своей сшитой на фронте нижней губы и старается, чтоб шов не так был виден. Сейчас тётя Мотя понесёт тарелки на кухню. Сто́ит той выйти, как он вышныривает из-за стола и во весь дух к своему следику.
Антоша лучезарно рад, увидев, что машина взяла правей, и он благодарно думает о шофёре. Вот заметил его следок, объехал, не смёл, поджалел чужой труд.
Зорче всматриваясь в след, подмечает, что он немного потускнел. Села свежая пыль от пробежавшей машины. Так след можно подновить, починить! Он раздевает одну ногу, торжествующе опускает её на старый след. Вот и всё в порядке!
Назад он скачет на одной ножке, скачет до самого сада.
На недоуменные взгляды воспитательницы ребятня радостно выкрикивает:
– А он живой! А он живой! А он весь живой!
Но через минуту-другую мальчика снова начинают подкусывать мысли про злые машины. С опаской косится он на окно, и как только проходит машина, в панике летит к следу. Возвращается разбитый. Плечишки опали, голова вниз. Не подымая глаз, находит Глеба за столиком – деловито изучал картинки. Лицом уткнулся ему в спину и заплакал.
– Ты что? Молчок, сверчок!
– Да-а, молчок… Машина след убила…
В слезах его столько горя, точно в самом деле лихая сила разрушила всё, что создал человек за всю жизнь, уничтожила всё, что составило его след в жизни. И разве так уж смешны его слёзы? Разве дорога к следу в жизни не может пойти со следа на пыли? Три года это тоже жизнь, у неё свой след. У всякого времени свои удачи, свои потери. Найти бы, кто отомстил бы обидчику. Антон понимает, какой брат ни самый старший в саду среди ребятни, какой ни сильный, а обидчика на вольной неизвестной машине уже никому не догнать. Сознание этого бессилия валит мальчика в ещё большее горе, он плачет ещё кручинней.
– Слышь… ну… хватит… А то я уже плыву, – жалеючи шепчет Глебка. – Не то обоих унесёт рекой от твоих слезов.
Мальчика не манит новая беда, он потихоньку замолкает.
Вошла воспитательница с маленьким ведёрком.
Глебка дёрнулся навстречу, взял ведёрко.
– А я разбежалась вклеить тебе выговорешник. Думаю, неужели наш Глебулеску на речах, как на органе, а на деле,
как на балалайке? В садике ж ни водиночки! Забыл сегодня про свои обязанности?
– Забыл, – краснеет Глеб. – Но я, тёть Моть, натаскаю. Я побежал.
Дразняще нагромыхивая ведёрком – слушай, мелкота! – Глебша пулей вылетает во двор и по двору вышагивает не спеша, обстоятельно. Знает, вся детворня подсыпалась к окнам, завистливо таращится. Вота счастливчик! Вота вольный казак! Куда левая нога захотела, туда и повела. А ты до самой ночи парься в саду!
Их горячие взгляды Глеб чувствует спиной и идёт вовсе не куда вздумается, а строго к роднику за дорогой и до обеда, подплывая по́том, таскает на кухню воду. Самый старший в саду, самый сильный, он сам напросился в помощники к поварихе, хиловатой, сухой, хоть в щель пролезть. Мелкокалиберного была замеса. Наносит ей на полный день, она не знает, как и благодарить. Поцелует, заслезится:
– На цельнай потопище водицы доспело. Вут спасибушка, сы́нка… Вут спасибушка…
И за обедом обязательно поставит перед ним алюминиевую мисочку попросторней.
Оставшись без брата один, Антон не примыкает ни к мальчишкам, ни к девчонкам. Он долго сидит один в углу, по-завхозовски строго перебирает игрушки. Поломанные налево, хорошие направо.
Как-то всё грустно вышло. Все игрушки оказались в левой кучке.
Может, все-таки пойти к девчонкам? К девчонкам его тянет, но с ними ему совестно. Набирается храбрости, идёт к ним в комнату, незаметно утягивается в дремлющий затенённый уголок, где его почти никто не видит из-за кроватки, а он видит всех.
Старшие девчонки с бамбуковыми спицами, учатся вязать. Стальных спиц нет, а бамбук вот он вот, за овражком. Нарежь, обчахни какой прутик, вот тебе спица. И спицы у девчонок настоящие, и нитки настоящие, и вяжут они вместе с тётей Мотей настоящие варежки, носки на фронт. Совсем рядом, по тот бок Кавкасиони, горела война. Адрес её был близкий. На Марухском перевале, под Моздоком, по всему Кавказскому хребту воевали их отцы, братья. А в горах с вечными снегами очень холодно.
Младшие в саду были вольношаталики. Ничего полезного не делали, только ели, спали, играли, а то и просто не знали, чем ещё заняться со скуки. Такое про Антона не скажешь. Из своего сумрака он жёстко, немо пялился на девчонок. Они хотели, чтоб он всегда был под рукой не потому лишь, что так преданно и в солидарность с ними носил косынку. Дело не в косынке, что само по себе и лестно девчонишкам, вся соль в его рыцарском покровительстве.
Одна половина сада имела необъяснимое желание носить косы. Другую сжигала неодолимая страсть дёргать за те косишки и вообще по прочим иным мотивам она врезалась в конфликты с прекрасной половиной детского сада. Хорошки нуждались в надёжных, в могучих заступниках, на ниве коих и подвизался наш юный геройка.
Думаете, в комнату к хорошкам его вело пустое, праздное лицезрение?
Вот он вошёл.
Девочки зацвели и ни одна не подбежала к нему. Это значило, сегодня ни одна не обижена. А будь обижена, непременно подошла б, взяла его за руку, и он, ничего не спрашивая, шёл бы за нею, пока дорога не упёрлась бы в плутишку, который разобидел. Показав на него, девочка вежливо чуть отходила, а Антон чувствительно шлёпал того по руке. Он считал, рука – зло. Люди дерутся руками, потому бил только по руке. Не протягивай! Бил всего разок, расплата укладывалась в одно касание. Ударив, с чувством свято исполненного долга поворачивался и уже он гордо вёл девчошку до того места, где она пихнулась к нему за защитой.
Случалось, нарывистый драчунелла давал сдачу. Тогда Антон со слезами тащил её, сдачу, и виновницу сдачи к Глебу. Тот без слов понимал всё. В бой теперь вступала тяжёлая артиллерия. Петушок сполна получал за наработанное, поскольку, как уже сказано, из детворы сильнее Глеба никого не было в саду.
Нынче весь день горе. До обеда Антон просидел пенёчком в углу, горестный, панихидный. Машина раздавила след…
Борщ да каша подживили его. Без спросу увеялся гонять ржавый обруч с бочкина живота. Подвывая тяжело нагруженной машиной, поталкивал перед собой обруч, излетал весь район. Наконец упрел от беготни, спрятал обруч в чайные кусты.
Надо бы уже назад, в сад, – нелёгкая возносит его на ёлку, на саму вершинку. Глянул вниз – крýгом пошла голова, разнимаются пальцы.
Мальчик зажмурился, инстинктивно крепче обнял потеплевшее на солнце тело ствола. Затаился.
Он боится открывать глаза. Всё кажется, открой, тут же и рухнешь мешком. Он делает усилие над собой, капелечку разжимает один глаз, второй. Велит себе не пялиться вниз. Да и зачем вниз? Разве лез он любоваться отсюда землёй у ёлки?
Он нетвёрдо отводит взор в сторону. На дорогу. По этой дороге мама ушла с Машей в больницу. Мальчик ненастно впивается в белёсый каменистый проселок. Забираясь на ёлку, Антоня думал, что первый увидит, как она идёт из больницы. Каждый же день переказывала с Митькой, что вота-вот придёт. Да всё не шла. А если она нас бросила? Мальчик засопел в обиде, слёзы белыми стрелами посыпались вниз.
Его поведение, его слёзы вбивали в тупик всякий зрелый ум. Ключа к нему близкие не могли доискаться, списывали все его странности на счёт детского возраста. Вырастет, авось, пройдёт. А между тем до той поры, когда вырастет, далеко. Что сейчас с ним происходит? Что сейчас в нём варится? Может, что-то прояснит его дорожка из вчера, по которой он прибежал в сегодня? Хотя он сам или кто другой разве скажет, где и как именно начиналась та дорожка, по которой он в свои три сентября дотащился до себя вот уже до такого запутанного? По натуре он совершенно одинок. Мира, гама не выносит. Он мальчик из угла. Растёт в углу; его душа живёт лишь в безмолвных, в подёрнутых тенью углах то ли дома, то ли сарая, то ли чердака или в дремучих зарослях бурьяна, кустарника…
На ветру тихо покачивается тонкая вершинка ёлки. Вместе с нею отрешённо покачивается и Антошка. Не закаменел ли он со стёжками слёз на щеках?
Крутятся в голове шестерёнки-винтики, выкручивают такое, что мальчику уже не по себе. Забыто, что сам ушёл от людей. Ему мерещится, будто все его отвергли, будто решительно всё от него отвернулось.
Призрачные мучители корчат гримасы, бросают колкости. Он слышит лихостные ябедные голоса, видит скорченные рожи, чувствует, как его бьют. Сыплются болькие удары, мелькают одни огромные, как привидения, руки, а за руками ни лиц, ни фигур. Он ужимается в комок, ревёт навскрик.
Выплакавшись в одиночестве, он смуро побрёл домой.
Дверь на замок не закрывалась, припнута ольховой рогулькой. С кирпичины, поставленной попиком, легко дотянулся до палочки, вытолкнул снизу.
Закипал вечер. Уютный полумрак селился по углам. Мальчик тихонько прошёл к табуретке в углу; как воробейка, присел на край. И даже дома, среди привычных немых вещей, держался он в сторонке, словно боялся их, робел мозолить им глаза.
Три козлёнка, не признававшие его, как вытянутые нити, то белые, то чёрные, то серые, призраками летали друг за дружкой с табурета на койку, с койки на скрыню, со скрыни на стол, со стола на подоконник. А оттуда уже скакать некуда и прыг назад на пол. Снова праздничные скачки по полу. Какие вихри носили их? Откуда эта грациозность в прыжках? В чём суть их игры?
Мальчик поймал себя на том, что улыбается.
Кажется, по-своему расценил эту улыбку Борька и, недолго думая, весело махнул мальчику, сутуло сидевшему на табурете, прямо на плечи. Удержался на шее, панически свесил тоненькие ножки Антону на грудь.
Мальчик угнул голову, стряхнул козлёнка на готовно вытянутые руки.
– Признавайся, разбойник, ты внарошке уронился на меня? Или по нечайке? Заигрался?.. А если я накажу?
Борька просительно заблеял.
– И не хнычь… – Антон заслышал через рубаху ласковое тепло его тельца, зашептал умоляюще: – А можно, Борик, я на те поиграю? Побудешь гармонюшкой?
Борька тревожно молчал. Мальчик благодарно прижался к нему и, подыгрывая себе языком, принялся старательно нажимать на клавиши, на тёплые рёбрышки. Борька не пушинка, изрядно тянул книзу, почти весь выкатился из рук, низко провис животом. Антошка едва держал его за горло и за заднюю ногу.
Перехватило дыхание. Борька захрипел, укатывая чистые глаза.
Мальчик испугался, выпустил.
Оказавшись на желанной свободе, Борька возгорелся бороться за неё до смерти, и когда мальчик погнался за ним, яростно взмыл на сундук, с сундука на стол. А дальше? Снова на пол, в горькие руки? Не-ет!.. Борька храбро кинулся в незанавешенное окно.
Лопнул холодный звон стекла, Борька вывалился на улицу. На счастье, в мазанке окно было низкое, всё обошлось. Очутившись на земле, Борька с мгновение чокнуто стоял, как бы стараясь сообразить, что же произошло. Но тут всполошённо позвала Серка. Обрадовавшись, он метнулся навстречу к перепуганной матери. Она бежала из леса впереди стада и видела, как он падал из окна.
Заслышав маятное блеяние своей мамушки, высыпались в окно за компанию и близнюки, сразу к своей мамке-кормилке; ликующе повиливая хвостами, налетели сосать с коленок.
Антон выскочил на крыльцо и обмер. Молоко, которое бы он ел, уходило в ненажорные глотки. Подбежать отнять козлят? Боязко… Ещё козушки на рожках понянчат. Ему ничего не оставалось, как зареветь в надежде, что на его слёзы кто-нибудь да явится и прекратит это ералашное безобразие.
Никого из соседей не было рядом, и мальчик, глядя, как козлята урча, взахлёб дохлопывали последнее молоко, очумело скулил.
– Ты чего? – вдруг спросил из вечернего сумрака Митрофан. Митрофан брёл из школы. По пути насобирал в придорожных посадках елового сушняка, и сушняк вязанкой-горушкой дыбился у брата на спине. – Или у нас дома несчастье – таракан с печки свалился?
Антону было не до шуток. С пятого на десятое отмолотил про разбитое стекло, про коварство козлят.
– Они высосали всё! Я остался без монюшки. А я хочу!
– Хотеть можно бесплатно. Нечего было лопоушить! Нечего было мотать Борьку! Вот тебе за это отплата. И правильно сделали. Покукуешь вечерок без молочка.
– Ка-ак правильно? Я хочу!
– А где я тебе возьму? Выпляшу, что ли? Жди теперь, синьор Подсолнух, до утра. Не помрёшь?
– Была б охота!
– Ну и молодцом. А по монькиной части не горюй. Нету моньки – смотри красивую книжку!
Митя сбросил вязанку, подал из полотнянки сумки нарядную книжицу. Сдержал слово, принёс!
Митя сбегал за огнём к Батломе, зажёг коптушок.
Выбившись из сил, Митя волоком потащил вязанку к сараю, стал рубить сушняк. А тем временем Антон заткнул низ высаженного окна подухой. Подсел к коптушку с книжкой.
Книжка была очаровалка. Мальчик в нетерпении подтолкнул коптушок к самым глазам, ещё ниже припал к книжке, почти лёг на стол.
Крошечное, болезненно-чахоточное пламя, хило выбегавшее по ватному жгуту с потрескиванием из пузырька на полноготка, зарадовалось, увидев, как над ним свесился угол косынки. Пламешко озоровато качнулось, будто разогналось, вытянулось, подпрыгнуло. До косынки не доплеснулось. С досады упало, сжавшись гармошкой, уменьшившись вдвое, однако вдвое и потолстев. С минуту оно завистливо косилось на косынку, точно кумекало, как её достать. Сил подпрыгнуть повыше не было ни граммочки. Оно пошатывалось, словно молило про себя, чтоб подбросил его ветерок, и тут Борька, лучезарно взлетевший с лавки на стол, приплавил упругий вихрь. Вихрь дуря подкинул пламя, оно успело ухватиться за край косынки. Сам вихрь сразу же отлетел вместе с Борькой, вознеся того уже на тумбочку.
Косынка загорелась. Мальчик не понял, откуда это огонь, да ему и не до выяснений было за интересной книжкой. Он повеселел, что стало светлей, ярче. Теперь куда лучше рассмотришь картинки. В новое мгновение он почувствовал, как огонь жжёт в правый висок, послышал, как навспех затрещали на нём волосы.
С диким воплем стриганул он на крыльцо. Всё окрест осветилось живым факелом, и Аниса – шла с тяжёлым ведром от родника – в ужасе выронила ведро. Ведро кувыркнулось, вода с сердитым змеиным шипением побежала впереди неё.
– А-а, Господи! – со стоном кинулась Аниса к мальчику.
Она не знала, как поступить. Бездумно сдёрнула с себя фартук и ну размахивать, ладясь сшибить ветром пламя. Но оно ещё злей подымалось шапкой. Тогда Аниса ударила растопыренной пятернёй по пламени. Оно осклабилось, село. В следующий миг косынка корчилась в огне уже на полу, Аниса зверовато топтала её ногами.
– А малахольный ты мужилка! Вот божье наказанье! Ты ж дом мог спалить! Ты про то подумал, глупендяй? – укорно ткнула она его двумя пальцами в лоб, и под вскрик мальчика это её прикосновение навсегда впечаталось над правой бровью. Впрочем, отметина её легла, может, и раньше, когда угарно хватила всей пятернёй по горящей на голове косынке.
– Ох! Что ж я, чумородина, делаю? Тутоньки посгорело всё! До корня! – Она горько сморщилась, всматриваясь в лоб.
Из жалости к себе мальчик залился навзрёв.
Аниса внесла его в комнату, усадила на лавку. В спешке стала жевать жареные кабачковые семечки, что остались у неё со вчера.
– Сожжено не огнём, а золою. Золою… – ласково уверяла. Подула над бровью, приложила прямо изо рта кашицу. Повязала полотенечком, добавила заговорщически: – Где был огонь, будь песок, будь песок…
Вошёл Митя с охапкой нарубленных дров.
– Ты чего, – спрашивает Антона, – весь перевязанный, как битый немой?[57]
Антон не говорил за слезами. Аниса сама рассказала, как задавила пожар. Под конец попросила:
– А покажи, праченька, как ты беленько отстирал то, что замочил даве. Покажь, как устарался.
Митя потускнел.
– Забыл… Я не стирал ещё…
– Да оно всё в воде погниет! Давай я ментишком!
– Не-е… Сёни, теть Ань, постираем. Завтра выходной, в школу не бежать. Сёни постираем, а завтра с утра на речке отполоскаем. Не переживайте. И без нас в хлопотах купаетесь…
– Давай. Я скоренько.
– Не-е…
– Оха! Какой же ты… – В ней закипала хмурая злость. – Ни рыба ни мясо ни кислые щи. Ну… Подай Бог здоровья кнуту да хомуту, а лошадь довезёт!
Аниса ушла.
Митя накипятил воды, из-под койки выволок на середину комнаты корыто. Достирывать Мите помогал Глебша.
Во всё мамино отсутствие Митрофан важничал, был чересчур весь строгий. Полагал, раз тебе доверили вести дом, так и будь серьёзный, солидный. С проголоди Глеб с Антоном просили нажарить кукурузы, а он ни в какую.
– Мама велела берегти от вас, коркоедов, кукурузу. Это на крайнюю случайность. На самую горячую!
Кукуруза хранилась в скрыне, в кованом сундуке, в котором везли на разукрашенном свадебном поезде Полино приданое, когда выходила замуж. Везли из Собацкого в Новую Криушу. Потом семья держала в этой скрыне, подпоясанной жестяной лентой, дорогие вещи. Вещи поменяли на зерно. Сундук опустел. В него и ссыпали выменянные последние пуда два кукурузы, ссыпали вперемешку с соей.
В первый же день, как остались без мамы, Митрофан нацепил на сундук хитрый замок. Ни Глеб, ни Антон не могли открыть. Спать теперь Митрофан не ложился на койку, всё лез для надёжности на сундук, плутовато лыбясь братцам. Дескать, народишко вы тё-ёплый, только зевни, сейчас же панихиду и отслужите!
Братцы уныло кисли. Попробуй тут отлучи хоть зернинку.
Но сегодняшняя Антошкина беда умягчила строгого хозяйчика. Подобрел, сам назвался:
– Жарь, братухи, кукурузу, сою! Сколько душеньке завгодно! Пойду позову на пир своего Пегарька.
Весь вечер весело жарили, ели. Митя подмигивал погорельцу Антоше, ласково допытывался:
– Что это ты напираешь на одну сою?
– А на две я не умею! – отмахнулся Антон.
– Медвежья хворь не проймёт?
Митрофан объявил, что ляжет не на сундуке, а вместе со всеми на одной койке. И добавил:
– Сымаю с кукурузы охрану! А ты, Пегарёк, дуй к маманьке.
Жадобистый Петька Пегарьков, Митин корешок, замялся. Он не верил, что царское пиршество могло состоять лишь из двух блюд, из кукурузы и сои. «Наверняка у них наприпрятано за глаза ещё чего-нибудь. Я за порожек, они без меня и утрескают! Не на того запали!»
Притворяшка заскулил:
– Я боюся один бегти домой… А ну чикалки[58] напанут? Можно, я у вас сночую?
– У нас всё можно! – свеликодушничал Митрофан.
Было впрохладь, свежо. Валетами попадали все четверо на одну койку, вжались друг в дружку.
В глухой час, ближе к свету, то и стряслось, чего так опасался Митрофан. Во сне Антон облил всех «цветом детской неожиданности». Невидимой волной всех смыло с койки. Один Антон уже без одеяла всё безмятежно спал.
– Антоха… башка незаплатанная… – кутаясь в одеяло, хныкал Пегарёк. – Ты чё меня всего устряпал? Холодина, зуб на зуб не бьёт… Как домой иттить?
– Ножками! – резнул Митрофан. – Отдавай сюда, задрёпа, одеялку нашу и шлёпай!
Митрофан выдернул из рук Пегарька одеяло, подтолкнул к двери.
– Катись отсюда колбаской. Чтоб тебя чикалки пощекотали! За пятки!
В окне черно, жутко.
Ёжась, Пегарёк выскакивает в черноту.
– А теперь с тобой разберёмся, ненаглядный китайский партизаник! – Митрофан дёрнул Антона за ногу. Мальчик так и не проснулся, ужимаясь в калачик. – Что Пегарька уделал – пять с плюсом! Так бы он и завтра не ушёл. А что всю постелю упоганил, нас с Глебом… Кто за тобой будет настирывать? Я? Я не нанимался к тебе в прачки. Ты у меня с рёвом нацелуешься с этой дрянью! А ну вставай!
Митрофан шлёпнул Антона по ноге. Антон вскочил, припал плечишком к стене и затих. Он продолжал спать сидя.
– Ты бесстыжие свои лупалки-то не жмурь! Давай открывай. Смотри, чего ты натворил!
– Я… не можу… проснуться… – сонно бормотал Антоша.
– Так я помогу!
Митрофан остервенело схватил сонного за голову, отвёл назад и с разгону трижды воткнул разрывающегося в плаче Антона лицом в кружок «золота».
Из школы Митрофан забежал в больницу.
Поля положила на него тревожные глаза:
– Как вы там? Живы? Вчора выходной, школы тебе нема. Один денёчек не був и у мене. Еле выждала душа… День-год… Ну, як вы там, сыночок, кулюкаете? Голодом не сидите? Кукуруза, наверно, уже вся? До званья подмели?
– И ничего мы не подметали… Кукуруза вся целая. Только разик, позавчера, малешко гульнули. Две сковородки пожарили. А так больше ни во столечки, – Митрофан показал кончик мизинца, – не трогали. Вся на месте. Кре-епко я берегу от Глебки с Антохой. Как велено!
– Кто велел?
– Сами Вы и велели! Кто наказывал? Ты старший, так ты уж береги?
– И-и, головушка медная… Бездольный воспрещатель… И слухать тошно! Я ж говорила не про то совсем! Берегти-то береги, да не по-твойски! А так: йисты – ешьте, мимо рота только не кидайте.
– Во-она как! – разочарованно протянул Митя. – А я думал, не надо давать Глебу с Антоном.
– Ты там хлопцев не поморил мне? Ноги, може, уже не таскають…
– Ну да, не таскают. Скачут кузнечики!
– Посмотрю, как скачуть.
– А домой скорочко, ма?
– Скоро… Чоча твёрдо посулил списать завтра. Крайний день послезавтра. Приду гляну, як ты там хозяиновал у мене.
Последние дни перед домом были у неё самые тягостные за полтора месяца больницы. В каторге едва дождалась нового утра, потом век выглядывала обход, Чочу. А он будто всё напрочь забыл, не шёл, лишь под вечер вкатился.
Как обещал, дал полную отходную, да пойти в ночь с дочкой на руках уже не пойдёшь. Поля поникла, не притронулась к ужину. Уложила Машу, к своей койке и не подошла. Всё сидела поближе к дому, в прихожалке с дежурной сестрой, и когда та выскочила куда-то на минуточку (до утра), грустно обрадовалась, что не будет та докучать пустопорожними уговорами. Всю ночь толклись перед глазами ребята, дом, ловила в маяте себя на том, что во всю больничную полосу так щемливо не думалось про них, а тут с ума нейдут, и как они, и что они, в горячке то и знай всё отдёргивала на окне штору, лупилась в темь, готовая бечь. Только внесло предутренним ветром сестру – лопнул терпец, прикинула Машу щёчкой к своей щеке да и бежака.
Видело материнское сердце беду.
Размахнула дверь – постель прибрана, Митька с Глебом потерянно сидят на скрыне с кукурузой, повтыкали носы в пол.
– Чего в таку раницу одемше? В честь чего спола́горя повскакали?
– А мы не ложились…
Её морозом так и одёрнуло.
– Иль случилося шо?
– Да случилось… У нас, мамычка, Антошик пропал…
– А Божечко мой! Как пропал?! Досказуйте! Толком… Порядком…
Братья переглянулись. Кому говорить? Глеб качнулся к Митрофану плечом. Давай ты!
Пропажа казнила Митрофана. Но ещё солоней казнило его то, что пропажа эта свертелась именно в то время, когда главой дома был он. «Не мог шныря одну ночку утерпеть… Пришла матуся, спокойно и укатывайся-пропадай на все четыре ветра. А то напоследушки запашку мне подпустил…»
Митрофану не верилось, что брат пропал всерьёз. Отыщется. Жрать захочет, прибежит. Да и потом, подумаешь, потеряли одного, зато у нас ничего другое не пропало! Мог же этот обормот вообще сгореть вместе со своей косыночкой скандальной, мог заодно и домишко спалить, могли всю, под черту, кукурузу слопать – но всё цело! А это что-то да значит. Вон и на старуху живёт проруха…
Митрофана не манило начинать впрямую с пропажи, поджигало сразу дать понять матери, что сладкое бремя властелина нёс он с достоинством. Завёл песню издалека, с субботы. Обстоятельно, как и просила, рассказал, как старательно стирал-настирывал весь вечер, как под конец помогал ему Глеб. Про воскресенье пришлось молчать. Собирались полоскать, да забыли, проиграли весь день в мяч.
Зато про понедельниковы страдания улился соловейкой. Корыто с настиранным еле обротали с Глебом на свою тачку в одно колесо да к реке. Тачку так с бугра разогнало, что не удержали, сорвалась с берега, перевернулась. Перекурыркнулось и корыто. Хорошо, что речка воробью по грудку, не выше мизинчика. Из настиранного ни холеры не унесло, только прозрачная вода, что сонно прыгала по мелким камешкам, враз почернела.
Макая тряпицу в воду, Митрофан бил, охаживал ею лобастый гладкий камень, как делала мама. Глеб полоскал в отдальке, чтоб не забрызгать друг дружку. Не усидел и Антон – прокинулся, заслышав на первом мерклом свету их сборы, – тоже хлопотал в подмоге. Он считал, мало проку в том, что колотят братья по булыжникам бельём. Оно скорее станет чистым, если… Он кинул полотенешко на камень, застучал сверху другим. Камнем. Полотенце оказалось не из стали, тут же в нём явилась мелкая разрывка.
Как вещественное доказательство Митрофан достал из вороха и в самом деле чисто выстиранного, сухого белья на койке полотенце, показал те пробоинки с белой бахромой.
– Развесили потом всё под яблоней у окна, наказали ему не забегать далеко и погнали с Глебом череду пасти…
– Что, уже наша была очередь?
– Не погнали бы без очереди… В субботу Погарьковы, в выходной Клыки ходили за козами, а в понедельник, вчера, уже нам набежала очередь. Не Вам говорить, по очереди пасёт каждая семья, сосед за соседом… Помог я Глебу выгнать стадо в лесок. Из леса прямишком на уроки. Не высидел всю школу, сорвался к Вам. От Вас снова к Глебке в помогайлы.







