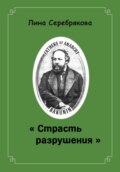Лина Серебрякова
Избегнув чар Сократа…
И недоумевал.
"Ну, мила, да, глаза серовато-голубые с искринкой, лицо будто светится, ну, красотка, да, да. Но не настолько же…– ему чудился давешний вздрог. – Сколько, бишь, ей? Холостячка, не замужем. Интересно…"
С треском брызгали из-под копыт краснокрылые кузнечики при каждом шаге, опускались в короткую поросль, и вновь взлетали.
Наконец, повернули назад. Было тихо, уже не жарко. Солнце стояло за спиной, готовое начать спуск в мятые складки предгорий. Исполосованные ребристыми каменными щетками тянулись справа обрывистые холмы, восходя к вершинам горного массива Танну-Ола, слева сквозь пойменные лозняки синели изгибы мутноводого Хемчика.
Окаста безмолвствовал. Встречный ветерок посвистывал в твердых полях его полотняной шляпы. Ему было не по себе. Что-то не складывалось в четкий облик Аннеты Румянцевой, не удавалось найти слово, и это гнело.
Что до нее, то она уже не отставала, как поначалу, хотя и держалась опасливо и с тою же «дощечкой». Наскучив молчанием, заговорила сама, внимательно удерживая равновесие.
– Это ваши стихи я читала в Лаборатории, Окаста Савельевич?
Он поморщился. Речь шла о стенной газете, зависевшейся в их коридоре, в ней среди рисунков и мелких, с копейку, фотографий, действительно, пестрели начертанные вкривь и вкось его колкие двустишия.
– Надеюсь, не понравились?
– Угадали, – она улыбнулась. – "А на старую ханжу мы наденем паранжу"… Обидно.
Он усмехнулся
– У вас проблемы с юмором.
– А вам нравится иметь врагов.
– Враго-ов? – дурашливо протянул он. – Богатая мысль! А вы боитесь врагов? А чего вообще вы боитесь?
– Вообще? – улыбнулась она.
Он прищурился.
– Что? – спросил небрежно, как бы между прочим. – В сущности, жизнь есть глубокая ирония во всем, вы не находите? Нас приводят сюда, не спросясь, и оставляют на произвол, а впереди у каждого – что? Во-от. А тогда зачем все это? Вы – знаете? Нет? И все – нет. Но я… как живущий, я имею право знать, иначе все это бессмысленно, и смерть есть только смерть, как… вон тот камень есть только камень. Вы согласны? Нет? Молчите?
В замешательстве она скользнула пальцами по нестриженой лошадиной холке, дотянулась до сторожких изящных ушей и опустила руку.
– Это так называемые "проклятые вопросы", – ответила тихо. – Я не готова к такому разговору. Извините.
Окаста смешался. В груди расползалось едкое пятно.
– Виноват, – пробормотал уязвленно, – как скажете. Размышляющие живут во тьме, неразмышляющие – в слепоте, и вся разница. Одно утешение, что через тысячу лет от нас не останется даже праха.
Лошадки старательно пылили вдоль ровного поката, впереди путано и несуразно мельтешили по траве длинные тени их ног.
"Блистать, блистательно, не для меня красы твоей блистанье"– просклонял он и крепко протер ладонями шею, лицо, царапая кожу мозолями, снимая напряжение на лбу и между бровями, потом жестко проерошил пальцами отросшие волосы (каждую весну он обривался наголо перед выездом в поле).
И внезапно устал.
"Обыкновенная, от папы с мамой. Показалось".
Проехал еще сколько-то и вдруг сорвался неожиданно для самого себя.
– И все-таки лучшие из женщин всегда все знали и ничего не боялись.
Она изумленно откинулась.
– Вы нас преувеличиваете.
– Я сказал – лучшие, блистательнейшие.
Она пожала плечами.
– Мне казалось, что знание – это мужчины.
– Хэ! – он махнул рукой, – чего ищет мужчина? Любви и смерти, а как любовь – та же смерть, то смерти и смерти. Мы простые, нас хоть в строй ставь. А кстати, вот вы, например, что вы ждете от мужчин?
– Силы и мудрости.
– Напрасно. Мужчины, если хотите знать, это растерявшиеся мальчишки. Им очень страшно.
И осекся.
Она улыбнулась.
– Я смотрю, нам срочно нужен сборник анекдотов.
– Во-от! Знаете же. Веселье – последнее слово мудрости.
На другой день вместе с Серегой Вехов умчался на машине в Кызыл, на объединенную базу трех геопартий, соседей по планшету, чтобы сомкнуть геологические границы на картах. Оттуда в обществе друзей-начальников вылетел в Красноярск, где полдня потерял в банке, другие полдня в ресторане. Когда же вернулся, то кроме Корниенко, техника Натальи и радиста не застал никого. Не прибыл и Кир Васин, а он-то надеялся после краткого обучения дать ему отряд. Людей не хватало. Дорожа погодой, ушел верхами, с цепким стариком Тандын-Оолом (конюхом-рыболовом-охотником в одном лице) в малодоступный горный Хантер в северо-западном углу карты. Там за две недели они облазали такие медвежьи углы, каких немного осталось даже на Саянах. По возвращении вновь разминулся с нею. Аннета в обществе Эрсола, местного мальчишки-рабочего, проводила обследования южного склона хребта Танну-Ола.
Лишь в конце месяца они, наконец, встретились и дружески обнялись. Никто не обратил на это внимания, в геопартии было принято провожать и встречаться с поцелуями. Но, посидев часок над сводным планшетом, Окаста наметил два новых маршрута с взаимным пересечением километрах в тридцати от лагеря; долгий семидневный, с двумя перевалами – для себя, короткий, на четыре дня по горной долине с притоками назначил ей.
С условием встречи на развилке.
– Необыкновенно, – посмотрела она.
Корниенко задрал брови и пошел по тропинке, попыхивая трубкой; он всю жизнь мотался по экспедициям и давно уже ничему не удивлялся.
Из лагеря Окаста вышел первым. Еще раньше перевел к Аннете старого Тандын-Оола, и теперь с ним был Эрсол, неунывающий "новобранец", смуглый, с узкими черными глазами, с торчащими как у ежа, черными волосами, ожидавший осеннего призыва в армию.
Первый перевал они взяли к исходу третьих суток. Это было сложное место. Лет пять назад здесь отполыхал лесной пожар, и с тех пор по всему склону лежали навалом, по два-три друг над другом обгоревшие деревья с обугленными растопыренными сучьями, уже утонувшие в красновато-лиловых зарослях иван-чая, под сапогами трещали шелковистые древесные угли. Проходимость с лошадьми была ничтожной. Они так и заночевали без воды среди обугленных головешек. Зато наутро, в самом низу их поджидала такая топь, что пришлось гатить настил, чтобы не увязнуть с лошадьми в зеленой тине. В условленную долину они "свалились" день в день, на другом берегу.
Освежились, побрились. Вехов набрал цветов.
Затерянно покоилась долина среди хвойных покатых склонов под присмотром серой вершины, азимут на которую вывел Окасту точно к месту. Несомые ветром облака то и дело так четко затмевали солнце, словно в долине поминутно включали и выключали освещение. По плоскому днищу бежал горный ручей.
Ее отряд был на месте. За галечной отмелью виднелась палатка, паслись стреноженные кони. Возле них сидел на корточках старый Тандын, осматривая копыта. В палатке головой к свету записывала в тетради она сама.
Эрсол схватил ракетницу, направил дулом в небо.
– Пальнем?
– Я те пальну, – но зеленая вестница уже повисла между высокими склонами.
Близко всматриваясь в дрожащие сквозь поток валуны, кони вступили в ручей, пошли, выбирая между камней. Веером рассыпа́лись от них хариусы и ленки.
Держа букет в правой руке, повод в левой, Окаста смотрел на Аннету: она улыбалась, глядя на него, на его лошадь, на ее ноги.
– Привет! – соскочил он на прибрежную гальку.
– С прибытием, – отозвалась она.
Тувинцы, радостно смеясь, хлопали друг друга по плечам.
После совместного угощения рабочие отправились ловить хариуса с дальнего утеса. Окаста и Аннета остались вдвоем. Аннета сидела на расстеленном брезенте, покусывая травинку. Окаста лежал возле. Было скверно. Опершись на локти, он смотрел на нее снизу и мучился. Прохваченные солнцем волосы ее светились на голубизне неба. Было скверно и непонятно – почему? Ей тоже было неловко, и она говорила о чем-то, говорила, говорила, просто так, "чтобы не создалась обстановка". Он сжал ее пальцы, поднес к губам. "Позови меня. Сама. Я тебе весь, весь отдамся". Со стеснением она отняла руку и вновь говорила, говорила. "Обстановка" не создалась. В душе начиналось потрескивание.
– У меня нет ключей к тебе, – рванулся он и ушел в палатку.
…"Они" налетели мгновенно и сокрушительно. Стиснув зубы, он лежал навзничь, а "они" крушили грудь, не оставляя никаких надежд.
Что Аннета уже не соперница, Наталья определила с первого взгляда. Переведенная из другого отдела с понижением за неуживчивость нрава, горячая, хозяйственная, очень способная, она испытывала слишком острую ущербность, чтобы не искать опоры. Сейчас она уверенно раскинула сети.
Окаста пал сразу. Прихватил Наталью и запас спиртного в свою палатку, и отключился.
Для Корниенко настали черные дни. Экспедиция к приграничным участкам, целый караван, в который входили Аннета и все рабочие, и который должен был возглавить Окаста, был собран, разрешение у пограничников получено, и вот бесценные погожие деньки уходили один за другим, все рушилось грех сказать из-за чего!
И тогда, сообразуясь с обстоятельствами, главный геолог расписал Наталье и радисту подробные руководства и отправился сам.
…Окаста пил. Пил с утра, натощак, худел, чернел, становился страшен. Уже представлялось ему, что он тигр, гибкий, сильный, что идет по рельсам и все стаскивает и стаскивает с них свой тяжелый полосатый хвост. Обычная водка уже не брала, он мешал ее со спиртом. От глаз к подбородку по небритым щекам прочертились две изломанные черные морщины, со своей стрижкой он стал похож на уголовника. Подруга боязливо прислуживала ему, но все чаще уходила к себе. Стояла тяжкая поздне-июльская духота с яркими ночными грозами, артиллерийским громом и блеском; такой же почти военный грохот не утихал и днем при полном солнечном сиянии. Окаста пил уже чистый спирт. Он шел к своей точке. Новый бред разрастался в сознании, доисторическая память о краже заветных бирюзовых пластин из родового тайника. И страх, страх, иглы страха, огни, огни погони сквозь частое черно-зеленое, и новый страх, ножевой, обливной, страх-глодание, страх-сквозняк по коже… И сбег, побег, бессильный бег сквозь гиблую черно-зеленую оплетающую траву.
Был светлый день, когда Окаста пришел в себя. Он лежал на боку, неудобно подломив руку. Вокруг валялись окурки, бутылки, грязный бумажный мусор. Тело ныло как от побоев. Он выбрался наружу. Перед глазами поплыли деревья, горы. После обжигающе-ледяного ручья с солдатским тщанием собрал и закопал обрывки и осколки, весь хлам внутри-снаружи, выбросил вон Натальины шмотки.
– Чтобы тебя здесь больше не было, – и переставил палатку на свежее место.
Она обмерла. С пылающим лицом убежала в чащу, плакала, целовала шершавые древесные стволы.
К вечеру другого дня в воздух взлетела зеленая ракета. Это вернулся караван, а с ним и ровное многосложное спокойствие от присутствия своих людей, работы, мыслей. Все стихло, окрепло. Но вечерком попозже в просвете палатки появилась Наталья. Она пришла с добром, а он нахамил ей, и тогда услышал такое, от чего кубарем скатился к самому подножью хваленого спокойствия.
А он-то уже считал себя неуязвимым!
Наступившая ночь стала ночью поражения. Вновь очутился он под обломками с утра еще стройного мироощущения, вновь дохнуло серьёзом, о котором в последние дни стало как-то забываться. Жажда простой чистой истины стала нестерпимой.
– О, шут, я сойду с ума!
В лагере еще спали. В "лисьих" сумерках перепархивали птицы, зудели комары и роса клонила гибкие травы, а он пропадал-погибал, чуя в себе свершающееся "ничто"… Как вдруг увидел "это", простое и чистое. Двое, ручной коршун, принесенный птенцом, подросший среди палаток, и лобастый матерый шоферский кот бесшумно бились у остывшего кострища: нависая тяжелыми крыльями, коршун уверенно теснил кота, а тот с беззвучным шипом пятился на трех лапах и часто, и больно цапал противника веером кривых когтей.
– Это же природа, природа… – Окаста ощутил себя вернувшимся.
После обеда Корниенко собрал собрание. За столом, на пеньках, на траве под зеленой кроной лиственницы, откуда то и дело падали мелкие желтые гусеницы, разместилась вся геопартия. Время было ленивое, послеобеденное, кто-то просто лежал, кто-то чинил одежду, кто-то возился с ремешками упряжи. Лишь Наталья отчужденно посматривала на всех с краешка скамьи.
Первым говорил Вехов: о хороших итогах половины сезона, о деньгах, которые уже в сейфе, о вертолете, который заказан для недоступных участков высокогорья, для чего уже найдена открытая посадка в соседней долине, куда предстоит откочевать… после чего полулег на траву в полнейшем спокойствии, опершись локтями за спиной, разбросав ноги в тапочках.
У Корниенко были свои заботы: сжатые сроки, надвигающиеся дожди, нехватка людей.
– Еще бы один отряд, и мы спасены. Кто-то должен подъехать, и нет его, нет и нет. Спасибо, Аннета Румянцева быстро освоилась, полезно работает.
– О! – она рассмеялась от неожиданности. – Спасибо на добром слове.
Заслушали Серегу с его водительскими нуждами, похвалились приграничными исследованиями, посудачили о том, о сем и поднялись было расходиться, как вдруг слово взяла Наталья. И запальчиво, путано, не выбирая слов, понесла горячку и вздор, причина которых была ясна каждому. Все томились.
Аннета тихонько поднялась и ушла. "Умница, – закинув голову, проводил глазами Окаста, – не нужно тебе нашего…" Усмехнувшись на обвинение в самоуправстве и нарушении финансовой дисциплины, он ждал окончания, как вдруг прозвучали слова "об интимных встречах на маршруте".
Все замерли.
– А разве нет? – крикнула Наталья, с ужасом ощущая, что занеслась "не туда". – Разве не так? Уходят как будто в разные стороны, в разное время, а там встречаются, где поукромнее.
– Молчать!!! – Окаста страшный, косолапый, тучей надвигался на нее. Она встретила его темным немигающим взглядом, наткнувшись на который он отвернул в сторону и пошел прочь, загребая руками и бесчувственными неуклюжими ногами, медленно и странно, будто против течения; его и впрямь несло в потоке, сносило в половодье, мимо кустов остережения, мимо последних запретов к чему-то немыслимо-жуткому, безобразному.
– Серега! – заорал он в последний момент.
Шофера не было, за рулем, поглаживая кота, сидела Аннета.
– Заводи!
Не мешкая, она ковырнула булавкой и мотор завелся. Кот мячиком скатился на землю. К ним прыгнул Мишка-радист, хлопнула дверца и машина понеслась. Миновали лесок, ручей, выскочили в степную долину Хемчика.
– Скорее, скорее!
Шарахались по обе стороны придорожные кусты, повороты словно выпрыгивали навстречу, ветер скорости рвался в кабине.
– Скорее, скорее…
И столбом вилась позади белая степная пыль.
Наконец, отпустило. Окаста откинулся на спинку кресла, перевел дух. Аннета сбросила скорость. Машина бежала вдоль вспаханной, ничем не засеянной полосы, обилующей камнями и неразбитыми земляными комьями. Вечерело. Ближняя череда холмов стала синей, дальняя – светло-лиловой, за ними теснились воздушно-голубые цепи гор.
Аннета скосила глаза.
– Чуть не взорвался, Окаста Савельич.
– Не говори…– он помотал головой.
– Возвращаемся?
– В поселок заскочим, раз такое дело. Верно, Миха?
Мишка просунул голову над их плечами, сверкнул улыбкой.
– Если женщина не возражает…
Окаста тронул висящее впереди зеркало, поймал лицо Аннеты и устроился со всеми удобствами.
Посмеиваясь, они поехали "шагом". В сельском магазине взяли водки, хлеба, колбасы, посмотрели афишку клуба и отправились восвояси. Вновь потянулись косо освещенные бугры, редкой гребенкой пересекавшие долину, только горы на горизонте были другими. Воздухе вились прозрачные сумерки, солнце садилось, в его гаснущих лучах асфальт казался розовым, как гранодиорит. Мирная тишина и прохлада стояли сразу за пофыркиванием мотора. По случаю выходного дня встречных машин почти не было.
Окаста молчал.
Равномерно и длинно, от гряды к гряде бежала дорога, за долгим подъемом открывался плавный спуск, за ним снова подъем, вверх-вниз, вверх-вниз, и эта размеренность среди теплого широкого вечера, и присутствие этой женщины за рулем, и прозрачность своей всегда напряженной, измученной души были столь ощутимы, что его охватило давно не испытываемое блаженство.
"Неужели это ее обычное состояние? – он подправил зеркало, и лицо ее улыбнулось ему. – Тогда… о чем речь? Вот оно, истинное знание, дарованное детям и женщинам, все остальное – суета и нечисть, грех умствования, муки и корчи конечного разума. О, дивный, дивный, невыразимо дивный мир! Господи, как живу, как живу!"
Машина плавно летела вниз. Достигла плоского мостика с белыми столбиками и вновь устремилась к длинному подъему. Аннета чуть заметно повела плечами. Окаста погладил ее по руке.
– Устала?
– С непривычки.
– Прости меня, дурака. Заменить?
– Нет, доеду. Мне в охотку.
"Милая, – вздохнул он, – вот бы на ком жениться. И жить, и жить, пока не оскудеет чаша. Да, истинно так: принимать со смирением все дары, благословлять вопреки стонам и воплям рассудка… смешно полагать, что жизнь подчинится его указкам. Вот, наконец-то! О высоких мыслях и чистом сердце дóлжно просить у жизни, о высоких…"
Машину тряхнуло. Колея завихлялась по кучам песка и гравия. Невнимательная к дорожным знакам, Аннета проглядела указатель объезда и теперь выкручивала руль между ремонтными механизмами и горками насыпанного грунта. Ухватившись за поручень, Окаста мельком взглянул в зеркало и … нет, такой Аннеты он еще не видел, это не она, не она, нет, нет!
– У тебя может быть такое лицо? – пробормотал потерянно.
Она попыталась улыбнуться, но лишь наскочила колесом на груду щебня.
"Маска! – ужаснулся он, проваливаясь куда-то внутри себя. – Маска! О, шут…"
На поляну смотрела луна. Один бочок ее был слегка ущербен и размыт, как обтаявшая льдинка, но свет лился яркий, на траве лежали четкие тени. Запыленная машина дышала теплом и бензином. Здесь, среди кустов, неподалеку от лагеря, до которого оставалось не более двухсот метров, имелся привал, известный лишь посвященным, со скамьями, столом и навесом.
Они уже отдохнули с дороги, выпили по одной, закусили, но не оживились, не разговорились, как ждалось, но приумолкли, задумались, каждый сам по себе.
Окаста налил по второму заходу. Вновь задробились в граненом стекле голубые лунные змейки.
– Пей, – подвинул Аннете.
– О, нет, мне довольно.
– Дело хозяйское, – в нем закипала ярость, – нам больше достанется. Теперь уходи.
– Что?!!
– Будет лучше, если ты уйдешь.
– Что-то случилось?
– Да! Случилось.
– Тогда… счастливо оставаться.
– Скатерью дорога к мужику до порога, – со злостью ощерился он.
– Даже та-ак?
Она вскочила и исчезла за кустами.
Радист ошалело воззрился на Окасту.
– Ты что, Савельич, с ума спятил? Наталью проучить, я понимаю, а тут… ты не прав.
– Молчи, Миха. Молчи. Наталья проста, как растение, с нее и спроса нет. О, шут! Я ж поверил, думал, вот, наконец-то… Побродяжка! Жалкая! Отрицаю!
Рассветный холодок ознобил тело, провеял запахом остывшего бензина. Окаста осознал себя проснувшимся. И тотчас ощутил душевную боль. "Что, что? А, лицо… Лицо, лицо, – кулак его с силой опустился у головы, горячие слезы потекли по переносице. – Истины! Жажду! Не могу больше!"
В лагере он завьючил коня, бросил в перекидные сумы буханку черного с банкой тушенки, взял карту, компас, кинул два слова Корниенко. В дальнем ущелье залег во мхи, сутки пил одну воду, потом стал жевать кислицу, бруснику, мягкие лиственничные иглы. Грозы отошли, стояло безветрие, пахло землей, ягодником, островатой грибной прелью, в потаенной влаге кружился желтый листок.
В одну из ночей привиделся сон. Колонны, пышно-убранный зал, гости – красивые и совершенные, как представители лучшего человечества. Звуки белого рояля, аплодисменты, радостное ожидание. Вокруг Окасты молодые женщины, их улыбки, яркие шелка, блестящие волосы.
– У вас французские духи?
– Нет, английские. Ха-ха-ха!
Счастливый, с чайной розой в руке он идет коридором и попадает в дежурку, уставленную пультами, за которыми сидят топорные мужики без лиц, а на экранах перед ними весь праздничный зал, как на ладони.
– Диск с роялем (щелк!), ароматический с резедой (щелк!), шампанское (щелк!) – озаренные цветными огнями гости сдвигают бокалы, – радостное ожидание, изысканность, артистизм (щелк, щелк, щелк), – толпа вальсирует, веселится. – У вас французские духи ?.. Нет, английские… ха-ха-ха – (щелк!)
Окаста темнеет.
– Так это сделано?
Круто повернувшись, уходит прочь, прочь, вдоль кромки какого-то моря, против темного ночного ветра.
– Что еще сделано? Кем? Кем?
Вспышка света, по ломким изгибам пространства бегут голубые извивы, волосы пламенеют, изо рта вырывается сдавленный крик, тело очерчивается свечением. Колючее излучение бьёт навстречу. Мгновение… и перед ним расплавленный океан, белые молнии бьют в ослепительную поверхность, а выше, выше возносится перламутровая голубизна. Разумеется, это совсем другое небо.
– Ке-ем? – отдается в нем.
И тихий голос, близкий, похожий на чей-то, произносит.
– Наконец-то ты понял.
…К Верховым озерам он вышел на четвертые сутки. Дождило. В озерах, разбросанных по изрытому ледником плоскогорью, блестели, отражаясь, серые облака. Стояли чахлые лиственницы.
Вехов опустился на валун, долго смотрел.
– Не может быть, чтобы все это ничего не значило, а, Аннета?
Что-то сгущалось вокруг него, становилось жестким, хищным. По душе прошелся шорох. "Так, – подумал он, – начинается". Быстро развернул под деревом палатку, закинув верхние веревки прямо за ветки, сел, прислонившись к стволу сквозь суровое полотно.
"Все. Налетайте. Достали".
"Они" не замедлили. Комком прокатились по надбровью, грубо повернули что-то в груди. "Страшно, страшно, – поддразнил он, – страшно, страшно". Острые волны окатили его. Напрягшись, Окаста принялся ловить этот страх на острие своего внимания… я вам не тварь… дрожащая… Поднялся ураган. Свирепея и набирая силу, он вмуровал в себя Окасту, но и тот словно окаменел. Их жгучие пальцы рылись в сердце, размазывали его по стенке, но он уже чувствовал, что уцелел, что справляется. Главное, ловить "их" на прицел, плавить взглядом, вызывать этим "страшно, страшно".
Вот стало слабеть, редеть.
– Неужели? – он затаил дыхание, и тут огненный вал накрыл его с головой, сбил наземь, заставил извиваться, хвататься за траву, выть и стонать от жгучей боли в каждой жилке, самый воздух, казалось, занялся болью. И вдруг словно молния прерывисто ударила вдоль тела, остро и ветвисто достала с головы до пят, подержалась и рассеялась.
Стало тихо. В полутьме обозначились своды палатки, шорох дождя.
"Расплатился", понял он.
Взмокшая рубашка холодила плечи. Он сел. Силы быстро прибывали, его покачивало, он чувствовал, что взлетает, летит, радостный, легчайший.
"Страшно, страшно", – проверил на пробу и рассмеялся. Страха не было.
К утру погода прояснилась. Окаста собрался, подвел коня к воде. Все вокруг было прежним… и иным. Оно существовало без него, Окасты, было равно ему. Подымаясь, вились туманы, спокойно лежало в углублении светлое озеро и со своего места участвовал во всем вросший во мхи вчерашний камень с его серым незаметным лицом.
Карта повела в обход горбатого кряжа, прорезанного белыми кварцевыми жилами, в узкую ложбину, превратившуюся вскоре в ущелье с безымянным потоком. Тянулись в небо островерхие скалы, вприпрыжку ссыпáлась со склонов мелкая щебенка. Первозданность окружения была поразительна. Не было, казалось, ни миллиардов лет, ни геологических катастроф, никогда не менялся лик Земли.
Поглядывая вокруг своим новым зрением, Окаста ехал один в отвесной, словно разломленной теснине. Что-то соединялось, высвечивалось в душе, творчество вершилось само по себе, стихи звучали, он невнятно проборматывал их себе под нос.
– Чирк, чирк!
Аннета открыла глаза. Одна сторона палатки была освещена, и по ней по зеленому полотну, по нарисованным солнцем травам прыгала, почирикивая, маленькая тень.
– Чирк, чирк!
Улыбаясь, Аннета подставила палец под стрелки лапок. Птичка не поняла и прыгнула еще разок.
Утро было теплое. Но снежная граница на дальних вершинах Танну-Ола приспустилась за ночь еще чуть ниже. Скоро осень.
С полотенцем, оставляя след на седой траве, она шла по-над ручьем к обрыву. На травах, на тонких веточках сверкала роса, капельки висели по нескольку в ряд, и от каждой, если качнуть головой, летели пышные цветные лучи. Необыкновенно! И вдруг… Аннета замерла. Неужели обычная паутина? Узор ее, четкий, безукоризненный, был очерчен росой и переливался на солнце, она была подвешена к молоденьким пихточкам двумя алмазными нитями, которые плавно и бережно поддерживали свою звезду в развернутом состоянии. Необыкновенно!
По рыхлому сползающему обрыву Аннета спустилась к льдине, героически уцелевшей с самой зимы. Крепко припаянная к берегу в тени уступа, она выдавалась к самой стремнине. Место открылось случайно, вчера после маршрута, и как вчера, она сбросила одежду, прошлась босиком по зернистому снегу и соскользнула в грозный шум потока.
И не вздохнув, выскочила на берег.
– Завтракать! – донесся сквозь чащу веселый голос Эрсола.
– Завтракать, – рассмеялась она.
…За длинным, врытым в землю столом из свеже-обструганных жердей, таким же, как на старом лагере, сидели все, кто был в наличии. Удрученный заботами Корниенко, Наталья в розовой блузке, Эрсол и Мишка-радист. Не было Кира с Серегой, угнавших с машиной на ночную рыбалку, не было старого Тандына, который, забыв обо всем, выхаживал раненого коня, приведенного Аннетой из маршрута.
Но главное, отсутствовал Окаста. Седьмой день. Это зияло. Давным-давно следовало объявить широкий поиск, вызывать спасателей с их лётной техникой. Но как, как? – билась тревога в душе Корниенко, – разве Окаста из тех, кого спасают? Да он явится хоть сейчас, в любую минуту!.. А штрафуют спасатели немилосердно, никаких денег не хватит.
– Доброе утро! – Аннета хлопнула в ладоши. – Я потеряла часы и не могу быть точной.
– Когда ты голову потеряешь? – в сердцах отозвался Корниенко.
– От кого тут терять? – отразила она, садясь на скамью лицом к долине.
Наталья сочувственно усмехнулась.
Эрсол подал миску молочной рисовой каши, политой малиновым вареньем. Это Наталья, хозяйственная душа, наварила по ведру малины, черники, смородины для общего угощения.
– Спасибо, – осторожно улыбнулась ей Аннета.
– На здоровье, – спокойно ответила та.
С высокой цокольной террасы открывался вид на речную долину. Кирпично-красный выветрелый песчаник, слагающий верхнюю часть склона напротив, был отвесен и разрушен настолько, что напоминал древние укрепления с бойницами и башнями, увитыми изумрудным плющом. Хотелось даже посидеть-подумать среди развалин, отыскивая краем глаза завалившийся в расселину золотой шлем…
В следующее мгновение взор соскальзывал вниз по блёкло-зеленым отлогостям к резкой поперечной кайме, прочертившей середину по всей длине берега. Это обнажались слои песка и гравия – прямые, косые, в перекрест, белые, рыжие, черные; из них сочились ржавые водяные струйки, питая темную зелень у подножий. А уже там, ближе к подошве пологости сливались с неровным мягким днищем, по которому вилась синяя речка. В травах поймы там и сям посверкивали серповидные старицы, потерянные речкой при половодьях.
В давние времена здесь вручную мыли золото. Поэтому вдоль всего русла тянулись галечные, ничуть не заросшие серые гряды, а в светлом речном дне темнели ямы-омуты, над которыми серебристые ивы склоняли нежные длинные ветви.
Думалось о грубых жадных старателях, о сильных страстях людей, чьи глаза видели тот же берег, те же закаты.
– Такое место может выбрать только художник, – легко повернулась Аннета, и светлые подсохшие волосы ее метнулись. – Как вам удалось, Андрей Николаевич?
– А! – крякнул Корниенко. – Посадка для вертолета открытая да площадка сухая, вот и все художества.
Он всыпал в кружку горсть голубики, размял ложкой, добавил сахар, чай и посмотрел на Аннету.
– Завтра полетишь, если погода. Мы оплатили три летных дня в самые неприступные участки.
– Куда Макар телят не гонял, – с улыбочкой уточнил Мишка, принявший радиограмму нынче утром.
– Замечательно, – кивнула она.
Наталья недовольно подняла голову.
– Не выношу вертолеты. От одного запаха голова кругом.
– Запаха? – встрепенулся Эрсол. Он спал и видел себя десантником. – Какой у них запах?
– Алюминиевый, какой еще.
Корниенко допил кружку, хлопнул ею по столу, после чего раскурил свою трубку, обдав сотрапезников облачком надоевшего всем "золотого руна", и грузно поднялся из-за стола.
– Отдыхай пока, – сказал Аннете, – вечерком потолкуем.
– Отдыхать – не работать.
И тоже встала. Подобрав можжевеловую веточку, подержала над углями кострища, и пошла домой.
Ниже, на травяной поляне, паслись стреноженные кони. Журчал ручей. Сквозная тень лиственницы накрыла собою палатку. Расстегнув ее, Аннета помахала дымящейся веткой, наклонилась, коснувшись рукой пола и вошла, обойдя растущий у входа лиловый цветок.
Под треугольными сводами было уютно и чисто. На сером войлоке (потнике) о всю длину лежал спальный мешок в цветастом чехле, сшитом из прошлогодних, послуживших в Усть-Качке занавесок; на нем белела подушка и зеленая шаль с кистями. Левее стояли зеркало, стопка книг, чемодан. В маршрутные дни все излишнее сдавалось на хранение.
Снаружи неровным скόком приблизился стреноженный конь, слышно было… хрум, хрум… как скусывают траву его крепкие зубы… хрум, хрум… Конь задел растяжки, отчего дернулась вся палатка, показался в просвете – Каурый, бедняга, пострадавший в ее маршруте; неуклюже выбрасывая передние ноги, он скрылся, не тронув лилового цветка.
Аннета потянулась за тетрадью.
"Милая Марина! Как вы поживаете? Жду-не дождусь от вас добрых вестей, ни минуты не сомневаюсь в вашей звезде".
В приоткрытые створки виднелись дальние горы. Ручей бежал по камешкам, и в немолчном плеске его слышались смех и веселые восклицания.
Аннета укрылась шалью. Веки сомкнулись. Сейчас я все пойму… Мягкий взлет, отсвет какого-то моря в голубизне, карта Земли с иными очертаниями.
Душа моя, где ты бываешь?
…Увидев Аннету тогда в Усть-Качке, Кир на мгновенье замер, потом дружески приветствовал, как добрую знакомую. Он умел сдерживать себя, хотя и загадочной показалась ему, дипломнику геофака, встреча "с красивой, как артистка", девушкой из подвала, работающей ныне у его отца. Молча слушал мужские разговоры о связи ее с начальником геопартии. И вот Тыва. Последние четыре километра к прежнему лагерю он шел пешком с набитым донельзя альпинистским рюкзаком, из которого торчала ручка геологического молотка. Приустал, присел и через минуту вновь был свеж и силен, спортивный молодой специалист.
– Привет, Аннета! Рад видеть тебя, – уверенно обнял ее теперь.