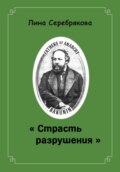Лина Серебрякова
Избегнув чар Сократа…
"Если мой палец указывает на Луну, то вы должны смотреть на Луну, а не на мой палец – говорят на Востоке. Видно, и там не редкость привязчивое "западение" ученика на личность Гуру. Как избежать этого? А если случилось – как отработать?
– В-нс, В-нс, – проговорила она мерно, ожидая появления… кого? Рискованно. Как это будет? "Сам" удостоит или как вообще? – В-нс, В-нс…
Но вместо него вышло его окружение, дальняя цепь приближенных. Они были вооружены и изготовились к бою. С ними она уже работала частично, когда снимала старых и новых сидельцев. Собрав силу в солнечном сплетении, она опустила глаза и словно вошла в былинную Пучай-реку с ее огненным течением.
Тая река свирипая,
Свирипая река сама сердитая:
Из-за первоя же струйки как огонь сечет…
Конечно, у этого одоления были свои горы и долы, но против работающего человека сознательного сопротивления там нет, есть проверка решимости. Так остался позади и второй ряд, тоже старые знакомцы, те, что вились вокруг В-нса ликующим роем. Короткая передышка, освеженная притоком энергии, и вот уже сама староста, одетая в черные блестящие латы, с распущенными по спине черными волосами, прошлась перед ней, поигрывая бластером, давая понять, что пощады не будет.
Это была середина Пучай-реки.
Из-за другоей же струйки искра сыплется…
Работа шла уже в горловом центре. Прогорев в химическим растворении, Аннета прошла до конца. Староста исчезла. И тут, не дав перевести дух, выпрыгнул Боб, самый близкий к В-нсу человек. Мало того, что он был частым гостем в его доме, он вел уже какие-то подкурсы, не стригся, не брился, как В-нс, говорил его словечками, и даже, подобно славянским пастухам, не стриг ногтей. Сейчас он был сторожевым псом, последней охраной.
Этот был посильнее всех. В глазах замелькали его зрачки, зубы, нестриженные пряди волос. Дальняя стремнина Пучай-реки, противотечение энтропии, били странным бешеным блаженством.
Из-за третеей же струйки дым столбом валит,
Дым столбом валит да сам со пламенью.
Наконец и красавец Боб отпустил ее. Они не убивают смельчаков, но уж испытывают до конца.
И вот впереди пустота и свет. Неужели? Неужели там В-нс и можно напрямую увидеть и понять его? Шаг, еще шаг, светлее, светлее…
Необыкновенно.
Перед ней, освещенный лучами, стоял портрет В-нса – огромный, до потолка, портрет у пустой стены. Какова обманка! Приближенные, оказывается, не имеют его, они лишь собирают дань с группы, заставляя видеть в себе избранников! Тум-тум-тум. И еще… и сам-то он… не совсем вроде сам, а … гм… На этом открытия не закончились. Потому что за портретом стояла каменная резная чаша, доверху наполненная скрученными записками.
– Нашими упованиями! – ахнула Аннета.
Итак, если не вся, то большая часть группы существовала в режиме упования на спасение в юдоли страха и печали, где Учитель казался Божеством. Безумие о спасении – вот наживка. Она ли не привязывает! Она ли не держит! Чары, настоящие чары. Что-то ей это напоминает…
Да сознает ли это В-нс?!
Она покачала головой.
– Не угадаешь, пускаясь в странствие, в какие края тебя вынесет. Поди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Сколько возможностей у тех, кто научился работать! Жизнь и есть поле возможностей. Вон что, оказывается! Оказывается, вон оно что! И разве это не духовная ценность?
Но В-нс, ее страх перед ним? Всю жизнь искать Человека, чтобы с его помощью выйти из неведенья, а, встретив, беспомощно зависнуть, потеряв волю, в страхе и самоуничижении!
– Скворушка-Скворя, на тебе зерен. На тебе водички, отстоянной, чистой. Пей, Скворушка!
Скворец в большой прутяной клетке посмотрел одним глазом на Тасю, моргнул, посмотрел на Прошу.
– Он меня боится, – сказал Проша.
Скворец стал клевать зерно.
– Нисколько, – прошептала Тася. – Ты ему понравился, Проша. А почему у тебя нет животных? Тебе не хочется?
– Очень хочется, но мама говорит, что у меня ал..але… это когда слезы текут из глаз. Мама рассказывала, что, когда она была маленькая, у нее всегда были кошки. Зато у меня есть муха. Ее зовут Ашка.
Тася округлила глаза.
– Разве мухи еще не спят?
– Моя не спит. Она летает грузно, как плохой самолет, а сидеть любит возле плиты на деревянной картинке.
– А ты бы хотел иметь кого-нибудь?
Проша вздохнул
– У нас в деревне, у папиной бабушки есть собака Шарик. Он живет в конуре. От него у меня не течет ни одна слезинка. Никогда.
Из кухни выглянула Марина.
– У вас все в порядке?
– А скворец клевал зерно при госте. Правда-правда, мама! – темноглазая Тася с длинными косичками чуть застенчиво улыбнулась.
Папы, папы не было у нее, и как же переживало детское сердце!
– Ну, играйте, – Марина закрыла дверь.
Там, в кухне, за накрытым столом сидели еще двое. Аннета и незнакомый ей мужчина лет сорока. Марина пригласила Аннету присмотреться к нему и сказать свое слово. Мужчина понимал это, был прост, внимателен к дамам, рассказывал забавные приличные истории о кинематографе, где занимал немалый пост даже сейчас, когда общие трудности сильно ударили по всем студиям.
– Я не обещаю быстрого роста, но наше кино станет еще краше прежнего, не потеряв русской сердечности и талантов. Не скоро, но так будет.
Жил он один в собственной квартире, держал пса-красавца-боксера, и, почему бы и нет? присватывался к Марине, с которой познакомился у друзей.
– Вот так-то, – задумчиво проговорила хозяйка, одетая в темно-розовое шелковое платье. – А что поделывают наши артисты в известном возрасте? Чем живут? Особенно женщины?
Он вздохнул.
– Их следует только пожалеть. Время уходит, лица забываются, что особенно…– он спохватился и закончил с улыбкой. – Для них существует театр, и многие даже процветают.
На другой день Аннета высказалась перед подругой.
– Мариночка, я не умею и не имею права просматривать других людей. Но я не думаю, что это Он, твой избранник.
– Не избранник, а вариант, – жестковато сказала Марина, не скрывая разочарования.
– Для тебя это не было серьезно, признайся, – голос у Аннеты был мягкий, почти родной. – Тасе нужен не такой папа, разве не видно?
– Я устала, золотце. У-ста-ла.
Они обнялись, сердечные подруги, матери, женщины, идущие сквозь испытания жизни.
По дороге в библиотеку Аннета посидела в редакции, взяла для себя и друзей несколько экземпляров газетки, где появился ее рассказ о детях (автор «Аннета Романцева»), и побежала к метро пешком.
В общем, она уже знала, что В-нс живет где-то поблизости, и то появление на остановке не было чудом. И смутно ожидала новой встречи, даже готовилась к спокойным умным вопросам. Но чтобы так! Электрический ток в сердце и колени пронзил ее. В-нс шел навстречу быстрым широким ходом, и был так поглощен внутренней работой, что его будто бы и не было на тротуаре. Не было лица, а была маска аскета с опущенными сверху вниз веками прямо на впалые щеки. И все это на быстром широком ходу. Аннета отступила к стене дома. Нет, приветствовать его сейчас она не посмеет!
В толчее автобуса среди людей она согрелась, отошла душой, и весь день в библиотеке была тиха и сосредоточена.
Душа болела. Что происходит?
"И пусть не говорят мне о его общительности и веселости, он необходимо бывает таким, что… в общем, я видела. И как не убеждай себя, но явления высшего порядка на обыденном уровне внушают страх, а не доверие. Даже проверки и убедительные успехи помогают мало, все остаются на своих местах: он в своем горнем, и я, мы в своем дольнем!"
После ветреных буранных дней вновь установилась морозная зимняя погода, нечастая в наши изменчивые времена. Что делать! Русская зима все более походит на европейскую с ее бесснежием и дождливыми оттепелями.
Словно молодожены, они стояли, обнявшись, перед панорамным стеклом лоджии. Их чувство словно переливалось из души в душу. Откинув голову на грудь мужу, в кольце его рук, Аннета улыбалась тихой минуте.
Редкие снежинки, словно грибной дождь, падали при солнце. Наступили рождественские каникулы и "старики", Васин с супругой забрали Прошу на несколько дней в мудреный зимний лесной "замок", какой выстроила для себя Корпорация, с бассейном, катком, кинозалом и другими развлечениями. Туда же, в отдельный номер, пригласили и сватью, мать Аннеты, не оставлять же в одиночестве совсем не старую женщину!
Аннета не сомневалась, что это было следствием ее работы. Чуть-чуть изменился мир вокруг, стали иными отношения матерью. Недавно она вновь была у той в больнице и впервые не ощутила долга и жалости, но лишь отстраненное мягкое внимание. Даже до Юрия в его далёке что-то как-то прояснилось, он стал ей писать, и в письмах этих зазвучала теплая родственность, рассказы о морских приключениях, крепкой мужской работе. Она читала их Проше, и тот замирал, широко открыв глаза. Какой необыкновенный у него дядя Юра! Настоящий путешественник! Да, Юрий оказался умницей, даже поэтом, им могло быть так хорошо в детстве! Ну, а сейчас приходилось переступать, напрягаться, кое-как отвечать через скрип и скрежет, потому что в родном семействе она привыкла только защищаться. Обиды детства жгут огнем.
Со второго этажа открывался широкий вид на заснеженные деревья и детский городок. Синей лыжней по длинному овалу опоясывалась белая чаша сквера, и по ней безмолвно скользили ярко-цветные лыжники, то и дело вспыхивали мгновенные молнии их алюминиевых лыжных палок. От прежних лесных времен осталась лишь одинокая, сильно наклоненная липа, растущая на пригорке, своим бедственным положением напоминая Пизанскую башню, приспособленную мальчишками для смелых восхождений и прыжков в сугробы.
– Снежная зима, – с удовольствием сказал Кир, ловя губами завитки на ее шее. – Увидишь, какой будет потоп. И наверняка снесет эту старую липу, под ней и так преогромная промоина.
Аннета переступила с ноги на ногу.
– Жалко будет, – сказала тихо, – ей и так непросто, корнями держится.
Муж улыбнулся и крепче привлек ее к себе.
– Ваш чел разрешает вам кататься на лыжах? – спросил он.
Аннета опустила глаза и не сделала никакого движения.
– Понял, – кивнул он.
– Мне было бы приятно, – с тихим укором проговорила она, – если бы ты изменил тон, говоря об этом человеке.
– Извини, – муж поцеловал ее в щеку. – Извини, но… у меня ощущение, что мы отдаляемся, Аннета. Эти занятия… я не хочу терять жену. Не обижайся, но я намерен подъехать и поговорить с твоим духовником.
– Он не духовник. И говорить с ним не о чем.
– Но ты изменилась, Аннета. Молчишь, напрягаешься, закусываешь губы, когда никто не видит. Я-то вижу. Тебе нужна помощь?
– Я справлюсь.
– Я встревожен, Аннета. У нас ребенок.
– Все будет хорошо, Кир. Дай мне время. Это нелегко.
– Вижу и не понимаю.
– Обещай мне, Кир, ничего не предпринимать.
– Хорошо, я хотел как лучше. Кстати, отцу пришло письмо из Швеции. Окаста жалуется на жизнь, просит прислать новых книг и толстых журналов. Тошно ему, слишком благополучно. Ты можешь это понять?
– Вполне. Окасту в особенности.
Они замолчали. Снег по-прежнему висел в воздухе легким прозрачным занавесом.
– Ой, – произнесла она, глядя вниз, под самые окна, где росли серые кусты смородины и черемухи, несколько лет назад посаженные самими новоселами; нижние этажи бросали туда крошки хлеба для суетливых пернатых обитателей – синиц, воробьев, голубей. Сейчас там, в крикливой суматохе, разгорелась воробьиная ссора, схватка дерзкого гладкого воробья и взъерошенного, обороняющегося его противника.
– Ух, какой драчун! – проговорила Аннета, словно бы воробей мог ее услышать.
– Это не драка, – улыбнулся Кир, – это любовь. Та растрепа – воробьиха, а он ее ухажер…– и засмеялся.
Взъерошенной воробьихе никак не удавалось увернуться от пылкого поклонника, от хищной стремительности, с которой он то вскакивал ей на спину, то мгновенно взлетал и, кидаясь вновь, прижимал ее, растерзанную, к талому снегу.
– Бедняжка, – вздохнула Аннета, – достается ей.
– Мужчина…– самодовольно провел языком по рыжеватым усам ее супруг.
Она качнула головой, на лице ее изобразилась боль, как бывает у добрых женщин при виде чужого страдания. Заметив это, он отстранился.
– Какое сочувствие… Можно подумать, что и тебе, что и ты…
Улыбнувшись, она коснулась языком его губ. Но он не потеплел.
– Я серьезно, Аннета. Может быть, я слишком… и ты… тебе не нужно?
– Ничего не слишком. Всегда тебя жду.
– Ведь мы молодые! И ты все хорошеешь, Аннетуня-душа! – воспрял он и вновь обнял свою жену.
В этот момент воробьихе чудом удалось ускользнуть от своего возлюбленного. Она уцепилась за нижнюю ветку, насилу удерживая падающие крылья, хвост ее расщепился, словно разрозненный веер. Вокруг по веткам, по кустам суетливо запрыгала вся стая. Но назойливый ухажер снова настиг ее, с налету сшиб на снег и вновь принялся пикировать и долбить. Крича разинутым клювом, волоча трепещущие крылья, она побежала по снегу и вдруг кубарем скатилась в глубокую ямку, и забилась под камнем упавшим туда воробьем.
– Дорогая, – зашептал Кир, увлекая жену в глубь комнаты, –единственная…
Воскресный день угасал. На западе засветился слоистый закат. Тени пролегли по скверу, он стал рябым и волнистым, и только тень от старой липы стала короче. Никто не резвился, не катался с пригорка, всеобщая истома выходного дня охватили людей и животных. Среди бела дня опустели улицы, затихло в квартирах, не видно, не слышно стало даже собак. Час, полчаса и затишье сменится вечерним оживлением.
Аннета вновь смотрела в окно.
Тишайшая прозрачность стояла в душе. Среди тревог последних недель такие состояния приходили, словно островки для передышки. Из них, из глубины сокровений, все было событием: изгиб серой ветки, пролет птицы. Вот куда надо отступать – в себя, туда, где обитает она сама. При тихом снеге, в душевной тишине. Пора, пора приниматься за большую работу, именно большую. Согласившись на малое, малое и имеешь. Пора отдавать. Сейчас, когда открылось новое.
Ей нравился вид с балкона. Конечно, с десятого было бы еще краше, но велосипе-ед! – она улыбнулась. Нет, второй этаж лучше. Деревья и птицы заглядывают в окно, близка земная жизнь с детишками, пешеходами, и, к сожалению, машинами. Она обвела взглядом белый сквер, окруженный редким хороводом жилых домов-башен. Окна их то светились вечерними огоньками, то отражали небо, то, как сейчас, горели ранним закатом. Лыжня была тоже безлюдна, лишь один-единственный лыжник в красном свитере мерно бежал круг за кругом, и по измороси на его спине, по усердию, с каким он, хлопая задниками, проносился под окнами, было видно, что само катание ему давно не в радость, а в урок, в принуждение, для каких-то своих прозаических целей.
"Как там наши любовники?" – вспомнила она, переводя взгляд на кусты под окнами.
Там тоже было пусто. На испещренном снегу валялись хлебные корки, но уже никого не привлекали, будто бы тихий час распространялся и на птиц тоже. Из ямки же что-то темнелось, узкое, пряменькое, будто щепка. Палочка или ветка, подумалось Аннете, отчего-то встревоженной в ожидании: не шевельнется ли? Нет, неподвижно. Нет, нет.
И тогда скорым шагом она устремилась в переднюю, поспешно дернула молнии сапожек.
– Ты далеко? – окликнул муж
– Сейчас приду, – невнятно обронила она.
– Да куда же?
– Приду, приду, – и, волнуясь, закрыла дверь.
Уже смеркалось. В синем воздухе стоял снежный аромат, острый зимний холодок. Пробежав по расчищенной дорожке, она обогнула дом, встала напротив своих окон, но за сугробами и кустами, как не старалась, не увидела ничего. И тогда, поминутно проваливаясь в высокий набросанный снег, стала пробираться по отвалу, накопившемуся за тротуаром.
Шагнула раз, другой и остановилась.
В ямке, разбросав перья, с подвернутой головой лежал мертвый воробей. Перья его были влажны, вокруг клюва стыла красная пена, полузакрытые глаза отсвечивали голубизной. Ямка, след человека, была тесна для мертвого, он торчал из нее одним крылом, длинным узким пером.
Аннета присела.
"Так это было убийство, – она коснулась лица, – убийство… а мы-то, боже мой…"
Взмыленный лыжник промчался за ее спиной.
Тело птицы было приятно-мягким, тепловатым, оно безвольно ссыпалось с ладони. Аннета вернулась к подъезду. Положила воробья на снег, постояла и тихо скрылась за дверью.
"За что постигла смерть эту птаху? Какой закон нарушила она? Или он, ее погубитель? Или мир неизъясним, неисследим, и то, что мы понимаем, и то, что пытается развернуть перед нами В-нс – лишь тонкие водяные круги на поверхности омута?"
– Внимание, слушайте все! – захлопала в ладоши староста. – В ближайший вторник идем на лекцию изобретателя Коровякова в кинотеатр "Прага". Есть запрос на всю группу. Без опозданий.
– Мы одни?
– В-нс будет тоже.
Занятия на этот раз закончились не поздно, и можно было не опасаться остановленных эскалаторов на пересадках. Они шли вместе с Тиной. Та была грустна.
– Мне уже не выбраться, Анечка. У меня что ни день, то бой, но чем ни больше работаю, тем дальше увязаю.
– А что он говорит?
– То и говорит. "Если бой – вы уже проиграли". У меня внутри страх и гнев. Они трясут меня постоянно.
– Почему гнев, на кого?
– Ни на кого. Вообще. В-нс говорит, что все мы – представители разных цивилизаций. Кто – земной, белой, кто другой, ближней или дальней. Я же – одной из самый ядреных паразитических цивилизаций во всей Вселенной. А они не жалеют своих носителей.
– Тебе бы поговорить с доктором, принять успокоительного. Посети невролога, хуже не будет.
– А он кто, разве не доктор? Магистр Высшей Вселенской Природы! К кому идти от него?
– К любому, если ты на срыве. Надо отойти от края. Медицина даёт шанс, передышку, потом разберешься. Худая стала, востроносая. Побереги себя. Нельзя заниматься каждую неделю, надо и опомниться, прийти в себя. Разве можно равняться с ним силою!
– Я боюсь.
– Чего?
– Боюсь, что он не одобрит обращения к медицине, увидит в этом измену, недоверие лично к нему. Ведь даже в книге его написано, что путем внутренних разборов многие его ученики излечили себя даже от рака.
– Тебе известны такие случаи?
– Ни одного. Даже напротив…– она замялась.
– Вот, лишний довод. Тина, милая, помоги себе. Жизнь дороже идеи. Кто мы такие, чтобы отвергать медицину? Там работают профессора поумнее нас с тобой. Лечат, ставят на ноги, продляют жизнь. Помогут и тебе.
– Нет, Аннета. Спасибо за участие. Авось как-нибудь. Сама-то как?
– Ничего. Работаю – Аннета улыбнулась.
– Красивая, молодая, – Тина, будучи моложе, разными хитростями стремилась узнать ее возраст. – Работаешь. Получается?
– Кое-что, – Аннета удержалась от откровенности.
…В фойе кинотеатра под стеклянными ограждениями были расставлены приборы изобретателя Коровякова. Круг интересов этого человека был широк, выставка заняла почти все помещение. Привлеченные афишей, на лекцию пришли заинтересовавшиеся жители района. И не знали, куда и смотреть. Окруженный молодежью, между рядами экспонатов медленно двигался В-нс, привлекая внимание своей внешностью: свалянной в две веревки серой бородой, темно-пульсирующими глазами, чистой русской речью, странно-доступной лишь тем, кто его сопровождал.
– Кто это? Кто это? – слышались голоса.
Кто-то даже пристроился было за его спиной послушать, но отошел с недоуменным видом. Ничего не понятно!
"Как он одинок!" – мелькнуло у Аннеты.
Зрительный зал поднимался от сцены непрерывным амфитеатром. В-нс и его свита заняли невысокую середину, остальные разместились, где пришлось.
На сцену вышел изобретатель. Это был уже немолодой человек, коренастый, крупноголовый. Он работал и в Москве, и в Туле, усовершенствуя оружие, и один раз "целую неделю жил в оружейном замкé, и все там понял". Все это говорилось устало, почти безнадежно, видно было, как измучен он непризнанием своих открытий. Он сказал, что времени вообще нет, сказал, что планеты трутся об искривленное пространство, и что одна из них вертится в другую сторону, и еще, еще, скромно, мудро, застенчиво.
В-нс слушал его, не отвлекаясь.
– Человек одинок в поисках истины, – тихо произнес он по окончании лекции, словно отвечая Аннете, ее отозвавшейся душе. – Набрать таких и работать. Все понимает, не то, что вы.
Нарядная, в вышитом платье с украшениями, не в спортивном же костюме ходить в театр! Аннета сбежала к сцене, чтобы рассмотреть приборы и самого Коровякова. Задумчивый, бедновато одетый, он что-то крутил, подбрасывал, заводил, и видно было, что мыслей здесь – на целую энциклопедию, но применить их без заинтересованной помощи ему не удастся никогда.
– Дайте мне ваш телефон, о ́кей? – спросил у него один из молодых людей, окруживших стол. – Мне понравилась ваша лекция.
– И что вы мне нового скажете? – устало произнес изобретатель.
Молодой человек вытащил две визитные карточки, одну из которых протянул изобретателю, а на обороте второй приготовился записать его телефон.
– Я руковожу технической Компанией, мы смогли бы с вами договориться, – сказал он. – Я позвоню, да?
– Валяйте, – вздохнул Коровяков.
…Аннета медленно брела по Петровскому парку.
…"Времени нет" сказал этот человек, – думалось ей. – Моя детская догадка. Древние египтяне и гармоничные греки запрещали делить время. А сейчас оно набрало столь жесткую власть, что все мы стиснуты его обручами, и перешвыриваем туда-сюда каждые полгода. Часы, минуты, секунды! даже малыши на сквере спрашивают: "Тетя, который час?". Каждая часть дня набита "делом": с восьми до восемнадцати – производство с обедом посередине, с двадцати двух – сон. Зато предрассветные, с четырех до шести, недоглядели, поэтому и работается так легко в этой неучтенке. Можно ли выйти из времени? Встать в сторонке: пусть они себе тикают, те, что зовутся часами, и День с Ночью, и Солнце с Землей пусть между собой разбираются, а я буду с улыбкой приветствовать Неизвестный Поток!
Когда начинаешь учиться музыке вместе с ребенком, то не без грусти замечаешь, насколько снижена взрослая восприимчивость. То, что Проше давалось слету, Аннете приходилось долбить и долбить на смех собственному сыну.
– Быстрее, громче, – кричал он, – здесь форте, а не пиано! Ага, мама, значит, я могу быть лучше тебя!
– Можешь и должен, – соглашалась она, – но до фантазии-экспромта номер четыре Шопена нам с тобой еще играть да играть.
Кир слушал их с удивительным чувством, в особенности аккорды Аннеты. Они удавались ей. То, что в доме звучала живая музыка, казалось ему теплым огоньком, если сравнивать его с электрической лампочкой. Он даже принёс витые свечи, чтобы зажигать по две на каждую сторону резного пюпитра. Жена, ребенок, фортепиано… интеллигентное русское чувство охватывало его, он даже уходил из комнаты. А фантазию-экспромт он помнил наизусть, и все годы хотел вживую услышать именно то исполнение, что было у матери на пластинке, и из-за которого он однажды "чуть не убил" пианиста!
Аннета не просто учила ноты, она вслушивалась. Ей даже снились простенькие этюды, где каждая нотка подымала головку и преображалась в нечто прелестно-живое.
"Жалко музыку, – вздохнул некто, узнав о возможном Конце света. – Музыку жалко".
Следующая пятница оказалась сердитой.
Изредка такое, говорят, случалось и раньше. В-нс увидел, что группа отстает от него, и его сильные проходы, многочасовые лекции, энергия и мощь гаснут в глухом топком сопротивлении. Если по-справедливости, то признаки развития были у всех, но люди по-разному поспевали за его стремительным лётом.
– Вы питаетесь моими идеями всю неделю, а проблемы, даже свои собственные, не отрабатываете. Или вы думаете, что мы вам нянька, или что нам больше делать нечего? (Он называл себя во множественном числе, уважая свою миссию на Земле). Ого! Мы-то идем неостановимо, а вы в будущих перерождениях станете тараканами.
И насмешничал, потешался над безмолвными, сидящими на полу людьми, будто зазнавшийся спортсмен перед калеками.
Аннета выпрямилась.
"А хотя бы и тараканами, – возразила она про себя. – Разве не говорил восточный мудрец, что в будущем рождении с уважением готов быть хоть печенью собаки? И разве случайно в русской сказке из гузённой кишочки коровушки вырастает яблонька с золотыми яблочками? Да и как об этом судить, за что бичевать людей? – она вздернула плечи. – Не уверял ли мудрый Вивекананда своих учеников, что они совершенны, но могут стать еще совершеннее? Как же так можно? Право, если бы не издёвки этого великого человека, в группе было бы больше развития…"
– Вот видишь, – тихонько наклонилась к ней Тина. – Такое Сверхсовершенство и так обрушивается на людей! Изобличает в пороках, с которыми им не справиться, и грозит карами, повергая всех в истерику? Чем не воздействие страхом?
Аннета согласно кивнула головой. Подруга Тины, которую за глаза почему-то называли "почтальонкой", выразительно посмотрела на обеих.
– Что я говорила? Мы на крючке и беззащитны перед ним.
Аннета промолчала. Она давно поняла, что тоже проглотила наживку и работала изо всех сил, но, казалось, увязала глубже и плотнее. Вновь вернулись пытошные дни. Особенно люто бывало в метро, где не защищала родные стены: стоило прикрыть глаза, как в грудь вонзались пылающие стрелы, лицо ее страдальчески искажалось настолько, что однажды молодая женщина, стоявшая возле нее у поручня, в порыве сострадания коснулась ее плеча.
– Что с вами? Вам плохо?
В другой раз цыганка, увидев ее муки, взвизгнула злобно и радостно.
– Тебя режут, режут!
Хаос и боль. Чуточку расслабиться можно было в темных, с погашенным освещением, вагонах, но они были редки.
В-нс продолжал.
– Плохой начальник предупреждает своих подчиненных "Работайте, а то уволю", хороший – "Работайте, а то уйду". Рассчитываете отсидеться?
Сзади послышались тихие вздохи-всхлипы.
– Если он уйдет, то и жить незачем. Без него нам конец.
– Вот видите, – снова посмотрела "почтальонка".
– Да нет же, все не так! – шопотом ответила Аннета. – Помните, однажды он сам говорил, смеясь, что в детстве был задирой, от которого доставалось всему двору. Потом, по его словам, он это отработал. Но, – она провела рукой слева направо, – остались полпроцента, которых, при его мощи, достаточно для всех нас.
В зале, между тем, уже говорилось о том, что землянам мешают жить и совершенствоваться иновселеняне, захватившие Землю сорок тысяч лет назад, в Золотой век землян. Об этих противостояниях сохранились былины, сказания, эпос каждого народа как о битвах гигантов. Тогда сущность космических пришельцев была явственна по их облику, но постепенно они заселили тела многих землян, скрыв свою личину. Жестокость, алчность, волчьи порядки принесли они на Землю, в том числе и пшеницу, которая губительна для умственных способностей землян. Вот, в частности почему, согласно воззрению В-нса, тончайшая духовность сохранилась на Востоке, где употребляют чистую земную пищу, в основном, рис. И что землянам надо пройти и это испытание, научившись у пришельцев их сильным качествам. И победить.
– Здесь, среди нас, находятся представители самых зверских кланов этих захватчиков. Посмотрите на них.
Он поднял на ноги почти всех своих шумливых "приближенных" во главе с Тиной, Бобом и старостой.
Группа развеселилась.
Темные глаза Боба смотрели на Аннету. Она тоже смотрела на него. Слишком долгим был этот взгляд и слишком значительным.
Зима продолжалась, с оттепелями, снежными заносами.
– Снег, снег, пушистый снег! – маленькая Тася с цветным рюкзачком за спиной, пританцовывала по тропке. – Снег, снег!
– Мяу! – послышалось откуда-то.
Она остановилась.
– Мяу, мяу, – донеслось снизу.
Она заглянула под скамейку.
– Ах ты, малыш! Кис-кис-кис!
Конечно, это был котенок. Совсем маленький, худенький, а хвостик… ну и хвостик! – хвостик у него был ярко-зеленый от высохшей масляной краски.
– Шалун, – Тася взяла его на руки. – Озорник ты, наверное.
"Узнáешь, узнáешь, – замурлыкал котенок. – Вот я и домашний, домашний"
"Красик"– это от слова "краска". Хвостик-то зеленый! Красенька, Крася.
– Тася, иди погуляй во дворе, – это мама.
– Нет, я лучше с Краськой поиграю.
– Тася, пойдешь на горку после уроков? – это подруги.
– Нет, я лучше с Красенькой побуду.
Холодно котенку без мамы. А Тася согревает его, кормит. Он так и решил, что она – его мама. Зубки у него остренькие, а коготки в лапках цепкие. Поэтому руки у Таси были в сплошных царапинах. Хоть он и шутил с нею по-своему.
Чьи тетради самые чистые в классе? Тасины. А чьи красуются на школьных выставках? Тоже Тасины. И вдруг мама заметила в них маленькие следы, в пять подушечек каждый.
– Это не дело, дочка, – строго качнула головой. – Учеба не должна страдать. Не место котенку на письменном столе.
– Да, мама, – Тася со вздохом сняла котенка на пол.
И бросила на пол клубочек ниток. Ух, что тут началось Обувь в прихожей разлетелась в стороны, со стен сами собой отскочили кусочки обоев.
– Уймись! – кричала Тася.
А он уже под шкафом, выглядывает и смеется. Да, смеется! Глазами.
– У вас котенок появился, да, Мариночка? – с нежностью спросила Аннета.
– Ох, не говори. Глаза бы не смотрели. Таська принесла. Всех-то она любит, всех-то она лечит. Доктором будет.
– Наверное. У меня тоже всегда кошечки жили, – вздохнула Аннета. – И дома, и в Усть-Качке, даже в тайге, огромный котище!
– Ты бы посмотрела на этого! Тощий, лапы высокие, хвост в краске. Но пушистый, глаза зеленые, с приподнятыми уголками. Едва уговорила Таську оставить его, пойти гулять.
– А как же скворец? Это не опасно?
– Скворку выпросили в живой уголок в кукольном театре. Он уже встречает детей своим " Здр-р-равствуйте, дети, пр-р-роходите на пр-р-редставление!"
– В артисты подался! Не скучает она?
– Куда! Теперь у нее котенок.
– Вот я и говорю, наши дети свою жизнь живут, без нас, полны своих чувств и мыслей. Мы для них – питательный бульон.
Марина рассмеялась.
– Питательный бульон, скажешь тоже! Но пусть так.
Они сидели, подстелив под себя пачку газет, на скамейке у детского городка и беседовали, будто давно не видались. Был зимний вечер, на аллее горели фонари, просвечивая сквозь обледенелые ветви берез. Два-три фонаря были темны, потом стоял один исправный, после него опять два-три не работали. Поэтому под единственным светильником лежали на снегу тени ветвей и сучьев, сплетенные в широкие узоры, похожие на огромные кружева из крепких тросов.
– Как твои занятия? – спросила Марина. – Не страшно поздно возвращаться?
– Страшновато. Но есть мысль заниматься до рассвета, всю ночь, пока метро не откроют. Отсыпаться потом не знаю как.
– Не ходила бы ты никуда, подруга. Смотри, как изменилась, чужая, задумчивая. Ты нам нужна, Аннета, сильная, смелая.
– Я и сейчас смелая, Марина.
– Твое напряжение заметно. Извини, но с тобой все в порядке?