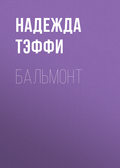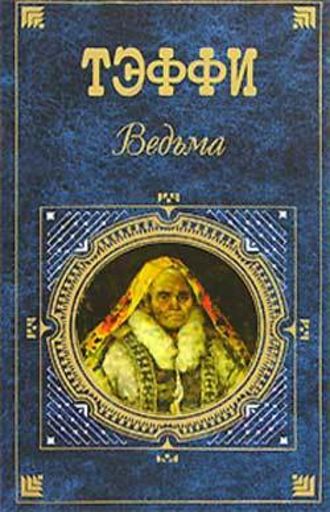
Надежда Тэффи
Ведьма (сборник)
Северные люди
Весь Петроград принялся за изучение английского языка.
Учатся дети, дамы, купцы, чиновники и личности без определенного положения, – вероятно, именно для того, чтобы положение определилось.
Английский язык оказался всем нужен: для дипломатических и торговых сношений, для изучения литературы и быта союзной нации и, наконец, просто для того, чтобы Анна Петровна не слишком много „воображала“.
С французским языком у нас дело обстоит проще. Он как-то постигается сам собою и настолько вошел в русскую душу, что даже на банкетах ораторы, подгоняя речь под финальные рукоплескания, восклицают:
"…Так скажем же уважаемому коллеге наше широкое русское мерси!»
На случай путешествия объясниться с французом или итальянцем даже для человека, кроме «мерси» ничего не знающего, особого затруднения не представляет.
Французы – народ очень смекалистый, не говоря уже об итальянцах. Итальянец при помощи одного какого-нибудь с различной интонацией повторяемого возгласа, рук, глаз и бровей объяснит вам не только себя, но и вас самого, да так, что вы иной раз и не обрадуетесь.
Северяне – дело другое.
Северный народ – шведы, норвежцы, датчане, англичане требуют, чтобы с ними разговаривали непременно на их языке, да не кое-как, а с акцентом и особенностями именно той провинции, где вы находитесь.
Мне рассказывали об одном несчастном русском туристе, который, не зная датского языка, спрашивал у портье в Дании, когда отходит пароход в Англию.
Он показывал на часы, гудел, шипел, крутил одной рукой сзади, будто винтом, выпускал пар, причаливал, чуть не затонул, достиг невероятной силы изобретательности, – портье стоял молча, опустив глаза и не понимал ровно ничего. Окружающие – дело происходило в вестибюле большого отеля – холодно, молча и неодобрительно следили за движениями несчастного страдальца и ничего не понимали.
Он, повторяю, достиг такой необычайной силы изобретательности, что, доведись войти в эту минуту наивному русскому человеку, он непременно удивился бы и спросил:
– Это чего же у них по передней пароход ходит? – А те так и не поняли.
И что они думали, глядя на этого почтенного лысого человека с окладистой бородой, плотной фигурой и озабоченным лицом, который винтил сзади рукой винтом и гудел трубой? Если думали, что сумасшедший, почему же не приняли мер, чтобы успокоить его? Или решили, что просто дурак веселится, и только удивлялись: что, мол, тут занятного? Солидный человек, а такой весельчак.
Другой турист рассказывал, как он в Швеции просил у горничной свечку. Выучив сначала фразу по-шведски:
– Будьте любезны дать мне одну свечу!
Взял пустой подсвечник и вышел в коридор, где, скромно опустив глаза, стояла горничная.
– Будьте любезны дать мне свечу! – с веселой и бодрой улыбкой обратился турист к горничной и для убедительности потыкал пальцем в пустой подсвечник.
Горничная подняла глаза, но ни одна фибра ее лица не дрогнула.
Он повторил фразу четыре раза, все время тыча пальцем в подсвечник.
Наконец какая-то фибра у нее дрогнула, она распялила рот и сказала:
– Яга-а!
И интонация, и мимика были утвердительные, но горничная не сдвинулась.
Турист повторил свою фразу, справился в лексиконе, не переврал ли, – нет, все благополучно.
Задолбил опять. Показывал, как надо вставлять свечу, как зажечь, как все озарится светом, как можно обжечься, сосал обожженный палец, дул на огонь и после этого изображал жестами тьму, – словом, это была целая поэма. А она только повторяла: «Яга-а!» – спокойно, тупо и утвердительно. «Яга-а», – и баста.
«Что она обо мне думает? – мучился разъяренный турист. – Может быть, она решила, что я первый раз в жизни увидел подсвечник и хвастаюсь перед ней, что понял его назначение?»
Он отложил на время жестикуляцию и только медленно и внушительно, держа перед ее носом подсвечник, повторял по-шведски:
– Будьте любезны дать мне одну свечу!
В эту минуту проходила по коридору какая-то женщина, приостановилась, взглянула и сказала по-русски:
– Да вам, барин, верно, свечку нужно?
Это была нянька, приехавшая с русским семейством. Ей достаточно было увидеть разъяренную харю с подсвечником в руке, чтобы понять, что харя добивается свечки.
А горничная, посмотрев на него еще минут пять и подтвердив все, что он делал, вежливым «Яга-а!», сделала реверанс и пошла спать.
Удивительным, свирепым непониманием отличаются наши финны.
Я видела, как один почтенный дачник заказывал своему хозяину к утру извозчика.
Он ржал, прищелкивал языком, кричал «тпру» и «ну», мотал головой, дошел до того, что лягнул собственного сына, – ничего не помогло.
Хозяин-финн мрачно смотрел на это невиданное зрелище, и только когда дачник, подхлестывая себя прутиком, бодро заскакал по дороге к станции, финн поманил к себе пальцем свою жену, и та подошла и встала с ним рядом, и оба молча долго смотрели.
А когда обессиленный страдалец в полном отчаянии упал на крыльцо, финн и финка свысока кивнули ему головой и ушли, и ясно было, что всего виденного они не одобрили.
Дураки
На первый взгляд кажется, будто все понимают, что такое дурак, и почему дурак, чем дурее, тем круглее.
Однако, если прислушаешься и приглядишься, поймешь, как часто люди ошибаются, принимая за дурака самого обыкновенного глупого или бестолкового человека.
– Вот дурак, – говорят люди. – Вечно у него пустяки в голове!
Они думают, что у дурака бывают когда-нибудь пустяки в голове!
В том-то и дело, что настоящий круглый дурак распознается прежде всего по своей величайшей и непоколебимейшей серьезности. Самый умный человек может быть ветреным и поступать необдуманно, – дурак постоянно все обсуждает; обсудив, поступает соответственно и, поступив, знает, почему он сделал именно так, а не иначе.
Если вы сочтете дураком человека, поступающего безрассудно, вы сделаете такую ошибку, за которую вам потом всю жизнь будет совестно.
Дурак всегда рассуждает.
Простой человек, умный или глупый – безразлично, скажет:
– Погода сегодня скверная, – ну, да все равно, пойду погуляю.
А дурак рассудит:
– Погода скверная, но я пойду погулять. А почему я пойду? А потому, что дома сидеть весь день вредно. А почему вредно? А просто потому, что вредно.
Дурак не выносит никаких шероховатостей мысли, никаких невыясненных вопросов, никаких нерешенных проблем. Он давно уже все решил, понял и все знает. Он человек рассудительный и в каждом вопросе сведет концы с концами и каждую мысль закруглит.
При встрече с настоящим дураком человека охватывает какое-то мистическое отчаяние. Потому что дурак – это зародыш конца мира. Человечество ищет, ставит вопросы, идет вперед, и это во всем: и в науке, и в искусстве, и в жизни, а дурак и вопроса-то никакого не видит.
– Что такое? Какие там вопросы?
Сам он давно уже на все ответил и закруглился. В рассуждениях и закруглениях дураку служат опорой три аксиомы и один постулат. Аксиомы:
1) Здоровье дороже всего.
2) Были бы деньги.
3) С какой стати. Постулат:
Так уж надо.
Где не помогают первые, там всегда вывезет последний.
Дураки обыкновенно хорошо устраиваются в жизни. От постоянного рассуждения лицо у них приобретает с годами глубокое и вдумчивое выражение. Они любят отпускать большую бороду, работают усердно, пишут красивым почерком.
– Солидный человек. Не вертопрах, – говорят о дураке. – Только что-то в нем такое… Слишком серьезен, что ли?
Убедясь на практике, что вся мудрость земли им постигнута, дурак принимает на себя хлопотливую и неблагодарную обязанность – учить других. Никто так много и усердно не советует, как дурак. И это от всей души, потому что, приходя в соприкосновение с людьми, он все время находится в состоянии тяжелого недоумения:
– Чего они все путаются, мечутся, суетятся, когда все так ясно и кругло? Видно, не понимают; нужно им объяснить.
– Что такое? О чем вы горюете? Жена застрелилась? Ну, так это же очень глупо с ее стороны. Если бы пуля, не дай бог, попала ей в глаз, она могла бы повредить себе зрение. Боже упаси! Здоровье дороже всего!
– Ваш брат помешался от несчастной любви? Он меня прямо удивляет. Я бы ни за что не помешался. С какой стати? Были бы деньги!
Один лично мне знакомый дурак, самой совершенной, будто по циркулю выведенной круглой формы, специализировался исключительно в вопросах семейной жизни.
– Каждый человек должен жениться. А почему? А потому, что нужно оставить после себя потомство. А почему нужно потомство? А так уж нужно. И должны все жениться на немках.
– Почему же на немках? – спрашивали у него.
– Да так уж нужно.
– Да ведь этак, пожалуй, и немок на всех не хватит. – Тогда дурак обижается.
– Конечно, все можно обратить в смешную сторону.
Дурак этот жил постоянно в Петербурге, и жена его решила отдать своих дочек в один из петербургских институтов.
Дурак воспротивился:
– Гораздо лучше отдать их в Москву. А почему? А потому, что их там очень удобно будет навещать. Сел вечером в вагон, поехал, утром приехал и навестил. А в Петербурге когда еще соберешься!
В обществе дураки – народ удобный. Они знают, что барышням нужно делать комплименты, хозяйке нужно сказать: «А вы все хлопочете», – и, кроме того, никаких неожиданностей дурак вам не преподнесет.
– Я люблю Шаляпина, – ведет дурак светский разговор. – А почему? А потому, что он хорошо поет. А почему хорошо поет? Потому, что у него талант. А почему у него талант? Просто потому, что он талантлив.
Все так кругло, хорошо, удобно. Ни сучка ни задоринки. Подхлестнешь, и покатится.
Дураки часто делают карьеру, и врагов у них нет. Они признаются всеми за дельных и серьезных людей.
Иногда дурак и веселится. Но, конечно, в положенное время и в надлежащем месте. Где-нибудь на именинах.
Веселье его заключается в том, что он деловито расскажет какой-нибудь анекдот и тут же объяснит, почему это смешно.
Но он не любит веселиться. Это его роняет в собственных глазах.
Все поведение дурака, как и его наружность, так степенно, серьезно и представительно, что его всюду принимают с почетом. Его охотно выбирают в председатели разных обществ, в представители каких-нибудь интересов. Потому что дурак приличен. Вся душа дурака словно облизана широким коровьим языком. Кругло, гладко. Нигде не зацепит. Дурак глубоко презирает то, чего не знает. Искренне презирает.
– Это чьи стихи сейчас читали?
– Бальмонта.
– Бальмонта? Не знаю. Не слыхал такого. Вот Лермонтова читал. А Бальмонта никакого не знаю.
Чувствуется, что виноват Бальмонт, что дурак его не знает.
– Ницше? Не знаю. Я Ницше не читал.
И опять таким тоном, что делается стыдно за Ницше.
Большинство дураков читает мало. Но есть особая разновидность, которая всю жизнь учится. Это – дураки набитые.
Название это, впрочем, очень неправильно, потому что в дураке, сколько он себя ни набивает, мало что удерживается. Все, что он всасывает глазами, вываливается у него из затылка.
Дураки любят считать себя большими оригиналами и говорят:
– По-моему, музыка иногда очень приятна. Я вообще большой чудак!
Чем культурнее страна, чем спокойнее и обеспеченнее жизнь нации, тем круглее и совершеннее форма ее дураков.
И часто надолго остается нерушим круг, сомкнутый дураком в философии, или в математике, или в политике, или в искусстве. Пока не почувствует кто-нибудь:
– О, как жутко! О, как кругла стала жизнь! – И прорвет круг.
Экзамен
На подготовку к экзамену по географии дали три дня. Два из них Маничка потратила на примерку нового корсета с настоящей планшеткой. На третий день вечером села заниматься.
Открыла книгу, развернула карту и – сразу поняла, что не знает ровно ничего. Ни рек, ни гор, ни городов, ни морей, ни заливов, ни бухт, ни губ, ни перешейков – ровно ничего.
А их было много, и каждая штука чем-нибудь славилась.
Индийское море славилось тайфуном, Вязьма – пряниками, пампасы – лесами, льяносы – степями, Венеция – каналами, Китай – уважением к предкам.
Все славилось!
Хорошая славушка дома сидит, а худая по свету бежит – и даже Пинские болота славились лихорадками.
Подзубрить названия Маничка еще, может быть, и успела бы, но уж со славой ни за что не справиться.
– Господи, дай выдержать экзамен по географии рабе твоей Марии!
И написала на полях карты: «Господи, дай! Господи, дай! Господи, дай!»
Три раза.
Потом загадала: напишу двенадцать раз «Господи, дай», тогда выдержу экзамен.
Написала двенадцать раз, но, уже дописывая последнее слово, сама себя уличила:
– Ага! Рада, что до конца дописала. Нет, матушка! Хочешь выдержать экзамен, так напиши еще двенадцать раз, а лучше и все двадцать.
Достала тетрадку, так как на полях карты было места мало, и села писать. Писала и приговаривала:
– Воображаешь, что двадцать раз напишешь, так и экзамен выдержишь? Нет, милая моя, напиши-ка пятьдесят раз! Может быть, тогда что-нибудь и выйдет. Пятьдесят? Обрадовалась, что скоро отделаешься! А? Сто раз, и ни слова меньше…
Перо трещит и кляксит.
Маничка отказывается от ужина и чая. Ей некогда. Щеки у нее горят, ее всю трясет от спешной, лихорадочной работы.
В три часа ночи, исписав две тетради и кляпспапир, она уснула над столом.
Тупая и сонная, вошла она в класс.
Все уже были в сборе и делились друг с другом своим волнением.
– У меня каждую минуту сердце останавливается на полчаса! – говорила первая ученица, закатывая глаза.
На столе уже лежали билеты. Самый неопытный глаз мог мгновенно разделить их на четыре сорта: билеты, согнутые трубочкой, лодочкой, уголками кверху и уголками вниз.
Но темные личности с последних скамеек, состряпавшие эту хитрую штуку, находили, что все еще мало, и вертелись около стола, поправляя билеты, чтобы было повиднее.
– Маня Куксина! – закричали они. – Ты какие билеты вызубрила? А? Вот замечай как следует: лодочкой – это пять первых номеров, а трубочкой пять следующих, а с уголками…
Но Маничка не дослушала. С тоской подумала она, что вся эта ученая техника создана не для нее, не вызубрившей ни одного билета, и сказала гордо:
– Стыдно так мошенничать! Нужно учиться для себя, а не для отметок.
Вошел учитель, сел, равнодушно собрал все билеты и, аккуратно расправив, перетасовал их. Тихий стон прошел по классу. Заволновались и заколыхались, как рожь под ветром.
– Госпожа Куксина! Пожалуйте сюда.
Маничка взяла билет и прочла. «Климат Германии. Природа Америки. Города Северной Америки»…
– Пожалуйста, госпожа Куксина. Что вы знаете о климате Германии?
Маничка посмотрела на него таким взглядом, точно хотела сказать: «За что мучаешь животных?» – и, задыхаясь, пролепетала:
– Климат Германии славится тем, что в нем нет большой разницы между климатом севера и климатом юга, потому что Германия, чем южнее, тем севернее…
Учитель приподнял одну бровь и внимательно посмотрел на Маничкин рот.
– Так-с! – Подумал и прибавил:
– Вы ничего не знаете о климате Германии, госпожа Куксина. Расскажите, что вы знаете о природе Америки?
Маничка, точно подавленная несправедливым отношением учителя к ее познаниям, опустила голову и кротко ответила:
– Америка славится пампасами.
Учитель молчал, и Маничка, выждав минуту, прибавила чуть слышно:
– А пампасы льяносами.
Учитель вздохнул шумно, точно проснулся, и сказал с чувством:
– Садитесь, госпожа Куксина.
Следующий экзамен был по истории. Классная дама предупредила строго:
– Смотрите, Куксина! Двух переэкзаменовок вам не дадут. Готовьтесь как следует по истории, а то останетесь на второй год! Срам какой!
Весь следующий день Маничка была подавлена. Хотела развлечься и купила у мороженщика десять порций фисташкового, а вечером уже не по своей воле приняла касторку.
Зато на другой день – последний перед экзаменами – пролежала на диване, читая «Вторую жену» Марлитта, чтобы дать отдохнуть голове, переутомленной географией.
Вечером села за Иловайского и робко написала десять раз подряд: «Господи, дай…»
Усмехнулась горько и сказала:
– Десять раз! Очень богу нужно десять раз! Вот написать бы раз полтораста, другое дело было бы!
В шесть часов утра тетка из соседней комнаты услышала, как Маничка говорила сама с собой на два тона. Один тон стонал:
– Не могу больше! Ух, не могу! – Другой ехидничал:
– Ага! Не можешь! Тысячу шестьсот раз не можешь написать «Господи, дай», а экзамен выдерживать – так это ты хочешь! Так это тебе подавай! За это пиши двести тысяч раз! Нечего! Нечего!
Испуганная тетка прогнала Маничку спать.
– Нельзя так. Зубрить тоже в меру нужно. Переутомишься – ничего завтра ответить не сообразишь.
В классе старая картина.
Испуганный шепот и волнение, и сердце первой ученицы, останавливающееся каждую минуту на три часа, и билеты, гуляющие по столу на четырех ножках, и равнодушно перетасовывающий их учитель.
Маничка сидит и, ожидая своей участи, пишет на обложке старой тетради: «Господи, дай».
Успеть бы только исписать ровно шестьсот раз, и она блестяще выдержит!
– Госпожа Куксина Мария! – Нет, не успела!
Учитель злится, ехидничает, спрашивает всех не по билетам, а вразбивку.
– Что вы знаете о войнах Анны Иоанновны, госпожа Куксина, и об их последствиях?
Что-то забрезжило в усталой Маничкиной голове:
– Жизнь Анны Иоанновны была чревата… Анна Иоанновна чревата… Войны Анны Иоанновны были чреваты…
Она приостановилась, задохнувшись, и сказала еще, точно вспомнив наконец то, что нужно:
– Последствия у Анны Иоанновны были чреватые… – И замолчала.
Учитель забрал бороду в ладонь и прижал к носу. Маничка всей душой следила за этой операцией, и глаза ее говорили: «За что мучаешь животных?»
– Не расскажете ли теперь, госпожа Куксина, – вкрадчиво спросил учитель, – почему Орлеанская дева была прозвана Орлеанской?
Маничка чувствовала, что это последний вопрос, вопрос, влекущий огромные, самые «чреватые последствия». Правильный ответ нес с собой: велосипед, обещанный теткой за переход в следующий класс, и вечную дружбу с Лизой Бекиной, с которой, провалившись, придется разлучиться. Лиза уже выдержала и перейдет благополучно.
– Ну-с? – торопил учитель, сгоравший, по-видимому, от любопытства услышать Маничкин ответ. – Почему же ее прозвали Орлеанской?
Маничка мысленно дала обет никогда не есть сладкого и не грубиянить. Посмотрела на икону, откашлялась и ответила твердо, глядя учителю прямо в глаза:
– Потому что она была девица.
Святой стыд
С утра сильно качало. Потом обогнули какой-то мыс, и сразу стало легче, а к обеду уже все пассажиры выползли из своих кают и только делились впечатлениями.
Толстый бессарабский помещик пил сельтерскую с коньяком и, бросая кругом презрительные взгляды, рассказывал:
– Я всегда геройски переношу качку. Нужно только правильно сесть – вот так. Затем положить оба локтя на стол и стараться ни о чем не думать. Я всегда геройски переношу. Но главное – это правильно сесть.
Совет его не пользовался успехом. Все помнили, как несколько часов тому назад два дюжих лакея волокли его под руки то вверх на палубу, то вниз с палубы, и он вопил не своим голосом.
– Ой, братцы, ой, где же здесь равновесие! – Очевидно, правильно сесть было очень трудно.
После обеда, когда жара спала, пассажиры первого класса собрались на палубе и мирно беседовали.
Герой-помещик ушел отдыхать, и общество оказалось почти исключительно дамским: девять дам и один студент.
Были здесь дамы и молодые, и старые, и нарядные, и уютные, но между ними резко выделялись три, молчаливо признанные всеми «аристократками». Они были не стары и не дурны собой, одеты изящно, вели себя сдержанно и старались держаться особняком. Они и здесь сидели несколько поодаль и в общий разговор не вступали.
К группе беседующих вскоре присоединился и сам капитан.
Это был толстый весельчак, остряк и хохотало. От смеха весь трясся, пучил глаза, и в горле у него что-то щелкало.
– Эге! Да мы здесь в дамской компании! Господин студент, вы себе прогуляйтесь по верхней палубе, а мы, женщины, поболтаем.
Студент сконфузился – он был вообще совсем какой-то белоглазый и тихенький, – сделал несколько шагов и сел на соседнюю скамейку.
– Ну-с, – сказал капитан деловито, – теперь я хочу рассказать вам историйку, которая случилась с одним моим приятелем, тоже капитаном парохода.
История оказалась просто анекдотом, и довольно неприличным. Дамы немножко сконфузились, но, когда одна из них, молодая купчиха, искренне засмеялась, стали смеяться и другие. Студент на соседней скамейке закрывал рот обеими ладонями.
Капитан был очень доволен. Покраснел и даже весь вспотел, точно анекдот ударил ему в голову.
– Ну-с, а теперь я вам расскажу, что произошло с одним дядюшкой, который покупал имение на имя племянницы. Это – факт! Можете смело верить.
Новый анекдот оказался таков, что дамы долгое время только руками отмахивались, а студент ушел на корму и там тихонько захрюкал.
Но сам капитан хохотал так искренне, и в горле у него так вкусно что-то щелкало, что долго крепиться было нельзя, и дамы прыснули тоже.
За рассказом о дядюшке последовала повесть о дьячке и купчихе, затем о двух старухах, о прянике, о железнодорожном зайце, об еврейке и мышеловке, все смешнее и смешнее, все забористее и забористее.
Дамы совсем расслабли от смеха, как-то распарились и осели. Смеясь, уже выговаривали не «ха-ха» и не «хи-хи», а охали и стонали, утирая слезы.
Студент сидел уже тут же и так размяк, что хохотал даже при самом начале каждого анекдота, когда еще ничего смешного и сказано не было, брал на веру.
Капитан же был один сплошной кусок мягкого, сочного, трясущегося смеха. Он весь так пропитался своими анекдотами, что они точно брызгали из него, теплые, щекотные. Да и слушать его не надо было, а только смотреть на эти прыгающие щеки, вспотевшие круглые брови, всю эту колыхающуюся искренним смехом тыкву, чтобы самому почувствовать, как вдруг щеки начинают расползаться и в груди что-то пищать – хи-ы!
После одного особенно удавшегося анекдота капитан повернулся немножко вправо и увидел компанию «аристократок». Они не смеялись. Они вполголоса сказали что-то друг другу, с недоумением пожали плечами и презрительно поджали губы.
«Жантильничают! – весело подумал капитан. – Ну погодите же! Вот я вам сейчас заверну такую штуку!»
Штука удалась на славу. Купчиху пришлось отпаивать водой. Одна из дам, обняв спинку скамейки, уперлась в нее лбом и выла, словно на могиле любимого человека.
Но те три «аристократки» только переглянулись и снова презрительно опустили глаза.
«И этого мало? Эге! – все еще весело думал капитан. – Скажите, какие святоши! Ну так я же вам расскажу про дьячка. Перестанете скромность напускать».
История с дьячком оказалась такова, что даже студент не выдержал. Он вскочил с места, уцепился за борт обеими руками и, как лошадь, рыл палубу копытом.
Одна из дам истерически визгнула по-поросячьему. Остальные плакали и сморкались, и головы у них свисли на сторону.
– Гэ-гэ! – не унимался капитан. – Вы, медам, непременно этот анекдот расскажите своим мужьям. Только не говорите, что капитан вам рассказал. Это неудобно! Это не понравится! Вы прямо скажите, что все это произошло именно с вами. Вот уж тогда наверное понравится! Факт.
Но «аристократки» даже не шевельнулись. «Так я же вас! – взвинчивался капитан. – Какие равноапостольные хари, скажите пожалуйста! Лицемерки! Только веселье портят».
Он все-таки как-то смутился и уже без прежнего аппетита рассказал еще один анекдот.
Слушательницы все равно уже плохо понимали, в чем дело, и только тихо стонали в ответ.
Когда рассказчик смолк, «аристократки» демонстративно поднялись и скрылись в свою каюту. Все общество несколько сконфузилось.
– Уж больно важничают! – сказала купчиха. – Добродетель свою оказывают.
– Ужасно нам нужно! – подхватила другая дама.
– И не поклонились даже! Это чтоб подчеркнуть, что им за нас совестно, что мы такие гадости слушали.
Все разошлись быстро и, скрывая друг от друга свою смущенность, перебрасывались деловыми замечаниями насчет духоты, качки и маршрутов.
Капитан пошел на мостик и, отослав помощника спать, стал у руля.
На душе у него было худо и становилось еще хуже. Никогда ничего подобного он еще не испытывал.
«Старые дуры, чертовки! – думал он. – Ну, положим, я был не прав. Зачем рассказывать такие гадости женщинам. Женщин нужно уважать, потому что из них впоследствии выходят наши матери. А я еще про дьячка!»
Стало так тошно, что пришлось выпить коньяку.
«И те тоже хороши! Квохчут, как индюшки. Интеллигентные женщины! Дома мужья, дети, а они тут всякие мерзости смакуют! И я тоже хорош! Про мышеловку при дамах! При да-а-мах! Ведь это пьяному городовому и то совестно такую гниль слушать! У-у-ф!»
Он вздыхал, томился и в первый раз в жизни испытывал угрызения совести.
– Да, мне стыдно, – говорил он себе после бессонной ночи и бутылки коньяку. – Но что же из этого? Это только доказывает, что я не свинья… Что я могу испытывать святой стыд и могу уважать женщину, из которой впоследствии получается моя мать. Нельзя быть идиотической свиньей. Если ты грязен и из тебя прут анекдоты, то смотри, перед кем ты сидишь! И раз ты оскорбил цинизмом настоящую высокую женщину, то искупи вину!
Он взял ванну, причем, вопреки обыкновению, очень деликатно выругал матроса только скотиной и подлой душой, надел все чистое, хотел даже надушиться, но совсем забыл, как это делается, да и совестно стало.
«Эх ты! Туда же! Еще франтовство на уме в такую-то минуту».
Побледневший и точно осунувшийся, вышел он в столовую, где все ожидали его с завтраком.
Сделав общий поклон, он решительными шагами подошел прямо к «аристократкам» и сказал:
– Сударыни! Верьте искренности! Я так подавлен тем, что позволил себе вчера! Ради бога! Исключительно по необдуманности. Простите меня, я старый морской волк! Я грубый человек в силу привычки! Да-с! Но я понимаю, что подобный цинизм… женщина… при уважении…
– Да вы о чем? – с недоумением спросила одна из «аристократок».
– Простите! Простите, что я осмелился вчера при вас рассказывать!
Он чуть не плакал. Вчерашние хохотуньи отворачивались друг от друга, сгорая со стыда. Бессарабский герой растерянно хлопал глазами. Минута была торжественная.
– Ах, вот что! – сообразила вдруг «аристократка». – Да мы ничуть не в претензии! Просто мы были недовольны, что вы ни одного анекдота не рассказали правильно.
– Да, да! – подхватила другая. – Насчет еврейки вы весь конец перепутали. И про дьячка…
– Про дьячка, – перебила третья, – вы все испортили. Это вовсе не он был под кроватью, а сам муж. В этом-то и есть все смешное…
– Как же вы беретесь рассказывать и ничего толком не знаете! – пожурила его старшая.
Капитан повернулся, втянул голову в плечи и, весь поджавшись, как напроказивший сеттер, тихо вышел из комнаты.