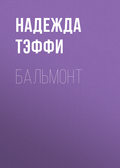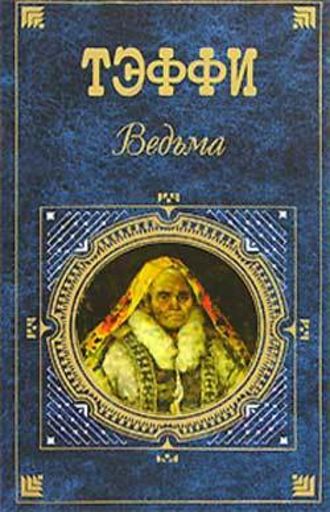
Надежда Тэффи
Ведьма (сборник)
Факир
Великие события начинаются обыкновенно очень просто, так же просто, как и самые заурядные. Так, например, выстрел из пистолета Камилла Демулена начал Великую французскую революцию, а сколько раз пистолетный выстрел рождал только протокол полицейского надзирателя!
То событие, о котором я хочу рассказать, началось тоже очень просто, а великое оно или пустячное, предоставляю догадаться вам самим.
Ровно в пять часов утра на пустынную улицу маленького, но тем не менее губернского города вышел грязный парень, держа под мышкой кипу больших желтых листов.
Парень подошел к подъезду местного театра, поплевал, помазал и пришлепнул к дверям один из желтых листов. Сделал то же и на соседнем заборе.
Трудно только начало, а там пойдет. На каждом углу парень поплевывал и наклеивал свои листы.
Часов с восьми утра к нему присоединились местные мальчишки, и парень продолжал свою работу, сопровождаемый советующей, ободряющей, ругающей и дерущейся толпой.
К вечеру дело было окончено, и, несмотря на то, что городские пьяницы ободрали все углы на цигарки, а мальчишки исправили текст собственными, необходимыми, по их мнению, примечаниями, население города узнало все, что объявлялось на больших желтых листах.
«В четверг сего 20-го июня в городском театре состоится необычайное представление проездного Факира. Прокалывание языка, поражающее техникой, жены мисс Джильды, колотье булавками рук и ног в кровь, разрезывание поперек собственного живота и выворачивание глаза из орбит в присутствии науки в лице докторов и пожелающих из публики.
Разрешено полицией без испытания боли. Цена местам обыкновенная».
Публика заволновалась. В особенности интриговали ее слова: «разрезывание поперек собственного живота». Кого он будет резать? Или сам себе резать живот поперек. И что значит «разрешено полицией без испытания боли»? То ли, что полиция разрешила, если не будет факиру больно, или просто выдала ему разрешение, не отколотив предварительно в участке?
Билеты раскупались.
Молодой купец Мясорыбов, человек непьющий, образованный и даже любивший прихвастнуть, будто «читал Баранцевича в оригинале», отнесся к ожидаемому спектаклю совсем по-столичному. Взял для себя ложу и решил сидеть один. Купил коробку конфет и надел на указательный палец новое кольцо с бирюзой.
Кольцо это Мясорыбов носил редко, потому что сомневался в его истинности. Да и как ни поверни – все лучше ему в комоде лежать: коли камень настоящий – носить жалко, а коли поддельный – совестно. Один армянин советовал, как узнать наверное: «Окуни, – говорит, – ты его в прованское масло. Если бирюза настоящая – сейчас же испортится, и ни к черту! А поддельной хоть бы что». Но совет этот Мясорыбов берег на крайний случай.
В четверг к восьми часам вечера театр был почти полон.
Многие собрались рано, часов с шести, и ворчали, что долго не начинают.
– Видит ведь, что публика уж пришла, ну и начинай!
Мясорыбов пришел по-аристократически, только за полчаса до начала, сел в своей ложе в полуоборот и тотчас же начал есть конфекты. Каждый раз, когда подносил руку ко рту, публика могла любоваться загадочной бирюзой.
Занавес все время был поднят. Посреди сцены стоял небольшой стол, на нем длинная шкатулка. Вокруг стола, в некотором отдалении, – дюжина венских стульев, и, что заинтересовало публику сильнее всего, в углу за пианино сидел местный тапер, пан Врушкевич, и потирал руки, явно показывая, что скоро заиграет.
Наконец вышел факир.
Он был худой и желтый, в длинном зеленом халате, и вел за руку некрасивую, безбровую женщину в зеленом платье, от одного куска с его халатом.
Подошел к рампе, раскланялся и сказал:
– Прошу господ врачей и несколько человек из публики пожаловать сюда.
Галерка вслух удивилась, что он говорит по-русски, а не по-факирски.
На сцену по перекинутой дощечке сконфуженно поднялись два врача: хохлатый земский и лысый вольнопрактикующий. Публика сначала стеснялась, потом полезла всем партером. Факир отобрал восемь человек посолиднее и рассадил всех на места. Затем сбросил халат и оказался в коротких велосипедных штанах и туфлях на босу ногу. В этом новом виде он подошел к рампе и снова раскланялся, точно боялся, что без халата не приняли бы его за кого другого.
Галерка зааплодировала.
Тогда он повернулся к таперу.
– Попрошу музыку начинать!
Пан Врушкевич колыхнулся всем станом и ударил по клавишам. Уши слушателей сладостно защекотал давно знакомый вальс «Я обожаю».
Факир открыл свою шкатулку, вытащил длинную шпильку, вроде тех, которыми дамы прикалывают шляпки, и подошел к жене.
– Мисс Джильда! Попрошу сюда вашего языка.
Мисс Джильда сейчас же обернулась к нему и любезно вытянула язык.
– Раз, два и три! – воскликнул факир и проткнул ей язык шпилькой.
– Попрошу свидетельства науки! – сказал факир, обращаясь к врачам.
Те подошли, посмотрели, причем земский, как более добросовестный, даже присел, подглядывая под язык Джильды с изнанки. Затем оба смущенно сели на свои места.
Факир взял жену за руку и повел по дощечке к публике. Там она стала проходить по всем рядам.
Зрители, мимо которых она проходила, отворачивались, и видно было, что многих тошнит.
Мясорыбов прикрыл глаза рукой.
– Довольно уж! Довольно! – стонал он.
– Довольно! – подхватили и другие.
Но факир был человек добросовестный и поволок свою жену с языком на галерку.
Там какая-то баба вдруг запричитала, и ее стали выводить.
Обойдя всех, факир вернулся на сцену и вытащил шпильку.
Все вздохнули с облегчением.
Факир достал из шкатулки другую шпильку, подлиннее и потолще.
Увидя это, пан Врушкевич переменил тон и заиграл «Смотря на луч пурпурного заката».
Факир подошел к рампе и проткнул себе обе щеки, так, что головка шпильки торчала под правой скулой, а острие из-под левой. В таком виде, показавшись сконфуженным докторам, он снова двинулся в публику.
– Ой, довольно! Ой, да полно же! – вопил Мясорыбов и от тошноты даже выплюнул конфетку изо рта.
– О, господи! – роптала публика. – Да нельзя же так! – Но честный факир честно ходил между рядами и поворачивался то правой, то левой щекой.
– Ой, не надо! – корчилась публика. – Верим-верим. Не надо к нам подходить! И так верим!
Какой-то чиновник, подхватив под руку свою даму, быстро побежал к выходу. За ним следом сорвались с места две барышни. За ними заковыляла старуха, уводя двух ревущих во все горло девчонок; по дороге старуха наткнулась на факира, свершавшего свои рейсы как раз в этом ряду, шарахнулась в сторону, толкнула какую-то и без того насмерть перепуганную даму. Обе завизжали и, подталкивая друг друга, бросились к выходу.
Но больше всех веселился Мясорыбов.
Он сидел в своей ложе, повернувшись спиной к залу, и даже заткнул уши. Изредка осторожно оборачивался, смотрел, где факир, и, увидя его, весь содрогался и прятался снова.
– Довольно! Ох, довольно! – стонал он. – Нельзя же так!
А пан Врушкевич заливался: «Стояли мы на берегу Невы!»
Но вот факир снова на сцене. Все обернулись, ждут, надеются.
Из дверей выглянули бледные лица малодушных, сбежавших раньше времени.
Факир вынул три новые шпильки. Одной он проткнул себе язык, не вынимая той, которая торчала из щеки, две другие всадил себе в руки повыше локтя, причем из правой вдруг брызнула кровь.
– Настоящая кровь, – твердо и радостно определил земский хохлач.
«Гайда, тройка! – раскатился пан Врушкевич. – Снег пушистый!»
Кого-то под руки поволокли к выходу.
Полицейский, зажав рот обеими руками, деловым шагом вышел из зала.
Зал пустел.
Мясорыбов уже не оборачивался. Он весь скорчился, закрыл глаза, заткнул уши и не шевелился.
– Уйти бы! – томился он, но какая-то цепкая ночная жуть сковала ему ноги, и он не мог пошевелиться. Зато волосы на его голове шевелились сами собой.
Когда факир обошел стонущие ряды своих зрителей, умолявших его вернуться на место и перестать, Мясорыбов инстинктивно обернулся и увидел, как факир, вытащив из себя все шпильки, радостно воскликнул:
– Ну-с, а теперь приступим к выворачиванию глаза из его орбиты и затем между глазом и его вместилищем просунем вот эту палочку.
Он подошел к шкатулке, но уже никто не стал дожидаться, пока он достанет палочку. Все с криком, давя и толкая друг друга, кинулись к выходу. Иные, быстро одевшись, бросились сломя голову на улицу, другие опомнились и стали любопытствовать:
– Что-то он там теперь? А? Может быть, уже вывернул, тогда можно, пожалуй, и вернуться. А?
Какой-то долговязый гимназист приоткрыл дверь и взглянул в щелочку.
«Поцелуем дай забвенье!» – нежно пламенел пан Врушкевич.
– Ну, что? Вывернул?
– Постойте, не давите мне спину, – важничал гимназист. – Нет, еще выворачивает.
– О, господи! Ой, да закройте вы двери-то! – закорчились любопытствующие, но через минуту раззадоривались снова.
– Ну, а как теперь? Да вы взгляните, чего же вы боитесь, экой какой! Выворачивает? Ой, да крикните ему, что довольно, господи!
– Иди, брат Мясорыбов, домой, – сказал сам себе Мясорыбов. – Не тебе, брат Мясорыбов, по театрам ходить. С суконным рылом в калашный ряд. По театрам ходят люди понимающие и с культурной природой. А ежели тебе, брат Мясорыбов, скучно, так на то и водка есть!
Мясорыбов спился.
Коварный старик
Марья Степановна ужасно удивилась, когда утром прислуга доложила ей:
– Вас, барыня, от князя Засимского к телефону просят.
– Да не перепутала ли ты? Верно ли, что от Засимского?
Вскочила с постели, дрожащими руками набросила капот и побежала к телефону.
Так как бежать пришлось через всю столовую, шагов не менее двадцати, то за это время Марья Степановна все обдумала и все поняла. Да и не так уж это быстро, как, может быть, покажется на первый взгляд, по народной пословице: «Пока баба с печи летит, тридцать три думы передумает», а Марья Степановна куда больше времени потратила, чтобы до телефона добежать.
А дума, которую передумала Марья Степановна, была одна, зато какая!..
Князь Засимский – это то самое высокопоставленное лицо, у которого она пять дней тому назад была на приеме с прошением.
Она уже и тогда заметила, что князь был чрезвычайно с нею любезен. Но по присущей ей скромности объяснила это его светскостью и благовоспитанностью.
И вдруг теперь, в первый день праздника, он позвонил к ней!.. Откуда он узнал номер телефона?
Ах да, курьер записал…
Как это все удивительно!.. Видел только раз и вдруг… Она будет с ним кокетлива, но очень сдержанна. Ни одного поцелуя!.. Ни одного!..
– Нет, – скажет, – нет, князь. Я люблю вас, но… Какой вы безумный!.. Нет, не мучь меня…
Дрожащей рукой взяла она телефонную трубку и сказала кокетливо:
– Я слушаю!..
– Госпожа Синицына?
– Да, я, Марья Степановна.
– От князя Засимского. Приказано вам передать, что третьего января можете явиться к ним в канцелярию, вам там выдадут справку по вашему делу.
– И… больше ничего?
– Ничего-с.
Марья Степановна долго сидела ошеломленная. Все это показалось ей неслыханной обидой.
– После всего, что было, – горько думала она, – и вдруг передает через лакея… Какие мужчины подлецы!..
И только отойдя от телефона, сообразила, что, в сущности, ведь ровно ничего не было и для дела так даже очень хорошо, что в канцелярии ей выдадут справку.
Но все-таки чувство обиды осталось.
Вечером Марья Степановна была в гостях.
– Вы сегодня какая-то загадочная, – сказал ей сердцеед акцизный.
Марья Степановна усмехнулась и неожиданно для себя самой сказала:
– Это может быть оттого, что у меня сегодня был сиятельный телефон.
– Какой? – изумился сердцеед.
– Сиятельный. Ко мне звонил один князь, имени его не скажу. Очень интересно.
– Кто же это такой?
– Я же вам говорю, что не скажу его имени. Начинается на «За», а кончается на «симский».
– Может быть, Засимский?.. Неужели сам Засимский?.. – заволновался сердцеед. – Вот так история!..
Марья Степановна загадочно улыбалась.
– И скажите… нескромный вопрос… это серьезно?
– Не-е зна-аю.
Акцизный поцеловал ей руку и побежал сплетничать.
– Вы слышали новость насчет Синицыной и князя Засимского?..
– А что?
– Да неужели ничего не слыхали?.. Все давно знают.
– Быть не может!..
– Ну вот еще, спорить будете!..
– Удивительно, что она в нем нашла? Старик, некрасивый…
– Старик?! А титул, а общественное положение?..
– Действительно! Одного не понимаю – что он в ней нашел? И давно это у них?
– Не знаю наверное, но, кажется, года два, – опираясь на собственную интуицию, определил акцизный.
Собеседница его немедленно оделась и поехала к Ручкиной, приятельнице Синицыной.
– Ах, Анна Петровна! Все-таки это ужасно. Бедная Марья Степановна! Так подпасть под влияние этого старикашки Засимского! И что она в нем нашла? Хоть бы вы на нее как-нибудь воздействовали.
Анна Петровна обиделась, что все, по-видимому, знают об этой интересной истории, а Синицына, несмотря на свою дружбу, от нее все скрыла.
– Н-да, – притворилась она, что давно все знает. – Я много раз ставила Мари на вид ее недостойное поведение. Но ведь она так упряма. У нее прескверный характер.
– Да, да, вы правы, – обрадовалась гостья. – Синицына и заносчива, и неприятна. Не понимаю, что он в ней нашел, этот несчастный старик? И говорят, это уже давно, чуть не десять лет.
– Да, да. Я знаю. Этот роман уже не новость. У них взрослые дети.
– Какой ужас, какой ужас!.. – радовалась гостья. Вечером Анна Петровна отправилась к Синицыной.
– Мари!.. – сказала она трагически. – Не отрицай – я все знаю.
– Ты о чем? – удивилась Синицына.
– О чем? О вашем романе с князем Засимским, вот о чем!.. – отчеканила Анна Петровна. – И тебе не стыдно? Зачем ты скрыла от меня? И это называется дружбой?!
– Ах, Анета! – испугалась Синицына. – Я сама ничего не понимаю! Ради бога, скажи скорей, что про меня говорят?
– Да все. Все известно. Скажи только – давно это у вас?
– Ничего не понимаю… Должно быть, с сегодняшнего утра.
– Как? Ты любишь его только с сегодняшнего утра? – удивилась гостья.
– Нет, я, напротив, я отвергаю его. Я сразу решила – ни одного поцелуя…
– А он?
– Я… ничего не знаю, – искренно призналась Синицына.
– Так, значит, это ложь, этот ваш многолетний роман? Мари, заклинаю тебя, говори правду!..
– Многолетний роман? Ничего не понимаю. Я видела его всего один раз и почувствовала, что он потерял голову. И… больше ничего. Я неприступна…
Гостья расчувствовалась.
– Дорогое дитя мое! Какой ужас! Так это, значит, он сам распускает о тебе гнусные слухи и портит твою репутацию! О, низкий человек!..
– Ты думаешь? Зачем же это ему?
– Чтобы лучше поймать тебя в свои сети. Женщина с испорченной репутацией, сама понимаешь, уж не будет особенно дорожить собой.
– Какой он, однако, тонкий человек! – с плохо скрытым восторгом прошептала Синицына. – И какой хитрый! Знаешь, Анета, он делал вид, что велел мне звонить только из-за моего дела. Ха-ха! Я-то, положим, сразу догадалась.
– Ну, будь же осторожна с этим коварным стариком, – посоветовала подруга, уходя.
А Синицына, оставшись одна, села к туалетному столу и долго рассматривала свой профиль в два зеркала. Потом чарующе-гордо улыбнулась и сказала, кивнув себе головой:
– Здравствуй, княгиня Засимская!..
Нелегкая
Это было самое страшное святочное приключение, какое когда-либо доводилось мне слышать.
А тут вдобавок, очевидно не без содействия самого дьявола, мне пришлось даже сыграть некоторую роль, быть не последней спицей в этой сатанинской колеснице.
Постараюсь рассказать все подробно и, насколько могу, спокойно.
Семейство Федоровых состояло из мужа и жены, милых и веселых молодых супругов.
Я у них бывала редко и почему-то (вот здесь-то, по-моему, не без дьявола) вспомнила о них именно под рождественский сочельник двадцать третьего декабря. Мало того, что вспомнила, – решила пойти посидеть у них вечером.
Зачем мне это понадобилось – до сих пор понять не могу. Просто, выражаясь красочным народным языком, «понесла меня к ним нелегкая», а раз человека несет, то роль его не активная, а пассивная, и никаких причин и аргументаций от него требовать не полагается.
Принесло меня к Федоровым довольно поздно, и я не застала их дома, а горничная очень настоятельно просила меня подождать.
– Барыня телефонировала, что обязательно к половине двенадцатого дома будут, а потом барин телефонировали, дома ли барыня, и обещали, что скоро придут.
Я решила вернуться домой, но та самая «нелегкая», которая понесла меня к Федоровым, очевидно, не хотела выпустить меня из рук, пока не добьется своего. Она заставила меня снять пальто, понесла в гостиную, забила в мягкий угол дивана, завалила под спинку подушку и сунула в руки альбом с хозяйскими тетками.
На девятой тетке раздался звонок, и влетела оживленная, раскрасневшаяся хозяйка.
– Ах, дорогая моя, как хорошо, что вы пришли! Мы сейчас будем пить чай. Мужа еще нет? Знаете – теперь прямо мука достать из театра извозчика. Я так боялась, что опоздаю, бежала как сумасшедшая. Я красная?
– Чего же вы так торопились? – удивлялась я.
– Как же! Мне не хотелось, чтобы вы меня ждали.
– А почем же вы знали, что я приду? – еще больше удивилась я.
Она смущенно засмеялась.
– Ах, это я так… все путаю. Мне просто хотелось скорее домой; думаю про вас – вдруг она зайдет? Не заходит, да вдруг и зайдет. Что, я очень растрепанная?
Минут через десять влетел муж. Тоже розовый, тоже оживленный и также неистово обрадовался, увидя меня, и также принялся разделывать извозчиков.
– Сущая беда с ними! Если бы я не был таким страстным театралом, ни за что бы не ходил по театрам. Сущая мука! Сегодня, например, пришлось из театра пешком бежать. А ты, Лизочка, дома была?
– Да, я была дома, – начала было Лизочка, но, взглянув на меня, быстро затараторила, – то есть… что я все путаю… Я сама только что пришла. Я была в балете.
– В каком балете? – вяло полюбопытствовала я.
– В этом… как его… знаете, еще где цветок, а потом танцуют… Чудесный балет. Я обожаю балет «Корсар», «Дон-Кихот». Я знаю наизусть прямо каждое па. А ты, Жорженька, где был?
– А я, сама знаешь, неисправимый меломан. Опять был в опере.
– А что там шло?
– Да опять этот… чуть ли не в двадцатый раз слушаю и наслушаться не могу. Прелесть! Сплошное очарование! Как возьмет свое верхнее ля, так из меня слезы в три ручья. Ей-богу, сегодня опять рыдал, как ребенок.
– Да какая опера-то шла? – тускло, без интереса напирала я.
– Ну конечно же этот… «Евгений Онегин»… Лизочка, ты бы нам чаю дала. Правда, прелесть моя Лизочка! Носик розовый! Лизочка, наморщи носик, я его поцелую!
– Ах, перестань, Жорженька! Ну какой ты, право! Знаете, я его называю электрическая целовалка: «чмок-чмок». Вечно ему целоваться. Я, может быть, сама хочу тебя поцеловать! Хи-хи!
– Подождите, – мрачно остановила я. – Вы лучше расскажите, кто сегодня пел?
Сама не знаю, какое мне до всего этого было дело. Ну не все ли равно, кто пел. Все равно – попел и перестал. Да и не любопытно мне совсем…
– Кто пел, – засуетился Жорженька. – Сейчас я вам расскажу. А ты, Лизочка, беги насчет чаю. Беги, беги, нечего, нечего! Кто пел! Вас интересует, кто пел? А разве вы тоже любите музыку? Вот никогда бы не подумал. А я, знаете, обожаю музыку.
– Кто пел сегодня? – мрачно перебила я.
– Я же вам сказал: «Евгений Онегин». Чудесный состав. А вот и Лизочка. Идемте чай пить.
– Так кто же, наконец, пел! Или вы от меня почему-нибудь это скрываете?
Он испуганно взглянул на меня и вдруг забормотал скороговоркой:
– Ну да, как всегда, в Мариинской опере… Евгения… Евгения пел Тартаков, а Онегина – Збруева. Лизочка, мне, пожалуйста, с лимоном. Какая ты сегодня розовая, Лизочка! Весело было в театре?
– Ах да! Я обожаю балет.
– А кто сегодня танцевал? – мрачно вела я свою линию.
– Да эта… знаете, такая воздушная… Егорова. Я обожаю Егорову.
– А какой же это балет был?
Но хозяйка не ответила. Ей показалось, что звонит телефон, и она убежала в кабинет мужа. Когда она вернулась, я повторила свой вопрос, но она вдруг захохотала.
– Жорженька, миленький! Расскажи тот анекдот, который ты вчера рассказывал. Помнишь, про армянина?
Но Жорженька ничего не помнил, и она сама рассказала старый дурацкий анекдот и так неестественно весело при этом хохотала, что я прямо из чувства деликатности перевела разговор на другую тему и спросила:
– А какой сегодня шел балет в Мариинском театре?
– «Лебединое озеро», можно вам еще чаю, вот это варенье очень вкусное, я его сама варила, только у Абрикосова, а у Балабухи такого нет, – не переводя дыхания отбарабанила она.
– Мерси, – отвечала я с достоинством. – Я еще не выпила своей чашки. Подождите, я что-то никак не могу понять… Георгий Иванович был в Мариинском театре и видел «Евгения Онегина», а Лизавета Петровна в тот же вечер там же видела балет! Как же это может быть?
Они почему-то долго молчали. Только нос у Георгия Ивановича странно побелел, а у Лизаветы Петровны щеки раздулись, покраснели и задрожали…
– Оч-чевид-но, – залепетала она, – был сборный спектакль…
– Ну да, конечно, – воскликнул муж и даже вскочил с места. – Разве вы не знаете. Это очень часто бывает… в пользу инвалидов.
– Да, да! – улыбнулась хозяйка. – Ну конечно же в пользу инвалидов. Только я оперы не люблю и просидела только балетное отделение. Перейдем в гостиную, вы нам что-нибудь споете.
– Спасибо, я не пою.
– Отчего же?
– Голоса нет.
– Ну, при своих можно. А у нас завтра елка будет.
– Да, да! – веселился муж. – Лизочка у меня маленькая, и я ей на елочку подарю розочку.
– Сам бяка! – резвилась Лизочка.
– Позвольте! – остановила я. – Завтра, значит, сочельник?
– Ну да, конечно! Сочельник, сочельник, тра-ля-ля-ля!
– Так в каком же вы, позвольте вас спросить, Мариинском театре были, когда под сочельник все театры закрыты?
А? Все до одного. Не то что казенные, а даже и частные, и те все закрыты. А?
Я больше не видала их – милых и веселых супругов Федоровых, но никогда не забуду странные лица, которые были у них обоих, когда «нелегкая», сделав свое дело, натягивала на меня шубу и уносила домой.
Лица эти долго будут вспоминаться мне в темную рождественскую ночь, когда вьюга стучит в окно, как запоздалый путник, просящий ночлега.
Жутко!