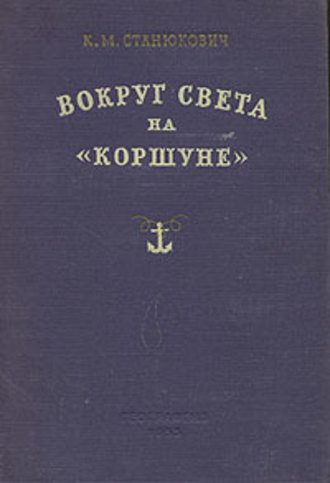
Константин Станюкович
Вокруг света на «Коршуне»
III
Дня через три после этой встречи Ашанин взял «двойку» и отправился на «Маргариту».
Нечего и говорить, что и капитан «Маргариты», и особенно гостивший у него старик-капитан встретили молодого человека с задушевной приветливостью и той простотой, которой отличаются вообще моряки.
Так как время было послеобеденное, то Ашанину предложили выпить рюмку хереса. Все трое прошли из просторной капитанской каюты на балкон и уселись там. На балконе было не так жарко: довольно ровный ветер, дувший с моря, веял прохладой. Перед глазами расстилался рейд и видны были входившие с моря суда и джонки.
Оба капитана, довольно усердно потягивающие херес и покуривавшие свои пенковые трубочки, расспрашивали своего гостя о России, о тамошних порядках и сами в свою очередь рассказывали различные эпизоды из своей морской жизни. Так прошел час, и Ашанин было уже думал распроститься с гостеприимными моряками, но старик-капитан снова стал рассказывать о своем недавнем несчастье, и уйти было неловко.
В то время, когда капитан Смит проклинал подлецов-пиратов и жаловался на свое правительство, находя, что оно недостаточно круто обращается с Китаем, к корме «Маргариты» приближались одна за другой три джонки под парусами, шедшие с моря. Они, видимо, собирались, как выражаются моряки, «резать корму» стоявшего на пути судна. Первая джонка прошла, не обратив на себя ничьего внимания, но когда вторая джонка, слегка накренившись, проходила мимо, старик капитан случайно взглянул на нее… и вдруг глаза его словно бы застыли, устремленные на китайца, правившего рулем. Бледный, с лицом, выражавшим и изумление и злобную радость, капитан схватил руку своего приятеля и прошептал задыхающимся голосом:
– Они… они…
– Кто они?
– Они… Я его узнал… мерзавца… Это те пираты, которые напали на меня… Шлюпку, скорей шлюпку… Я сейчас дам знать нашему станционеру, чтоб их за держали.
– Да вы не ошиблись ли, Смит?
– Ошибся? Я эту рожу никогда не забуду… Он первый вошел на «Джека» и первый хватил меня топором… Шлюпку… Вот-то счастливая случайность, сэр! – обратился старик к Ашанину. – Не сиди я в эту минуту на балконе… Видно, сам бог захотел наказать злодеев.
Через несколько минут оба капитана отправились на вельботе на английскую военную канонерскую лодку, а Володя поехал на корвет.
На другой день он опять был на «Маргарите» и старик-капитан с радостью сообщил, что все три джонки арестованы, и люди с них заключены в тюрьму. Улики были налицо: на джонках нашли часть награбленного груза и вещей с «Джека» и несколько китайцев были ранены огнестрельным оружием.
– Сознались они?
– Сперва и не думали, но когда я был у следственного судьи и меня увидал этот дьявол, ранивший меня, он… испугался, точно встретил привидение, и тогда рассказал все. И я не ошибся… он был один из начальников.
Дня за два до ухода «Коршуна» из Гонконга, рано утром, пятеро главных пиратов были повешены. Остальные приговорены к каторжным работам.
Мистер Смит приезжал на корвет звать Ашанина посмотреть, как вздернут пятерых злодеев на виселицу, но Володя отказался от такого зрелища, к крайнему удивлению старика-капитана.
Из газет Ашанин узнал, что все пятеро шли на казнь с покорным равнодушием, обычным, впрочем, в такой стране, как Китай, где жизнь человеческая не очень-то ценится и нередко находится в зависимости от вопиющего произвола.
* * *
Во время двухнедельной стоянки в Гонконге пришлось одному матросу с «Коршуна» познакомиться с английским судом.
Молодой, добродушный матросик Ефремов во время гулянки на берегу выпил лишнее и, возвращаясь на пристань к баркасу, горланил песни… Уж он был недалеко от шлюпки, когда полисмен (из сипаев) сделал Ефремову замечание, что кричать на улице не годится. Разумеется, матрос этого не понял и выругал полисмена на родном диалекте. В свою очередь и полисмен, по счастью, не догадался, каким оскорблениям подверглась в его лице власть, но, увидав, что матрос продолжает петь песни, заговорил решительнее и серьезнее и взял матроса за руку… Пьяный, вероятно, обиделся и, ни слова не говоря, съездил по уху полисмена, повергнув почтенного блюстителя порядка в изумление, которым матрос не преминул воспользоваться: он вырвался из крепкой руки полисмена и в минуту уже был на баркасе. Объяснение полисмена с гардемарином, сопровождавшим команду, не удовлетворило полисмена. Он требовал ареста виновного при полиции до разбора дела, но гардемарин не согласился, и баркас отвалил.
На другой день капитан получил официальную бумагу, в которой просили прислать виновного к судье для разбирательства дела.
Ашанин, как знающий английский язык, был послан в качестве переводчика и защитника.
В довольно большой судейской камере на возвышении восседал толстый и румяный джентльмен-судья и произнес:
– Дело об оскорблении действием полисмена Уйриды русским матросом Ефремовым.
В немногочисленной публике, сидящей на скамьях, легкое волнение. Все не без любопытства смотрят на белобрысого, курносого матроса Ефремова, сконфуженное лицо которого дышит добродушием и некоторым недоумением. Он сидит отдельно, сбоку, за черной решеткой, рядом с Ашаниным, а против них, за такой же решеткой, высокий, стройный и красивый сипай, с бронзово-смуглым лицом и большими темными, слегка навыкате глазами, серьезными и не особенно умными.
– Полисмен Уйрида, расскажите, как было дело. Помните, что по закону вы обязаны показывать одну только правду.
Полисмен Уйрида начал довольно обстоятельный рассказ на не совсем правильном английском языке об обстоятельствах дела: о том, как русский матрос был пьян и пел «более чем громко» песни, – «а это было, господин судья, в воскресенье, когда христианину надлежит проводить время более прилично», – как он, по званию полисмена, просил русского матроса петь не так громко, но русский матрос не хотел понимать ни слов, ни жестов, и когда он взял его за руку, надеясь, что русский матрос после этого подчинится распоряжению полиции, «этот человек, – указал полисмен пальцем на „человека“, хлопавшего напротив глазами и дивившегося всей этой странной обстановке, – этот человек без всякого с моей стороны вызова, что подтвердят и свидетели, хватил меня два раза по лицу… Вот так, господин судья».
И полисмен наглядно показал, как русский матрос «хватил» его.
– Синяк до сих пор есть. Не угодно ли взглянуть, господин судья… Вот здесь, под левым глазом…
– Ну, однако, небольшой, кажется? – заметил серьезно судья.
– Небольшой, господин судья.
– Советую примачивать арникой… скоро пройдет.
– И так пройдет, господин судья! – добродушно проговорил сипай.
Тогда судья повернул голову в сторону, где сидел русский матрос, и проговорил, обращаясь к Ашанину:
– Потрудитесь сообщить обвиняемому показание истца.
Ашанин изложил Ефремову сущность показания и спросил:
– Верно он показывает, Ефремов?
– Должно, верно, ваше благородие… Помню, что вдарил арапа, ваше благородие!
Володя поднялся и сказал судье, что перевел показание истца.
Тогда судья обратился к Ефремову и сказал:
– Подсудимый, встаньте!
– Встань, Ефремов!
– Есть, ваше благородие! – ответил, вскакивая, Ефремов.
– Подсудимый, расскажите по чистой совести, как было дело… Согласны ли вы с обвинением истца или не согласны?..
– Рассказывай, Ефремов.
Ефремов моргал глазами и молчал.
– Да говори же что-нибудь, Ефремов! И смотри на судью, а не на меня…
– Слушаю, ваше благородие, но только доказывать мне нечего, ваше благородие.
– Да ты не доказывай, а расскажи, как все случилось.
Ефремов тогда обратился к судье и, глядя на него, словно бы на старшего офицера или на капитана, начал:
– Шел я это, вашескобродие, на пристань из кабака и был я, вашескобродие, выпимши… Однако шел сам, потому от капитана приказ – на корвет являться как следует, на своих ногах… А этот вот самый арап, вашескобродие, привязался… Лопотал, лопотал что-то по-своему – поди разбери… А затем за руку взял… я и подумай: беспременно в участок сволокет… За что, мол?.. Ну, я и треснул арапа, это точно, вашескобродие… Отпираться не буду… А больше нечего говорить, вашескобродие, и другой вины моей не было.
Ашанин перевел речь матроса с некоторыми изменениями и более связно и прибавил, что Ефремов не отрицает показания полисмена и сознает свою вину…
– Свидетелей, значит, можно и не допрашивать! – обрадовался судья.
И вслед за тем, выразив сожаление, что русский матрос употребил напитков более чем следовало, приговорил Ефремова к трем долларам штрафа в пользу потерпевшего.
Тем дело и кончилось. Штраф Ашанин немедленно же внес, получил квитанцию и вместе с обрадованным матросом отправился на корвет.
– Ну, что, доволен судом? – спрашивал Ашанин.
– Очень далее доволен, ваше благородие… А я сперва, признаться, струсил, ваше благородие, – прибавил матрос.
– Чего?..
– Полагал, что за полицейского арапа беспременно отдерут, ваше благородие.
– У англичан, брат, людей не дерут.
– То-то, значит, не дерут… Обходительный народ эти гличане.
– А почему ты полагал, что тебя высекут?
– А по той причине, ваше благородие, что я выучен.
– Как выучен?
– Точно так, выучен, еще когда на службу не поступал, а в крестьянах состоял. За такое же примерно дело, меня, ваше благородие, форменно отполировали в участке-то, в нашем городе. И, окромя того, осмелюсь доложить, ваше благородие, всю морду, можно сказать, вроде быдто теста сделали… А здесь только штраф… Во всякой, значит, стране свои порядки, ваше благородие!
Вернувшись на корвет, Ефремов долго еще рассказывал, как его судили за арапа и как правильно рассудили.
– Понял, братцы, судья, что я пьяный был… А с пьяного что взять!
Глава двенадцатая.
Адмиральский смотр и экзамены в Печелийском заливе
I
Пока в кают-компании и среди гардемаринов шли горячие толки и разнообразные предположения о том, куда пойдет из Гонконга «Коршун» и где начальник эскадры Тихого океана, в состав которой назначался корвет, английский почтовый пароход, привезший китайскую почту, привез и предписание адмирала: идти в Печелийский залив, где находился адмирал с двумя судами эскадры.
Не очень-то обрадовало моряков это известие. Стоянка в глухом Печелийском заливе, где не было даже открытых для европейцев китайских портов, куда можно было бы съехать на берег, не представляла ничего привлекательного, да и близость встречи с адмиралом, признаться, не очень-то радовала. О нем ходили слухи, как об очень строгом, требовательном и педантичном человеке, и притом заносчивом и надменном, держащем себя с неприступностью английского лорда.
Особенно смущала эта встреча, то есть близость смотра, старшего офицера Андрея Николаевича. Ему, ревниво заботившемуся о любимом им «Коршуне», все казалось, что «Коршун» вдруг да как-нибудь осрамится на адмиральском смотру, и Андрей Николаевич со времени получения предписания сделался очень нервен и еще с большей педантичностью, – если только возможно было допустить большую, – во все время перехода из Гонконга в Печелийский залив осматривал все уголки корвета и во время разных учений обнаруживал нетерпеливость и даже раздражительность. Несмотря на то что матросы лихо работали и вообще знали свое дело отлично, Андрей Николаевич, этот добровольный мученик своего долга и притом трусивший всякого начальства, не мог успокоиться, хотя и старался скрыть это от посторонних глаз.
Через несколько дней «Коршун» после полудня входил под всеми парусами на Печелийский рейд, салютуя контр-адмиральскому флагу, поднятому на крюйс-брам-стеньге[83] внушительного флагманского фрегата «Роксана», около которого стоял небольшой, стройный красавец клипер «Чайка» с своей белой полоской вокруг черного борта и белоснежной трубой.
Лихо пролетев под нормой фрегата, где на юте, с биноклем в руке, затянутой в перчатку, стоял небольшого роста, худощавый адмирал в свитском сюртуке, с аксельбантом через плечо, и мимо клипера, под жадными взглядами моряков, зорко смотревшими на нового товарища, «Коршун», положив руль на борт, круто повернул против ветра, и среди мертвой тишины раздавался звучный, слегка вздрагивающий голос Андрея Николаевича:
– По марсам и салингам! Паруса долой! Отдай якорь!
И не прошло и пяти минут, как все паруса, точно волшебством, исчезли, якорь был отдан, катер и вельбот спущены, и «Коршун» с закрепленными парусами недвижно стоял рядом с «Чайкой», возбуждая восторг моряков и своим безукоризненным видом щегольского военного судна и быстротой, с какой он стал на якорь и убрал паруса.
Еще минута – и капитан Василий Федорович, по обыкновению спокойный, не суетливый и, видимо, не испытывавший ни малейшего волнения, в полной парадной форме уже ехал на своем щегольском шестивесельном вельботе к флагманскому фрегату с рапортом к адмиралу, а старший офицер Андрей Николаевич, весь красный, довольный и сияющий, спускался с мостика.
– А ведь ничего, а, Степан Ильич? Кажется, недурно стали на якорь? – обратился он к старшему штурману, словно бы ища одобрения.
– Уж чего лучше. Превосходно, Андрей Николаич. Паруса так и сгорели.
– Сгорели?.. Да, недурно, недурно, слава богу… Надо будет по чарке дать марсовым… А как-то смотр пройдет, Степан Ильич! – с тревогой в голосе прибавил старший офицер.
И его мужественное, заросшее волосами лицо приняло испуганное выражение школьника, который боится экзамена. Распорядительный, энергичный и находчивый во время штормов и всяких опасностей, Андрей Николаевич обнаруживал позорное малодушие перед смотрами начальства.
– Да что вы волнуетесь, Андрей Николаевич! – успокаивал его старший штурман, относившийся к высшему начальству с философским равнодушием человека, не рассчитывающего на карьеру и видавшего на своем долгом веку всяких начальников, которые тем не менее не съели его. Он тянет служебную лямку добросовестно и не особенно гоняется за одобрениями: все равно из них шубы не сошьешь; все равно для штурмана нет впереди карьеры.
– Да как же не волноваться, Степан Ильич? Разве вы не слышали об адмирале?
– Ну, так что же?
– Он хоть и вежливый и любезный, никогда не разносит, а, я вам скажу, такая заноза… строгий и взыскательный.
– Ну и пусть себе взыскательный. Что ему взыскивать? «Коршун», слава богу, у нас в порядке, Андрей Николаич.
– Так-то так, а вдруг…
– Что вдруг? – переспросил, улыбаясь, Степан Ильич.
– А вдруг, батенька, на смотру что-нибудь да выйдет.
– Ничего не выйдет, Андрей Николаич. Вы, право, мнительный человек и напрасно только расстраиваете себя… Все будет отлично, и адмирал останется доволен. Он хоть и заноза, как вы говорите, а умный человек и не придирается из-за пустяков. Да и не к чему придраться… Пойдемте-ка лучше, Андрей Николаич, обедать… И то сегодня запоздали… А есть страх хочется…
– Нет, я после пообедаю… Мне надо еще самому посмотреть, как реи выправлены и не ослаб ли такелаж, а потом поговорить с боцманом.
И маленькая приземистая фигурка старшего офицера понеслась на бак.
Через полчаса капитан вернулся от адмирала и сообщил старшему офицеру, что на другой день будет смотр и что корвет простоит в Печелийском заливе долго вследствие требования нашего посланника в Пекине.
Последняя весть очень смутила кают-компанию и гардемаринов.
В тот же день капитан объявил Володе, что он будет держать экзамен на флагманском фрегате для производства в гардемарины в сравнение со сверстниками, которые, как Володя уже знал, были произведены к Пасхе.
– Надеюсь, вы готовы к экзамену? – спросил капитан.
– Готов, Василий Федорыч.
– Ну и отлично. Когда хотите экзаменоваться?
– Чем скорее, тем лучше. Если можно, через неделю… Я кое-что еще посмотрю.
– Хорошо. Через неделю вас начнет экзаменовать комиссия, назначенная адмиралом… Будете ездить на фрегат… С этого дня вы освобождаетесь от служебных занятий на корвете, скажите старшему офицеру… Да если надо вам помочь в чем-нибудь, обращайтесь ко мне… Я кое-что помню! – скромно прибавил капитан.
Ашанин поблагодарил и сказал, что он занимался и надеется выдержать экзамен по всем предметам.
– А главное, не бойтесь, Ашанин. К вам придираться не будут. Экзаменаторы ведь не корпусные крысы, – улыбался Василий Федорович. – А адмирал понимает, что такое экзамен, – одобряюще промолвил капитан, отпуская Ашанина.
II
На другой день, к девяти часам утра, вся команда была в чистых белых рубахах, а офицеры в полной парадной форме.
Бедный Андрей Николаевич с раннего утра носился по корвету и вместе с боцманом Федотовым заглядывал в самые сокровенные уголки жилой палубы, машинного отделения и трюма. Везде он пробовал толстым волосатым пальцем: чисто ли, нет ли грязи, и везде находил безукоризненную чистоту и порядок. Наверху и говорить нечего: реи были выправлены на диво, палуба сверкала белизной, и все сияло и горело – и пушки, и медь люков, поручней, компаса, штурвала и кнехтов[84].
И Андрей Николаевич, красный, вспотевший и напряженный, несколько комичный в сбившейся назад треуголке и узковатом мундире, стоял теперь на мостике, то посматривая беспокойным взглядом на флагманский фрегат, то на палубу и на мачты.
Вдруг лицо его выразило ужас. Он увидал двух обезьян – Егорушку и Соньку, которые, видимо, нисколько не проникнутые торжественностью ожидания адмирала, с самым беззаботным видом играли на палубе, гоняясь друг за другом, и дразнили добродушнейшего и несколько неуклюжего водолаза, проделывая с ним всевозможные обезьяньи каверзы, к общему удовольствию команды.
Обо всем вспомнил сегодня Андрей Николаевич, а о них-то и забыл!
– Боцмана Федотова послать! – крикнул он.
– Боцмана Федотова послать! – раздался окрик вахтенного унтер-офицера.
– Есть! – отвечал уже на ходу боцман Федотов, несшийся на рысях к старшему офицеру и выпучивший вопросительно глаза, когда остановился перед мостиком.
– Надо убрать на время куда-нибудь обезьян и собаку, а то черт знает что может случиться во время смотра! – проговорил старший офицер.
– Есть, ваше благородие… Куда прикажете их посадить?
– Куда? – задумался старший офицер. – Привязать их в гардемаринской каюте! – внезапно решил он.
– Слушаю, ваше благородие… Только осмелюсь доложить насчет обезьянов…
– Ну, что еще? – нетерпеливо перебил старший офицер.
– Трудно будет поймать их… Лукавое животное, ваше благородие.
– Как-нибудь да поймать и посадить… Да живо! – прибавил Андрей Николаевич.
И с этими словами он тревожно взглянул на фрегат и спросил у сигнальщика, не спускавшего подзорной трубы с фрегата:
– Что, отвалил адмирал?
– Никак нет, ваше благородие. Катер у борта.
Федотов был прав. Действительно, исполнить приказание старшего офицера и поймать обезьян было трудно. С водолазом дело обошлось просто: его взяли за шиворот и, к немалому его изумлению, отвели в гардемаринскую каюту и привязали на веревку, а обезьяны решительно не давались, несмотря даже на куски сахара, которые поочередно и Федотов и другие матросы протягивали и Егорушке и Соньке с коварным намерением захватить их. Но они, видимо, отнеслись к такому неожиданному со стороны матросов угощению подозрительно, предвидя какой-нибудь подвох, и приближались на такое расстояние, что при каждой попытке схватить их они успевали задавать тягу и садиться в места, более или менее гарантирующие их безопасность. Долго продолжалась эта травля к общему смеху команды. Боцман и несколько других ловцов измаялись, гонявшись за ними по всему корвету.
– Подожди ужо, шельмы! – погрозил боцман обезьянам, сидевшим на вантах и, казалось, насмешливо скалившим зубы, и послал матроса за сеткой, а сам отвернулся, будто не обращая более на них никакого внимания.
Сетка принесена. Матрос осторожно приблизился и только что сделал движение, как Егорушка и Сонька бросились по вантам наверх и в мгновение ока уже были на брам-pee и поглядывали вниз.
– Эка дьяволы, чтоб вас! – пустил им вслед боцман и хотел было бежать доложить старшему офицеру, что «обезьянов» никак нельзя поймать, как в эту минуту раздался взволнованный голос старшего офицера:
– Караул, наверх!.. Команда во фронт!..
Все мгновенно затихло на корвете.
По обе стороны палубы, от шканцев до бака, стояла, выстроившись в две шеренги, команда; на левой стороне шканцев выстроился караул, а на правой – офицеры, имея на правом фланге старшего офицера, а на левом кадета Ашанина.
Капитан и вахтенный начальник ожидали у трапа.
– Шабаш! – раздался молодой окрик гардемарина, сидевшего на руле адмиральского катера, и через минуту на палубу «Коршуна» вошел небольшого роста человек, лет сорока с небольшим, в сюртуке с адмиральскими погонами и с аксельбантами через плечо, со своим молодым флаг-офицером.
Когда капитан и вахтенный начальник отрапортовали адмиралу о благополучном состоянии «Коршуна», адмирал, протянув руку капитану, тихой походкой, с приложенной у козырька белой фуражки рукой, прошел вдоль фронта офицеров, затем прошел мимо караульных матросов, державших ружья «на караул», и, в сопровождении капитана и флаг-офицера, направился к матросам.
– Здорово, молодцы! – чуть-чуть повысил свой тихий скрипучий голос адмирал, приблизившись к фронту.
«Р-ра-аздва-ай!», раздавшееся звучно и весело, должно было означать «здравия желаем, ваше превосходительство!».
Адмирал медленно обходил по фронту, и матросы провожали адмирала глазами, взглядывая на его умное серьезное лицо.
Обойдя команду, адмирал обратился к капитану с изысканной, но холодной вежливостью:
– Попрошу вас удалиться на минуту, Василий Федорович.
И когда капитан удалился, он, несколько более повысив голос, спросил, обращаясь к матросам:
– Всем ли довольны, ребята?
– Всем довольны, ваше превосходительство! – так же весело, как и раньше, отвечали матросы.
– Нет ли у кого претензии?
Ни звука в ответ.
– Если есть у кого претензия, выходи, не бойся!
Никто не шелохнулся.
– Так ни у кого нет претензий?
– Никак нет, ваше превосходительство! – в один голос ответили матросы.
По тонким губам адмирала пробежала удовлетворенная улыбка и снова скрылась в серьезном выражении лица.
Вслед затем команду распустили, и начался осмотр корвета в сопровождении капитана и старшего офицера. Осмотр был самый тщательный. Адмирал, минуя показные, так сказать, места, заглядывал в такие укромные уголки, на которые обыкновенно меньше всего обращается внимания. Он был на кубрике, в помещении команды, приказал там открыть несколько матросских чемоданчиков, спускался в трюм и нюхал там трюмную воду, заглянул в подшкиперскую, в крюйт-камеру, в лазарет, где не было ни одного больного, в кочегарную и машинное отделение, и там, не роняя слова, ни к кому не обращаясь с вопросом, водил пальцем в белоснежной перчатке по частям машины и глядел потом на перчатку, возбуждая трепет и в старшем офицере и старшем механике. Но перчатка оказывалась чистой, и адмирал шел далее, по-прежнему безмолвный. Наконец, когда решительно все было осмотрено, он вышел наверх и, поднявшись на мостик, проговорил, обратившись к капитану:
– Считаю долгом заявить, что нашел корвет в примерном порядке.
Капитан ни слова не сказал в ответ.
– Ну, а теперь посмотрим, как у вас подготовлена команда. Потрудитесь вызвать сюда барабанщика.
– Боевую тревогу! – тихо приказал адмирал, когда явился барабанщик.
Барабанщик стал отбивать тревожную, несмолкаемую трель, и через несколько минут корвет готов был к бою.
Смотр продолжался очень долго. Были и парусное учение, и артиллерийское, и пожарная тревога, и посадка на шлюпки десанта, и стрельба в цель – и все это не оставляло желать ничего лучшего. Матросы, сразу поняв, что адмирал занозистый и «скрипка», как почему-то внезапно окрестили они его превосходительство (вероятно вследствие скрипучего его голоса), старались изо всех сил и рвались на учениях, как бешеные, чтобы не подвести любимого своего капитана, «голубя», и не осрамить «Коршуна».
Наконец все окончено, и адмирал благодарит капитана.
Капитан принимает эти похвалы с чувством собственного достоинства, без того выражения чрезмерной радости, которая столь нравится начальникам и потому довольно обыкновенна среди подчиненных, и адмирал, как будто удивленный этой малой отзывчивостью к его комплиментам, к тому же весьма редким и не особенно расточительным, взглядывает на капитана пристальным взглядом умных своих глаз и, словно бы угадывая в нем рыцаря долга и независимого человека, чувствует к нему уважение.
Андрей Николаевич так растерялся, когда адмирал обратился лично к нему с благодарностью, его лицо имело такое страдальческое выражение, и пальцы, приложенные к треуголке, так тряслись, что адмирал, видимо не желая продолжать агонии подчиненного, поспешил отойти.
Когда катер с адмиралом отвалил от борта, все весело и радостно бросились в кают-компанию. Сияющий и радостный, что «Коршун» не осрамился и что адмирал нашел его в полном порядке, Андрей Николаевич угощал всех шампанским, боцманам и унтер-офицерам дал денег, а матросам до пяти чарок водки и всех благодарил, что работали молодцами.
* * *
Экзамены прошли благополучно. Даже сам адмирал, присутствовавший на экзаменах из астрономии, навигации и морской практики, слушая ответы Ашанина, одобрительно качнул головой. Наконец последний экзамен сдан, и Володе объявили, что у него баллы хорошие и что они вместе с представлением о производстве будут немедленно посланы в Петербург в Морской корпус.
Теперь Володе оставалось только ждать приказа, и тогда он будет стоять офицерскую вахту, то есть исполнять обязанности вахтенного начальника под ответственностью капитана, как исполняли уже другие гардемарины. Тогда он и получит сразу целую кучу денег – во-первых, жалованье со времени производства его товарищей и, кроме того, экипировочные деньги. А деньги будут весьма кстати, так как золото, подаренное дядей-адмиралом, уже было совсем на исходе.
Зато теперь и тратить денег было некуда на этой скучной стоянке в Печелийском заливе. На берег некуда было и съезжать. Целые дни проходили в разных учениях, делаемых по сигналам адмирала.
Так прошло полтора месяца – всем опротивело это печелийское сидение, как вдруг однажды адмирал потребовал капитана к себе, и вернувшийся капитан поздравил всех с радостной вестью о том, что корвет на следующее утро идет в С.-Франциско. Нужно ли прибавлять, как обрадованы были моряки этой приятной новостью. Вместе с нею капитан сообщил и другую: адмирал по болезни скоро уезжает в Россию. Кого назначат на смену, никому, конечно, не было известно; но и капитан и многие офицеры почему-то думали, что, вероятно, будет назначен лихой адмирал Корнев, известный в те времена во флоте под разными кличками и между прочим под кличкой «беспокойного адмирала».
– Действительно беспокойный, господа, – заметил Андрей Николаевич. – Я с ним плавал, когда он первый раз ходил начальником отряда. У-у… бедовый! – прибавил старший офицер и почему-то вздохнул.
– Он всех в христианскую веру приведет, – вставил и старый штурман, смеясь.
– А что, разве свирепый? – спрашивал мичман Лопатин.
– А вот увидите, если он к нам явится… Он тут всех перетормошит… Кипучая натура. Недаром все его боятся, особенно с первого раза, пока не узнают хорошо. В лоск, батенька, разносит! – прибавил Степан Ильич.
– Ну, это мы еще посмотрим! – вызывающе заметил мичман Лопатин.
– То-то посмотрите! – засмеялся старый штурман.







