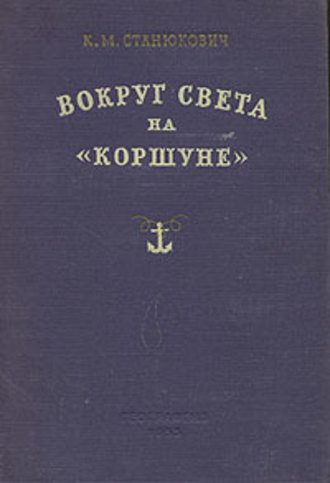
Константин Станюкович
Вокруг света на «Коршуне»
III
Небольшой «брамсельный»[42] ветерок, встреченный ночью корветом, дул, как выражаются моряки, прямо в «лоб», то есть был противный, и «Коршун» продолжал идти под парами по неприветливому Финскому заливу при сырой и пронизывающей осенней погоде. По временам моросил дождь и набегала пасмурность. Вахтенные матросы ежились в своих пальтишках, стоя на своих местах, и лясничали (разговаривали) вполголоса между собой, передавая один другому свои делишки и заботы, оставленные только что в Кронштадте. Почти половина команды была из старослужилых, и у каждого из них были в Кронштадте близкие – у кого жена и дети, у кого родные и приятели. Поговорить было о чем и о ком пожалеть.
Капитан то и дело выходил наверх и поднимался на мостик и вместе с старшим штурманом зорко посматривал в бинокль на рассеянные по пути знаки разных отмелей и банок, которыми так богат Финский залив. И он и старший штурман почти всю ночь простояли наверху и только на рассвете легли спать.
Наконец, во втором часу прошли высокий мрачный остров Гогланд и миновали маленький предательский во время туманов Родшер. Там уж прямая, открытая дорога серединой залива в Балтийское море.
За Гогландом горизонт начинал прочищаться. Ветер свежел и стал заходить.
– Кажется, норд-вест думает установиться. Как вы полагаете, Степан Ильич?
Сухощавый, небольшого роста пожилой человек в стареньком теплом пальто и старой походной фуражке, проведший большую часть своей полувековой труженической жизни в плаваниях, всегда ревнивый и добросовестный в исполнении своего долга и аккуратный педант, какими обыкновенно бывали прежние штурмана, внимательно посмотрел на горизонт, взглянул на бежавшие по небу кучевые темные облака, потянул как будто воздух своим длинноватым красным носом с желтым пятном, напоминавшим о том, как Степан Ильич отморозил себе лицо в снежный шторм у берегов Камчатки еще в то время, когда красота носа могла иметь для него значение, и проговорил:
– Надо быть, что так-с. И самое время для норд-веста, Василий Федорыч. Ишь, подыгрывает.
Прошло еще с полчаса. Ветер дул из норд-вестовой четверти и был попутным для корвета.
Тогда капитан обратился к вахтенному лейтенанту и приказал ставить паруса.
– Свистать всех наверх паруса ставить! – скомандовал офицер звучным веселым тенорком.
Вахтенный боцман Федотов подбежал к люку жилой палубы, мастерски засвистал в дудку и рявкнул во всю силу своих могучих легких голосом, который разнесся по всей жилой палубе:
– Пошел все наверх паруса ставить. Живо, ребята… Бегом!..
И, разумеется, окончил свою команду словами, ничего не имевшими общего с вызовом наверх.
Тем временем сигнальщик, как полоумный, вбежал в кают-компанию и затем в гардемаринскую каюту с извещением о вызове всех наверх, и все стремительно полетели на палубу.
Старший офицер, как распорядитель аврала, поднялся на мостик, сменив вахтенного начальника, который, по расписанию, должен был находиться у своей мачты.
Словно бешеные, бросились со всех ног матросы, бывшие внизу, лишь только раздался голос боцмана. Он только напрасно их поощрял (и более по привычке, чем по необходимости) разными энергичными словечками своей неистощимой по части ругательств фантазии.
Не прошло и минуты, как весь экипаж корвета, исключая вахтенных машинистов и кочегаров да коков (поваров), был наверху на своих местах.
Мертвая тишина воцарилась на палубе.
– Марсовые к вантам! – раздалась звучная команда старшего офицера.
Несколько десятков марсовых – цвет команды, люди все здоровые, сильные и лихие – стало у ванта, веревочной лестницы, идущей по обе стороны каждой мачты.
– По марсам и салингам!
С этой командой матросы ринулись по вантам, бегом поднимаясь наверх.
Когда все уже были на марсах и салингах, старший офицер скомандовал:
– По реям!..
И все, с ноковыми[43] впереди, разбежались по реям, держась одной рукой за приподнятые рейки, служащие вроде перил, словно по гладкому полу и, стоя, перегнувшись, на страшной высоте, над бездной моря, стали делать свое обычное матросское трудное дело.
Володя, стоявший на мостике сзади капитана, в первые минуты с чувством страха посматривал на эти слегка покачивающиеся вместе с корветом реи, на которых, словно муравьи, чернели перегнувшиеся люди. Ему казалось, что вот-вот кто-нибудь сорвется – и если с конца, то упадет в море, а если с середины, то на смерть разобьется на палубе. Он слышал – бывали такие примеры. И в голове его невольно проносились мысли о той ежеминутной опасности, которой подвергаются матросы. Если теперь при тихой погоде и незначительной качке ему казалось их положение опасным, то каково оно во время бури, когда реи стремительно качаются, делая страшные размахи. Каково работать при дьявольском ветре? Каково устоять там?
И он, еще совсем неопытный моряк, преувеличивающий опасность, решил непременно как-нибудь самому сходить на рею и как-то невольно проникался еще большей любовью и большим уважением к матросам.
– Молодцами работают, Андрей Николаевич, – промолвил капитан, все время не спускавший глаз с рей.
– Хорошие марсовые, – весело ответил старший офицер, видимо довольный и похвалой капитана, и тем, что они действительно «молодцами работали».
– Готово, – крикнули с марсов.
– Отдавай! С реев долой! Пошел марса-шкоты[44]! Фок[45] и грот[46] садить!..
Топот матросских ног да легкий шум веревок нарушали тишину работ. Изредка, впрочем, когда боцмана увлекались, с бака долетали энергические словечки, но они еще не расточались с особенной щедростью ввиду того, что все шло хорошо.
Но вот какая-то снасть «заела» (не шла) на баке, и кливер что-то не поднимался. Прошла минута, долгая минута, казавшаяся старшему офицеру вечностью, во время которой на баке ругань шла crescendo[47]. Однако Андрей Николаевич крепился и только простирал руки на бак. Но, наконец, не выдержал и сам понесся туда, разрешив себя от долго сдерживаемого желания выругаться…
А капитан, слушая все эти словечки, серьезный и сдержанный, стоял на мостике и только морщился. Все, слава богу, было исправлено – кливер с шумом взвился.
Не прошло и пяти минут с момента вызова всех наверх, как «Коршун» весь покрылся парусами и, словно гигантская белоснежная птица, бесшумно понесся, слегка накренившись и с тихим гулом рассекая своим острым носом воду, которая рассыпалась алмазной пылью, разбиваясь о его «скулы».
Машина была застопорена. Винт поднят из воды, чтобы не мешать ходу, и укреплен в так называемом винтовом колодце.
Аврал был кончен. Подвахтенных просвистали вниз, и вахтенный офицер снова занял свое место на мостике.
– К вечеру возьмите у марселей два рифа, – сказал капитан, обращаясь к вахтенному.
– Есть!
– Того и гляди, к ночи засвежеет, Степан Ильич?..
– Не мудрено и засвежеть, – отвечал старший штурман.
И оба они спустились вниз и разошлись по своим каютам.
IV
Ах, как не хотелось вставать и расставаться с теплой койкой, чтобы идти на вахту!
Володя только что разоспался, и ему снились сладкие сны, когда он почувствовал, что его кто-то дергает за ногу. Он отодвинул ее подальше и повернулся на другой бок. Но не тут-то было, какой-то дерзкий человек еще решительнее дернул ногу.
– А?.. Что?.. – произнес в полусне Володя, не открывая вполне глаз и скорей чувствуя, чем видя, перед собой тусклый свет фонаря.
– Ваше благородие… Владимир Николаевич! Вставайте… На вахту пора! – говорил чей-то мягкий голос.
Володя открыл глаза, но еще не совсем освободился от чар сна. Еще мозг его был под их впечатлением, и он переживал последние мгновения сновидений, унесших его далеко-далеко из этой маленькой каютки.
– Без десяти минут полночь! – тихим голосом говорил Ворсунька, чтобы не разбудить спящего батюшку, зажигая свечу в кенкетке, висевшей почти у самой койки. – Опоздаете на вахту.
Сон сразу исчез, и Володя, вспомнив, какое он может совершить преступление, опоздавши на вахту, соскочил с койки и, вздрагивая от холода, стал одеваться с нервной стремительностью человека, внезапно застигнутого пожаром.
– Что, не опоздаю?.. Много до двенадцати? – спрашивал он.
– Да вы еще успеете, ваше благородие. Должно, еще более пяти минут.
Володя посмотрел на свои часы и увидал, что остается еще целых десять минут. О, господи, он отлично мог бы проспать по крайней мере пять минут, если бы его не разбудил так рано Ворсунька.
И ему бесконечно стало жалко этих недоспанных минут, и он не то обиженно, не то раздраженно сказал молодому белобрысому вестовому:
– За что ты меня так рано поднял? За что?
Должно быть, и Ворсуньке стало жаль молодого барина, потому что он участливо проговорил:
– А вы, ваше благородие, доспите на диване в кают-компании, одемшись… Как будет восемь склянок, я вас побужу…
– Одевшись?! Какой уж теперь сон! – упрекнул Володя.
– Напредки я буду за пять минут вас будить, ваше благородие… А то, признаться, я не знал, чижало ли вы встаете… Боялся, как бы не заругали, что поздно побудил… Виноват, ваше благородие… Не извольте сердиться.
– Да что ты, голубчик… разве я сержусь? Я, право, нисколько не сержусь, – улыбался Володя, глядя на заспанное лицо вестового. – И ты напрасно встал для меня… Вперед пусть меня будит рассыльный с вахты…
– А помочь одеться?
– Я и сам умею… Что, холодно наверху?
– Пронзительно, ваше благородие… Пожалуйте теплое пальто…
– Однако покачивает! – заметил Володя, расставив для устойчивости ноги.
– Есть-таки качки.
– А тебя не укачивает?
– Мутит, ваше благородие… душу будто сосет…
– Ступай, брат, ложись лучше. А к качке можно привыкнуть.
– Надо, видно, привыкнуть. Ничего не поделаешь! – промолвил, улыбаясь, Ворсунька, уходя вон.
В жилой, освещенной несколькими фонарями палубе, в тесном ряду подвешенных на крючки парусиновых коек, спали матросы. Раздавался звучный храп на все лады. Несмотря на пропущенные в люки виндзейли[48], Володю так и охватило тяжелым крепким запахом. Пахло людьми, сыростью и смолой.
Осторожно проходя между койками, чтобы не задеть кого-нибудь, Ашанин пробрался в кают-компанию, чтобы там досидеть свои пять минут.
В кают-компании ни души. Чуть-чуть покачивается большая лампа над столом, и слегка поскрипывают от качки деревянные переборки. Сквозь жалюзи дверей слышатся порой сонные звуки спящих офицеров, да в приоткрытый люк доносится характерный тихий свист ветра в снастях, и льется струя холодного сырого воздуха.
Сверху раздаются мерные удары колокола. Раз… два… три… Бьет восемь ударов, и с последним ударом колокола Володя выбегает наверх, сталкиваясь на трапе со своим вахтенным начальником, мичманом Лопатиным.
– Молодцом, Ашанин… Аккуратны! – говорит на ходу мичман и бежит на мостик сменять вахтенного офицера, зная, как и все моряки, что опоздать со сменой хотя б минуту-другую считается среди моряков почти что преступлением.
Иззябший, продрогший на ветру первый лейтенант, стоявший вахту с 8 до полуночи, радостно встречает мичмана и начинает сдавать вахту.
– Курс такой-то… Последний ход 8 узлов… Паруса такие-то… Огни в исправности… Спокойной вахты! Дождь, слава богу, перестал, Василий Васильевич!.. – весело говорит закутанная в дождевик поверх пальто высокая плотная фигура лейтенанта в нахлобученной на голове зюйдвестке[49] и быстро спускается вниз, чтобы поскорее раздеться и броситься в койку под теплое одеяло, а там пусть наверху воет ветер.
Слегка балансируя по палубе корвета, который довольно плавно поднимался и опускался на относительно спокойной качке, Ашанин торопливо, в несколько возбужденном состоянии юного моряка, идущего на свою первую серьезную вахту, шел на бак сменять подвахтенного гардемарина.
В темноте он его не сразу нашел и окликнул.
– Очень рад вас видеть, Ашанин! Фор-марсель в два рифа, фок, кливер и стаксель… любуйтесь ими четыре часа… Огни в исправности… Часовые не спят… Погода, как видите, собачья… Ну, прощайте… Ужасно спать хочется!
И, проговорив эти слова, гардемарин быстро скрылся в темноте. Зычный голос вахтенного боцмана, прокричавшего в жилой палубе «Первая вахта на вахту!», уже разбудил спавших матросов.
Охая, зевая и крестясь, они быстро спрыгивали с коек, одевались, натягивая поверх теплых шерстяных рубах свои куцые пальтишки, повязывали шеи гарусными шарфами и, перекидываясь словами, поднимались наверх на смену товарищам, уже предвкушавшим наслаждение койки.
Боцман Федотов, вступавший на вахту, сердитый со сна, сыпал ругательствами, поторапливая запоздавших матросов своей вахты, и, поднявшись наверх, проверил людей, назначил смены часовых на баке, послал дежурных марсовых на марсы, осмотрел огни и заходил по левой стороне бака.
И Володя шагал по правой стороне, полный горделивого сознания, что и он в некотором роде страж безопасности «Коршуна». Он добросовестно и слишком часто подходил к закутанным фигурам часовых, сидевших на носу и продуваемых ветром, чтобы увериться, что они не спят, перегибался через борт и смотрел, хорошо ли горят огни, всматривался на марсель и кливера – не полощут ли.
Но часовые, разумеется, не спали; огни ярко горели красным и зеленым цветом, и паруса стояли хорошо.
И ему точно было обидно, что нечего было делать, не на чем проявить свою бдительность.
«Разве вперед смотреть?», – думал он, и ему казалось, что он должен это сделать. Ведь часовые могут задремать или просто так-таки прозевать огонь встречного судна, и корвет вдруг врежется в его бок… Он, Володя Ашанин, обязан предупредить такое несчастие… И ему хотелось быть таким спасителем. И хоть он никому ничего не скажет, но все узнают, что это он первый увидал огонь, и капитан поблагодарит его.
И он остановился, прислонившись к борту у самого носа, и напряженно вглядывался в мрак осенней ночи, среди которого бесшумно двигался корвет, казавшийся теперь какой-то фантастической гигантской птицей.
На носу «поддавало» сильней, и он вздрагивал с легким скрипом, поднимаясь из волны. Свежий ветер резал лицо своим ледяным дыханием и продувал насквозь. Молодой моряк ежился от холода, но стоически стоял на своем добровольно мученическом посту, напрягая свое зрение…
Ему то и дело мерещились огни то справа, то слева, то силуэты судов, то казалось, будто совсем близко впереди выглядывают из моря камни. И он беспокоил часовых вопросами: не видят ли они чего-нибудь? Те, конечно, ничего не видали, и Володя, смущенный, отходил, убеждаясь, что у него галлюцинация зрения. К концу вахты уж он свыкся с темнотой и, менее возбужденный, уже не видал ни воображаемых огоньков, ни камней, ни судов, и не без некоторого сожаления убедился, что ему спасителем не быть, а надо просто исполнять свое маленькое дело и выстаивать вахту, и что и без него безопасность корвета зорко сторожится там, на мостике, где вырисовываются темные фигуры вахтенного начальника, младшего штурмана и старшего офицера.
Последний нет-нет да и появлялся на мостике, возбуждая досадливое чувство в самолюбивом молодом мичмане.
Еще бы!
Он, сделавший уже три летние кампании и поэтому горделиво считавший себя опытным моряком, был несколько обижен. Эти появления старшего офицера без всякой нужды казались недоверием к его знанию морского дела и его бдительности. Еще если бы «ревело» или корвет проходил опасные места, он понял бы эти появления, а теперь…
И мичман Лопатин, обыкновенно жизнерадостный, веселый и добродушный, с затаенным неудовольствием посматривал на маленькую фигуру старшего офицера, который, по мнению мичмана, мог бы спокойно себе спать вместо того, чтобы «торчать» наверху. Небось, капитан не «торчит», когда не нужно!..
А старший офицер, недоверчивый, еще не знавший хорошо офицеров, действительно не совсем доверял молодому мичману, потому и выходил наверх, вскакивая с постели, на которой спал одетым.
Но не желая оскорблять щекотливое морское самолюбие мичмана, он, поднимаясь на мостик, как бы жалуясь, говорил:
– Совсем не спится что-то сегодня… Вот вышел проветриться.
– Удивительно, что не спится, Андрей Николаевич, – иронически отвечал мичман. – Кажется, можно бы спать… Ветер ровный… установился… идем себе хорошо… Впереди никаких мелей нет… Будьте спокойны, Андрей Николаевич… Я не первый день на вахте стою, – несколько обиженно прибавил вахтенный офицер.
– Что вы… что вы, Василий Васильевич… Я вовсе не потому… Просто бессонница! – деликатно сочинял старший офицер, которому смертельно хотелось спать.
«Эка врет, – подумал мичман и мысленно проговорил: – Ну, что же… торчи здесь на ветру, коли ты не доверяешь».
Убедившись, наконец, после двух-трех появлений с целью «проветриться» среди ночи, что у молодого мичмана все исправно, что паруса стоят хорошо, что реи правильно обрасоплены[50] и, главное, что ветер не свежеет, старший офицер часу во втором решился идти спать.
Перед уходом он сказал:
– Если засвежеет, пошлите разбудить меня, Василий Васильевич. А капитана без особенной надобности не будите. Он вчера всю ночь не спал.
– Есть! – отвечал мичман.
– Да, знаете ли, вперед хорошенько посматривайте… как бы того… огни судов…
– За это не беспокойтесь.
– И на горизонт вглядывайтесь… Того и гляди, шквал наскочит…
– Не прозеваю… не бойтесь…
– Я не боюсь… я так позволил себе вам напомнить… До свидания, Василий Васильевич…
– Спокойной ночи, Андрей Николаевич!
Старший офицер спустился в свою каюту, хотел было раздеться, но не разделся и, как был – в пальто и в высоких сапогах, бросился в койку и тотчас же заснул тем тревожным и чутким сном, которым обыкновенно спят капитаны и старшие офицеры в море, всегда готовые выскочить наверх при первой тревоге.
– Вперед смотреть, – весело и молодцевато во всю силу своих молодых и могучих легких крикнул мичман Лопатин вслед за уходом старшего офицера, как будто выражая этим окриком и свое удовольствие остаться одному ответственным за безопасность корвета и всех его обитателей, и свое не дремавшее внимание лихого моряка, у которого ухо держи востро.
– Есть! Смо-о-о-трим! – тотчас же ответили протяжными голосами и в одно время оба часовые на баке и вновь продолжали свою тихую беседу, которой они коротали свое часовое дежурство на часах: рассказывали сказки друг другу, вспоминали про Кронштадт или про «свои места».
Володя к концу вахты уже более не беспокоил часовых так часто, как прежде, особенно после того, как услыхал замечание, сделанное на его счет каким-то матросом, не заметившим в темноте, что Ашанин стоит тут же около.
Чей-то голос говорил:
– Ишь ведь смола этот кадет… так и приставал. Думает, что без него люди не справляют службы. То и дело подходил, когда мы с Ивановым сидели на часах… Не заснули ли, мол… И все, братцы, ему огни в глазах мерещились… Шалый какой-то.
– Это он так, с непривычки… Молоденький… глупый еще… думает: на вахте егозить надо… А барчук, должно, хороший… Ворсунька, евойный вестовой, сказывал, что добер и простой… нашим братом не брезговает.
Володя совсем смутился и незаметно отошел, дав себе слово больше не «егозить», как выразился матрос про него.
И он ходил снова, по временам останавливаясь у какой-нибудь кучки матросов, которые, притулившись у борта или у мачты, вполголоса лясничали. Присутствие юнца-кадета не останавливало бесед, иногда довольно свободно критиковавших господ офицеров. И Володя слушал эти беседы и только удивлялся их добродушному юмору и меткости и образности определений и прозвищ.
– А что, барин, правду сказывают, будто капитан приказал боцманам бросить линьки и не лезть в зубы? – спросил один из кучки баковых, сидевших у крайнего орудия, к которому подошел Володя.
– Правда…
– Ишь, ведь ты! – раздались несколько удивленные восклицания.
– Я вам говорил, братцы! – произнес знакомый голос Бастрюкова. – Одно слово: голубь. Голубь и есть!
– Да-да… Такого командира по всему флоту не найтить… Бережет он матроса, дай бог ему счастья!
– Но только – и то сказать – нельзя боцману или офицеру иной раз нашего брата не съездить, – авторитетно заметил чей-то басок, сиплый и надтреснутый.
Володя горячо протестовал и даже сказал по этому поводу убедительную, по его мнению, маленькую речь.
Казалось, судя по глубокому молчанию, все слушали с одобрением молодого барина. Однако, когда он кончил, тот же басок не без тонкой иронии в голосе проговорил:
– Так-то оно так, ваше благородие, а все-таки, если не здря, а за дело, никак без эстого невозможно. Я вот, барин, пятнадцать лет во флоте околачиваюсь, всего навидался, но чтобы без боя – не видал… И никак без него невозможно! – тоном, полным глубокого убеждения, повторил старый матрос.
– Трудно, что и говорить! – поддержал кто-то.
– И вовсе даже можно! Барин правильно говорит! – заступился за Володю Бастрюков. – Это, ваше благородие, Аксютин так мелет потому, что его самого драли как Сидорову козу… У него и три зуба вышиблено от чужого, можно сказать, зверства.
– В старину, небось, учивали!.. – снова заметил басок и, казалось, без всякого протеста на виновников потери его зубов.
– То-то учивали и людей истязали, братец ты мой. Разве это по-божески? Разве от этого самого наш брат матрос не терпел и не приходил в отчаянность?.. А, по-моему, ежели с матросом по-хорошему, так ты из него хоть веревки вей… И был, братцы мои, на фрегате «Святый Егорий» такой случай, как одного самого отчаянного, можно сказать, матроса сделали человеком от доброго слова… При мне дело было…
– Да ты расскажи, Иваныч, как это вышло.
– А вышло, братцы, взаправду чудное дело… А вы, барин, что ж это зря на ветру стоите? Не угодно ли за пушку?.. Тут теплей, – обратился Бастрюков к Ашанину, заметив, что тот не уходит.
В кучке произошло движение, чтобы дать место Володе.
Но он, как подвахтенный, не счел возможным принять предложение и, поблагодарив матросов, остался на своем месте, на котором можно было и посматривать вперед, и видеть, что делается на баке, и в то же время слушать этого необыкновенно симпатичного Бастрюкова.
И тот продолжал:
– Служил, братцы, у нас на фрегате один матросик – Егорка Кирюшкин… Нечего говорить, матрос как есть форменный, первый, можно сказать, матрос по своему делу… штыкболтным[51] на фор-марса-pee и за гребным на капитанском вельботе был… Все понимали, что бесстрашный матросик: куда хочешь пошли – пойдет. Но только, скажу я вам, человек он был самый что ни на есть отчаянный… вроде как быдто пропащий…
– Пьянствовал? – спросил кто-то.
– Это что – пьянствовал!.. Всякий матрос, ежели на берегу, любит погулять, и нет еще в том большого греха… А он, кроме того, что пьянствовал да пропивал, бывало, все казенные вещи, еще и на руку был нечист… Попадался не раз… А кроме того, еще и дерзничал…
– Ишь ты… Значит, в ем отчаянность эта самая была…
– То-то и есть… Ну и драли же его-таки довольно часто, драли, можно сказать, до бесчувствия… Жалели хорошего матроса судить судом и в арестантские роты отдавать и, значит, полагали выбить из него всю его дурь жестоким боем, братцы… Случалось, линьков по триста ему закатывали, замертво в лазарет выносили с изрытой спиной… Каких только мучениев не принимал… Жалеешь и только диву даешься, как это человек выносит…
– Шкура наша не господская… выносливая, – вставил опять басок.
– И, что ж, не помогала ему эта самая выучка? – спросил кто-то.
– То-то и есть. Отлежится в лазарете и опять за свои дела… да еще куражится: меня, говорит, никакой бой не возьмет… Я, говорит, им покажу, каков я есть! Это он про капитана да про старшего офицера… Хорошо. А старшим офицером у нас в те поры был капитан-лейтенант Барабанов – может, слыхал, Аксютин?
– Как про такого арестанта не слыхать… Зверь был известный… В резерв его нонче увольнили.
– Ну, вот, этот самый Барабанов, как услыхал, что Егорка хвастает, и говорит – тоже упрямый человек был: «Посмотрим, кто кого; я, говорит, его, подлеца, исправлю, я, говорит, и не таких покорял…» И стал он с этого самого дня Кирюшкина вовсе изводить… Каждый день при себе драл на баке как Сидорову козу.
– Ишь ты, что выдумал!
Володя слушал в волнении, полный негодования. Он не мог себе и представить, чтобы могли быть такие ужасные вещи.
– И хоть бы что, – продолжал Бастрюков, – Егорка только приходил в большую отчаянность… Наконец, братцы вы мои, видит Барабанов, что нет с Кирюшкиным никакого сладу и что допорет он его до смерти, пожалуй, еще в ответе будет, – адмирал у нас на эскадре законный человек был, – пошел к капитану и докладывает: «Так мол, и так. Никак не могу я этого мерзавца исправить; дозвольте, говорит, по форме арестантом сделать, потому, говорит, совсем беспардонный человек»…
– Да… Вовсе отчаянный…
– И как он только еще жив остался!..
– И до сих пор жив… Только грудью слаб… Он в бессрочные вышел и в Рамбове сторожем на даче. Я его летом ветрел. А быть бы ему арестантом, если бы этого самого Барабанова не сменили в те поры и не назначили к нам старшим офицером Ивана Иваныча Буткова… Он теперь в адмиралы вышел. Человек он был справедливый и с большим рассудком… «Повремените, – это он капитана просит, – такого лихого матроса в арестанты назначать; я, говорит, быть может, его исправлю». А капитан только махнул рукой: «Не исправите, мол… Уж его всячески исправляли и ничего не вышло, а впрочем, можно повременить; действительно, этот пьяница, грубиян и вор – преотличный матрос». Тоже, значит, и в капитане морская душа была. Любил он хороших матросов и многое им прощал! – пояснил Бастрюков. – И ведь как вы думаете, братцы, ведь совсем другим человеком сделал новый старший офицер этого самого Егорку… Дивились мы тогда… А все потому, что душу человеческую понял и пожалел матроса…
Бастрюков на минуту смолк.
– Как же он такого отчаянного исправил? Чудно что-то, Иваныч, – нетерпеливо спросил кто-то.
– Чудно и есть, а я вам верно говорю… Словом добрым проник, значит, человека. Призвал это он Кирюшкина к себе в каюту и говорит: «Так и так, брось, братец ты мой, свою дурость и служи как следовает. Тебя в арестантские роты хотели отдать, но я поручился за тебя, что ты станешь хорошим матросом. Уж ты, говорит, меня, Кирюшкин, оправдай… Ступай, говорит, и подумай, что я сказал, и верь, что я от доброго сердца, жалеючи тебя». Только всего и сказал, а как пришел это Кирюшкин от старшего офицера на бак, смотрим – чудеса: совсем не куражится и какой-то в лице другой стал… После уж он мне объяснил, как с ним, можно сказать, первый раз во всю жизнь по-доброму заговорили, а в те поры, как его стали спрашивать, что ему старший офицер отчитывал, Егорка ничего не сказывал и ровно какой-то потерянный целый день ходил. Ну, думаем, видно, Егорку застращал арестантскими ротами, а не то Сибирью новый-то старший офицер… Ладно. В скорости вышли мы из Кронштадта и пришли в Ревель. На другой день велено было нашей вахте собираться на берег – отпускали, значит, гулять. Одеваемся мы, значит, в новые рубахи, смотрим – боцман приказывает и Егорке ехать. А тот стоит и вовсе ошалел, во все глаза смотрит, потому его почти никогда не отпускали на берег… знали, что пропьет с себя все или что-нибудь скрадет, что плохо лежит. «Ты что зенки вертишь? – говорит боцман. – Тебя, такой-сякой, старший офицер велел отпустить на берег. Видно, еще не знает, каков ты есть». «Старший офицер?» – вымолвил только Егорка. – «А ты думал, я за тебя просил?.. Я, прямо скажу, просил, чтобы тебя не пускали, вот что я просил, но только старший офицер приказал… Одевайся… И будут же тебя пороть завтра, подлеца. Опять что-нибудь да выкинешь, дьявол!» Однако Кирюшкин ничего не выкинул и вернулся на фрегат, хотя и здорово треснувши, но с целыми вещами. Мы только диву давались. А старший офицер на утро, во время уборки, подошел к нему и говорит: «Спасибо, Кирюшкин, оправдал ты меня. Надеюсь и впредь». Егорка молчит, только лицом весь красный стал… И с тех пор шабаш… Ни воровства, ни озорства – совсем путевый стал.
– Совесть, значит, зазрила…
– То-то оно и есть… И доброе слово в душу вошло… Небось, оно, доброе-то слово, скорее войдет, чем дурное.
– Что ж он, пить бросил?
– Пить – пил, ежели на берегу, но только с рассудком. А на другой год старший офицер его в старшие марсовые произвел, а когда в командиры вышел, – к себе на судно взял… И до сих пор его не оставил: Кирюшкин на евойной даче сторожем. Вот оно что доброе слово делает… А ты говоришь, никак невозможно! – заключил Бастрюков.
Наступило молчание. Все притихли под впечатлением рассказа.
– А и холодно ж, братцы. Разве пойти покурить! – промолвил, наконец, Бастрюков и, выйдя из кучки, подошел к кадке и закурил трубочку.
Володя снова заходил, взволнованный рассказом матроса. И сам этот пожилой матрос с серьгой в ухе, с добрыми и веселыми глазами и с своей философией еще милее стал Ашанину, и он решил познакомиться с ним поближе.
Пробило шесть склянок. Еще оставалось две. Володя ужасно устал ходить и прислонился к борту. Но только что он выбрал удобное положение, как почувствовал, что вот-вот и он сейчас заснет. Дрема так и звала его в свои объятия. У борта за ветром так было хорошо… ветер не продувал… И он уже невольно стал клевать носом и уж, кажется, минуту-другую был в полусознательном состоянии, как вдруг мысль, что он на вахте и заснул, заставила его вздрогнуть и поскорее уйти от предательского борта.
«Срам какой… Хорошо, что никто не видал!», – думает он и снова начинает ходить и нетерпеливо ждать конца вахты. Спать хочется нестерпимо, и он завидует матросам, которые сладко дремлют около своих снастей. Соблазн опять прислониться к борту и подремать хоть минутку-другую ужасно велик, но он храбро выдерживает искушение и, словно бы чтоб наказать себя, лезет осматривать огни.
– Напрасно, барин, беспокоитесь, я только что осматривал, – говорит боцман Федотов, который, как маятник, ходил взад и вперед и зорко посматривал на паруса.
– А часовые смотрят?
– Смотрят…
– Кажется, кливер будто полощет?
– Это так только оказывает. И кливер стоит форменно, не извольте сумлеваться, – говорит боцман с снисходительной почтительностью.
– Вперед смотреть! – снова раздается звучный и веселый голос мичмана.
– Есть! Смотрим! – снова отвечают часовые.
Море черно. Черно и кругом на горизонте. Черно и на небе, покрытом облаками. А корвет, покачиваясь и поклевывая носом, бежит себе, рассекая эту непроглядную тьму, подгоняемый ровным свежим ветром, узлов по восьми. На корвете тишина. Только слышатся свист и подвывание ветра в снастях да тихий гул моря и всплески его о борта корвета.
Холодно, сыро и неприветно кругом.
И Володе, как нарочно, в эти минуты представляется тепло и уют их квартиры на Офицерской. Счастливцы! Они спят теперь в мягких постелях, под теплыми одеялами, в сухих, натопленных комнатах.







