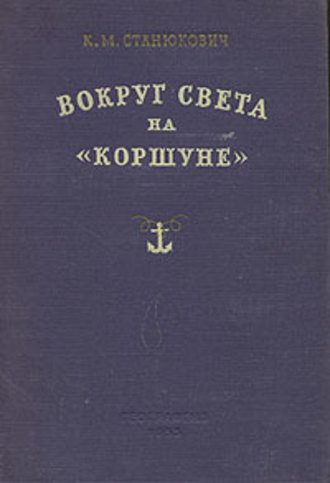
Константин Станюкович
Вокруг света на «Коршуне»
Глава пятая.
Юный литератор
Прошло два месяца после того, как Ашанин оставил Кохинхину, унося в своем сердце отвращение к войне и к тому холодному бессердечью, с каким относились французы к анамитам, – этим полудикарям, не желавшим видеть в чужих пришлых людях друзей и спасителей, тем более что эти «друзья», озверевшие от войны, жгли деревни, уничтожали города и убивали людей. И все это называлось цивилизацией, внесением света к дикарям.
Снова Володя был на своем милом «Коршуне» между своими – среди офицеров-сослуживцев, к большей части которых он был искренно расположен, и среди матросов, которых за время долгого совместного плавания успел полюбить, оценив их отвагу и сметливость и их трогательную преданность за то только, что с ними, благодаря главным образом капитану, обращались по-человечески и не делали из службы, и без того тяжелой и полной опасностей, невыносимой каторги. Снова Володя правил пятой вахтой, сменяя Лопатина и сдавая вахту первому лейтенанту – Поленову, и исполнял все прежние свои служебные обязанности по заведыванию фор-марсом, кубриком, капитанским катером и двумя орудиями, не забывая и чтений для матросов. И как же был он внутренне удовлетворен и счастлив, когда первый раз по возобновлении этих бесед аудиторию его составляла большая толпа матросов, видимо обрадованная появлению лектора и жадно внимавшая каждому его слову.
По-прежнему и капитан, и старший офицер, и старший штурман относились к Володе хорошо. В этом отношении опытных, испытанных моряков чувствовалось не одно только сердечное расположение добрых, хороших людей к юнцу, но – что было еще дороже и приятнее – и уважение к серьезному и внимательному исполнению служебного долга их младшего товарища. Старый штурман, обыкновенно не очень-то благоволивший к флотским и особенно к тем, кому, по его выражению, «бабушка ворожит», напротив, видимо, благоволил к Ашанину и за то, что он не лодырь, и за то, что не рассчитывает на протекцию дядюшки-адмирала, и за то, что Володя недурно (что было уже большим комплиментом со стороны педанта-штурмана) берет высоты солнца и делает вычисления, и за то, наконец, что в нем не было и тени того снисходительно барского отношения к штурманам, какое, по старым традициям, укоренившимся во флоте, существовало у большинства флотских офицеров, этих, относительно, баловней службы, к ее пасынкам – штурманам.
И Степан Ильич, случалось, зазывал Ашанина в свою образцовую по чистоте и порядку каюту и там беседовал с ним по душе, рассказывая о тяготе прежней службы, о несправедливостях и притеснениях, какие приходилось испытать.
– Ведь нас, штурманов, только терпят на судне, и каждый флотский считает нас в некотором роде париями… отверженной кастой… Еще бы! – они из потомственных дворян, а мы из разночинцев… Им, так сказать, все отличия службы, а нам черная работа и вечное подчинение, – говорил не без горькой иронии обойденного человека почтенный старый служака. – Я вот тридцать пять лет прослужил и всего штабс-капитан… Еще слава богу, если умру в чине полковника, а вы через тридцать пять лет будете адмиралом. У вас с начала службы впереди повышения, карьера, а у нас – постоянная лямка и ничего впереди… Неудивительно, что нередко из штурманов выходят озлобленные мрачные люди… Так-то-с, батенька!
Володя слушал и только дивился тому, что сам Степан Ильич, этот безукоризненный служака и рыцарь долга, после всего им испытанного в течение службы не озлобился и нисколько не походил на угрюмых и подозрительных типичных штурманов, а напротив, отличался добродушием и необыкновенной сердечностью.
По-прежнему и Ворсунька был не только исправным вестовым и рачительным хранителем имущества Ашанина, но и добрым, преданным человеком, любившим Володю. Ему обыкновенно он передавал свои впечатления, ему сообщал все новости из матросской жизни, с ним советовался насчет гостинцев для жены. По-прежнему Бастрюков любил пофилософствовать с Володей, открывая перед ним все новые черты своего золотого сердца и нередко дивя своим мировоззрением, полным любви и прощения, своими тонкими замечаниями и необыкновенной любовью к работе, – без какой-нибудь работы Бастрюков никогда не бывал:
И Ашанину жилось хорошо на «Коршуне», а впереди, казалось, будет еще лучше. А пока он был усиленно занят составлением отчета о своей командировке для представления его адмиралу Корневу, почти все свободное от вахт и служебных занятий время он посвящал этой работе. Еще в Сайгоне он достал несколько книг о Кохинхине и собрал немало сведений и цифр при обязательном содействии французских офицеров и обрабатывал собранный материал, дополняя его личными наблюдениями, стараясь, по возможности, сделать отчет полным и не осрамиться перед строгим и требовательным адмиралом. Но вместо сухого отчета у Володи выливалась страстная, полемическая статья, направленная, главным образом, против войны.
За эти два месяца «Коршун», согласно полученным инструкциям, обошел почти все гавани южного побережья Приморской области, которое только что перешло от Китая к России. Это были пустые, тогда еще совсем не заселенные гавани и рейды, – по берегам которых ютилось несколько хижин манз (беглых китайцев), занимавшихся на своих утлых лодчонках добычей морской капусты, – с девственными лесами, в которых, по словам манз, бродили тигры и по зимам даже заходили к поселкам, нападая на скот и, случалось, на неосторожных людей.
Обойдя все порты и сделав описи некоторых, «Коршун» отправился в японский порт Хакодате и стоял там уже неделю, ожидая дальнейших инструкций от адмирала, который на флагманском корвете с двумя катерами был в Австралии, отдав приказание капитану «Коршуна» быть в назначенное время в Хакодате и ждать там предписания.
Ашанин, занятый отчетом, почти не съезжал на берег и только раз был с Лопатиным в маленьком чистеньком японском городке. Зашел в несколько храмов, побывал в лавках и вместе с Лопатиным не отказал себе в удовольствии, особенно любимом моряками: прокатился верхом на бойком японском коньке за город по морскому берегу и полюбовался чудным видом, открывающимся на одном месте острова – видом двух водяных пространств, разделенных узкой береговой полосой Тихого океана и Японского моря.
Проскакав с большой отвагой, хотя и с малым умением ездить верхом, несколько верст, моряки вернулись в город, и Володя тотчас же отправился на корвет оканчивать свой труд. Оставалось переписать несколько страниц… Того и гляди, нагрянет адмирал, а у Ашанина работа еще не готова.
Наконец, толстая объемистая тетрадь, испещренная цифрами и полная самых горячих излияний, едва ли пригодных в отчете, окончательно переписана и просмотрена. Автор, как все юные авторы, казалось, удовлетворен и ищет стороннего одобрения. Подвернулся Лопатин, и автор читает ему отрывки. Но мичмана, по-видимому, не особенно интересует ни исторический очерк Кохинхины, ни личность анамского короля Ту-Дука, ни резня миссионеров, ни список французских кораблей, ни цифры французских войск и их заболеваемости, ни страстные филиппики против варварского обращения с анамитами, ни лирические отступления об отвратительности войн, ни наивные пожелания, чтобы их не было и чтобы дикарям не мешали жить, как им угодно, и насильно не обращали в христианство.
– Однако! – воскликнул жизнерадостный мичман Лопатин, воспользовавшись перерывом чтения.
Ашанин вопросительно взглянул на своего слушателя.
– Вы вместо коротенького служебного отчета целую статью наваляли!
Это «наваляли» резануло ухо автора.
– А разве уж так много?
– Многовато, голубчик. И как только вам не надоело исписать столько бумаги… Эка тетрадища какая! Я, признаться, так едва осиливаю длинное письмо.
– Но, во всяком случае, скажите откровенно, как вам показались отрывки: интересны или нет?
Ашанин еще во время чтения скорее чувствовал, чем видел, что слушателю совсем неинтересна его статья, но все-таки почему-то спросил.
– Если правду говорить, то не очень… Сухая материя. Ту-Дуки какие-то, Куан-Дины, сборы податей, – одним словом… скучновато… И откуда только вы набрали столько сведений?.. И на кой они черт в отчете?.. Но написано живо, очень живо, со слогом… на двенадцать баллов! – поспешил прибавить Лопатин, заметивший, как внезапно омрачилось лицо юного автора.
– Но ведь необходимо же было объяснить историю страны, которой завладели французы…
– Я, впрочем, не судья… Может быть, и надо… Черт его знает! Но только, знаете ли, что я вам скажу, Владимир Николаевич…
– Что?
– Как бы глазастый дьявол, адмирал, не посадил вас на салинг за вашу литературу.
– На салинг? За что же на салинг, позвольте вас спросить?.. Велел написать отчет, и на салинг! Это довольно странно! – промолвил окончательно павший духом Ашанин.
– А за все ваши разные идеи.
– Какие идеи?
– Да эти насчет войн, и все такое…
– Вы с ним не согласны?
– Не вполне… Вы уже очень того… замечтались… Да я-то что! Согласен или не согласен, вам наплевать! А вот беспокойный адмирал…
– Что же беспокойный адмирал?
– Взъерепенится… Уж вы лучше всю эту «антимонию» исключите!.. А то адмирал разнесет вас вдребезги… небо с овчинку покажется.
Это неожиданное предложение исключить те места, в которых вылилась душа автора и которые, казалось ему, были самыми лучшими и значительными во всем труде, показалось Ашанину невозможным, возмутительным посягательством, и он энергично восстал против предложения Лопатина. Уж если на то пошло, он непрочь исключить многое, но только ни одной строчки из того, что Василий Васильевич назвал «антимонией».
– Ни единой! Понимаете ли, ни единой! – вызывающе воскликнул Ашанин. И, наконец, ведь он не обязан писать то именно, что нравится адмиралу. Обязан он или нет?
– Ну, положим, не обязаны…
– Так пусть сажает на салинг, если он, в самом деле, такой башибузук, каким вы его представляете. Пусть! – порывисто говорил Ашанин, охотно готовый не только высидеть на салинге, но даже претерпеть и более серьезное наказание за свое сочувствие к анамитам. – Но только вы ошибаетесь… адмирал не пошлет на салинг…
– Очень буду рад за вас… Ну-ка, валяйте еще, а то скоро обедать! – с печальной миной сказал Лопатин.
Но Ашанин уже больше не «валял» и, закрыв тетрадь, спрятал ее в шифоньерку, проговорив:
– И дальше не особенно интересно…
Видимо обрадованный исчезновением тетради, Лопатин предложил Володе после обеда съехать на берег и покататься верхом и поспешил удрать из каюты.
Мнение мичмана несколько смутило молодого человека, и он несколько минут сидел в раздумье над своей тетрадью. Наконец, видимо принявший какое-то решение, он взял рукопись и пошел к капитану.
– Имею честь представить отчет, составленный по приказанию адмирала, для представления его превосходительству! – взволнованно проговорил Ашанин, кладя на стол свою объемистую тетрадь.
– Ого… труд весьма почтенный, судя по объему! – мягко и ласково проговорил Василий Федорович, взявши рукопись. – Вы хотите, чтобы я послал адмиралу?.. Не лучше ли вам самому представить при свидании. Я думаю, мы скоро увидим адмирала или, по крайней мере, узнаем, где он… Завтра придет почтовый пароход из Го-Конга и, вероятно, привезет известия… Лучше сами передайте адмиралу свою работу. Он, наверное, заставит вас ему и прочесть.
– Слушаю-с, Василий Федорович.
С этими словами Ашанин хотел взять со стола положенную капитаном рукопись.
– А разве вы не позволите и мне познакомиться с вашей работой? – любезно остановил его капитан.
Ашанин не желал ничего лучшего. Весь вспыхивая не то от удовольствия, не то от смущения, что его статья будет прочтена таким человеком, как капитан, Ашанин взволнованно проговорил:
– Я очень рад… Боюсь только, что мой отчет неинтересен…
– Об этом предоставьте судить другим, Ашанин! – промолвил, улыбаясь, капитан.
Когда вскоре после обеда Ашанин, заглянув в открытый люк капитанской каюты, увидел, что капитан внимательно читает рукопись, беспокойству и волнению его не было пределов. Что-то он скажет? Неужели найдет, как и Лопатин, статью неинтересной? Неужели и он не одобрит его идей о войне?
Капитан читал несколько часов подряд. Ашанин это видел – недаром ему не сиделось в каюте, и он то и дело выбегал наверх и заглядывал в люк.
«Читает… Значит, не так уже скучно, как говорил Лопатин!» – радостно заключал Ашанин и снова спускался вниз, чтобы минут через десять снова подняться наверх. Нечего и прибавлять, что он отказался ехать на берег кататься верхом, ожидая нетерпеливо приговора человека, которого он особенно уважал и ценил.
С полуночи он стал на вахту и был несколько смущен оттого, что до сих пор капитан не звал его к себе. «Верно, нашел мою работу скверной и из деликатности ничего не хочет сказать. А может быть, и не дочитал до конца… Надоело!» – раздумывал юный самолюбивый автор, шагая по мостику.
Но вот в темноте мелькнула фигура капитана. Он поднялся на мостик и, приблизившись к Ашанину, проговорил:
– Я только что окончил вашу статью о Кохинхине, Ашанин, и прочел ее с интересом. У вас есть способность излагать свои мысли ясно, живо и местами не без огонька… Видно, что вы пробыли в Кохинхине недаром… Адмирал угадал в вас человека, способного наблюдать и добросовестно исполнить возложенное поручение. В последнем, впрочем, я и не сомневался! – прибавил капитан.
Ашанин был в восторге от похвалы капитана. Теперь ему было все равно, как отнесется к его работе даже сам адмирал, – ведь Василий Федорович похвалил! А мнение такого человека было в то время для Ашанина самым дорогим.
Необыкновенно счастливый заснул после вахты Ашанин, собираясь следующий день съехать на берег и предпринять дальнюю поездку верхом.
В восьмом часу утра Ворсунька, по обыкновению, пришел будить Володю.
– Ваше благородие… Владимир Николаевич… Извольте вставать… Пора!
Но разоспавшийся Ашанин, казалось, ничего не слышал и продолжал сладко спать.
– Скоро подъем флага… Владимир Николаевич! – говорил Ворсунька, потягивая Ашанина за ногу.
– Еще четверть часика дай поспать… Только четверть часика! – сквозь сон промычал Володя.
– Никак невозможно… До флага всего десять минут…
– Ну, пять минут я еще посплю… Буди через пять.
Вестовой постоял минутку и снова дернул Ашанина за ногу.
– Пять минут прошло… Вставайте, ваше благородие. Все господа уже вставши… Да и пары разводят. Сейчас с якоря снимаемся…
– Как с якоря снимаемся? Что ты рассказываешь? – спрашивал Ашанин, внезапно просыпаясь и протирая сонные глаза. – Разве пришел почтовый пароход из Го-Конга?
– Не могу знать, ваше благородие. Но только в шесть часов утра от концыря (консула) приходила шлюпка с письмом к капитану и тую ж минуту приказано разводить пары…
Через несколько минут Ашанин уже был наверху к подъему флага. Пары гудели. Капитан и старший офицер, стоявшие на мостике, видимо, были возбуждены, и лица у обоих выражали нетерпение.
– Свистать всех наверх сниматься с якоря! – раздался голос вахтенного офицера.
– Что это значит: куда мы идем? – спрашивал Ашанин у лейтенанта Поленова на баке, где должен был находиться по расписанию во время аврала.
– Разве вы ничего не знаете? – Мы идем на Сахалин… Клипер «Забияка» на каменьях… Сегодня пришла оттуда английская шхуна и привезла письмо с «Забияки» к консулу с этим известием… Мы идем на помощь… Досадно только, что в море сильный туман…
Действительно, густой туман заволакивал выход с рейда, а на рейде носился легкий туман. Солнце казалось тусклым пятном. Было тепло и сыро и пахло банным воздухом.
– Пошел шпиль![110] – раздался нетерпеливый возбужденный окрик старшего офицера с мостика.
– Есть! – отозвался лейтенант и в свою очередь крикнул матросам: – Ходи веселей, братцы!
И матросы сильнее наваливались на вымбовки[111], упираясь на них грудью, и якорная цепь с тихим лязгом выбиралась через клюз[112].
Все гребные суда были подняты, и орудия закреплены по-походному. Пары гудели.
– Как якорь? – снова раздался окрик с мостика.
– Апанер[113].
Рулевые стали у штурвала.
– Тихий ход вперед!
Машина застучала, и корвет, сделав оборот, направился к выходу с рейда.
Просвистали подвахтенных вниз. Но капитан и старший штурман оставались на мостике, серьезные и слегка возбужденные, посматривая на окутанное туманом море.
Туман все сгущался, и когда «Коршун» вышел с рейда, то очутился словно в молочной бездне, сырой и непроницаемой. В нескольких шагах ничего не было видно. Только слышался всплеск рассекаемой воды да мерное постукивание машины.
– Полный ход вперед! – крикнул капитан в машину.
Винт забурлил быстрей, и «Коршун» понесся полным ходом среди непроницаемой мглы, спеша на помощь бедствующему товарищу.
Колокол беспрерывно гудел на баке. Протяжно гудел и свисток трубы, предупреждая встречные суда об опасности столкновения[114]. Часовые на баке чутко прислушивались, не раздастся ли поблизости такого же звона или гудения свистка парового судна. Но каждый понимал, что все эти меры только отчасти гарантируют безопасность столкновения. И, зная это, все понимали, что все-таки нужно было идти полным ходом, чтобы выручать товарища в беде, и вполне сочувствовали отважному решению капитана.
Глава шестая.
Выручка «Забияки»
Туман, довольно частый в Японском море и в Японии, казалось, надолго заключил «Коршуна» в свои влажные, нерасторжимые объятия. День близился к концу, а туман был так же страшен своей непроницаемостью, как и утром. Стоял мертвый штиль, и не было надежды на ветер, который разогнал бы эти клубы тумана, словно злые чары, скрывшие все от глаз моряков.
И неустанный, скорый бег «Коршуна», передние мачты которого едва вырисовывались с мостика, а бушприта было совсем не видать, – этот бег среди белесоватой мглы и безмолвия производил на Ашанина, как и на всех моряков, впечатление какой-то жуткой неопределенности и держал нервы в том напряженном состоянии, которое бывает в невольном ожидании неведомой опасности, которую нельзя видеть, но которая может предстать каждую минуту – то в виде неясного силуэта внезапно наскочившего судна, то в виде неясных очертаний вдруг открывшегося, страшно близкого берега. Недаром же моряки, самые опытные и бесстрашные, так не любят туманы, предпочитая им хотя бы свирепые штормы. Ничто так не действует на психику человека, как неизвестность положения…
Капитан не сходил с мостика, чутко прислушиваясь и зорко всматриваясь в окутавшую со всех сторон пелену. Он наскоро закусил несколькими бутербродами с ветчиной и на мостике же выпил чашку чаю.
Напрасно старший офицер упрашивал командира спуститься вниз, пообедать как следует и отдохнуть. Капитан не соглашался и, словно бы желая выяснить, почему он не уходит, проговорил:
– Я уверен, что вы, Андрей Николаевич, распорядитесь не хуже меня в случае какого-нибудь несчастья… Слава богу, мы друг друга знаем. Но в данном случае я не могу уйти… Ведь я рискнул идти полным ходом в этот дьявольский туман, и, следовательно, я один должен нести ответственность за все последствия моего решения и быть безотлучно на своем посту… Вы ведь поймете меня и не объясните мое упорство недоверием к вам, Андрей Николаевич!
Старший офицер больше не настаивал. И он подумал, что сам поступил бы точно так, если бы был командиром.
– А спешить необходимо, – продолжал капитан. – Эти гряды в Дуйском порте[115] на Сахалине, в которых застрял «Забияка», очень опасны. Я бывал в Дуэ. Тоже чуть нас не выбросило на каменья… Отвратительная дыра!
– Еще слава богу, что не свежо теперь! – заметил старший офицер.
– Да, будь свежо, «Забияку» разбило бы… Бог даст, мы застанем его еще целым. Он пять дней тому назад вскочил на камни, судя по письму командира, доставленному английской шхуной…
– Как могло с ним случиться такое несчастье, Василий Федорович?
– Очень просто. Задул с моря норд-ост и быстро усилился до степени шторма, а рейд в Дуэ открыт для этого ветра. Уйти в море уж было невозможно, и капитан должен был выдержать шторм на якорях. Якоря не выдержали, на беду машина слаба, не выгребала против ветра, и клипер бросило на камни…
– Бедный Арбузов. Попадет под суд теперь. И что-то скажет адмирал! – проговорил старший офицер.
– Арбузов опытный капитан и, конечно, сделал все, что было возможно, для сохранения судна и людей… Ну, и адмирал наш сам лихой моряк и сумеет несчастье отличить от неумения или небрежности… Да и все мы, моряки, никогда не застрахованы от беды… Вот хоть бы теперь… долго ли до несчастья в этом проклятом тумане… Какой-нибудь па…
Капитан оборвал на полуслове речь и дернул ручку машинного телеграфа. Машина вдруг застопорила… Вблизи раздался звук колокола. На «Коршуне» зазвонили сильней.
– Ракету! – приказал капитан.
Спустили ракету.
Прошла минута, другая. Звона уже не было слышно. Кругом стояла тишина.
– Полный ход вперед! – приказал капитан.
И корвет снова понесся в молочной мгле, благополучно разойдясь с невидимым судном.
Выскочившие наверх офицеры и матросы облегченно вздохнули. Некоторые крестились. У всех пробежала мысль о миновавшей опасности.
Старший штурман, серьезный, озабоченный и недовольный, каким он бывал всегда, когда «Коршун» плыл вблизи берегов или когда была такая погода, что нельзя было поймать солнышка и определиться астрономически и приходилось плыть по счислению, частенько посматривал на карту, лежавшую в штурманской рубке, и затем поднимался на мостик и подходил к компасу взглянуть, по румбу ли правят, и взглядывал сердито на окружавшую мглу, точно стараясь пронизать ее мысленным взором и убедиться, что течение не отнесло корвет к берегу или к какому-нибудь острову на пути. Казалось бы, ничего этого не могло быть, так как, принимая в соображение туман, курс «Коршуна» был проложен среди открытого моря, в благоразумном отдалении от опасных мест, но кто его знает это течение: не снесло ли оно в сторону? А главное, его озабочивал проход Татарским проливом, отделяющим остров Сахалин от материка. Этот пролив узок, и там в тумане наскочить на берег весьма возможно. По расчету счисления, к проливу корвет должен был подойти на утро следующего дня.
«Если бы хоть к тому времени немного прочистилось!» – думал штурман, желая ветерка. Он редко спускался в кают-компанию, чтобы наскоро выкурить папироску или наскоро выпить рюмку водки и закусить, и был неразговорчив. И когда кто-то из молодых мичманов спросил его, когда, по его мнению, туман рассеется, он только недовольно пожал плечами и снова побежал наверх.
Никому в этот день не сиделось в кают-компании, и не было, как обыкновенно, оживленных бесед и споров. Пообедали почти молча и скоро, и после обеда все вышли наверх, чтобы снова увидать эту непроглядную мглу, точившую из себя влагу в виде крупных капель, и снова слышать звон колокола и гудение свистка.
В восемь часов вечера Ашанин вступил на вахту, сменив Лопатина. В темноте вечера туман казался еще непроницаемее. С мостика ничего не было видно, и огоньки подвешенных на палубе фонарей еле мигали тусклым светом. Ашанин проверил часовых на баке, осмотрел отличительные огни и, поднявшись на мостик, чутко прислушивался в те промежутки, когда не звонил колокол и не гудел свисток.
Почти беспрерывно с бака жгли фальшфейеры и время от времени пускали ракеты.
Так прошел час, другой, как вдруг потянул ветерок, и туманная мгла стала понемногу прочищаться…
И капитан радостно проговорил, обращаясь к старшему штурману:
– Прочищается, Степан Ильич!
– Как будто к тому идет! – весело отвечал старший штурман.
К одиннадцати часам корвет уже вышел из туманной мглы.
Она темной густой пеленой осталась за ним. Впереди горизонт был чист. На небе сияла луна и мигали звезды.
Жуткое чувство, которое не покидало Ашанина с начала вахты, внезапно исчезло, и он полной грудью, весело и радостно крикнул:
– Вперед хорошенько смотреть!
И часовые на баке так же радостно ответили:
– Есть, смотрим!
Колокол уже не звонил, и свисток не гудел. И словно с корвета были сняты чары. Он весь со своими мачтами и снастями вырисовывался в полусвете лунной ночи.
– Ну, теперь, я думаю, нам можно и соснуть, Степан Ильич? – промолвил капитан, обращаясь к старшему штурману.
– Вполне можно-с, Василий Федорович, К Татарскому проливу подойдем не раньше утра…
– Самый полный ход вперед! – весело крикнул капитан в переговорную трубку и двинул ручку машинного телеграфа.
Машина застучала сильнее.
– Когда менять курс будем?.. в четыре утра?
– В четыре…
– Так передайте на вахту, чтобы меня разбудили в четыре! – приказал Ашанину капитан. – И, разумеется, разбудите меня и раньше, если что-нибудь случится…
– Есть!
– И, если ветер позволит, поставьте паруса. Все-таки ходу прибавится.
– Есть!
– Ну, до свиданья, Ашанин. Хорошей вахты!
Капитан спустился вниз и, не раздеваясь, бросился на диван и тотчас же заснул. А старый штурман, придя в кают-компанию, велел дежурному вестовому подать себе рюмку водки, честера и хлеба и, основательно закусив, снова поднялся наверх, в штурманскую рубку, поглядел на карту, отметил приблизительный пункт места корвета и, поднявшись на мостик, сказал Ашанину:
– Смотрите, голубчик, дайте мне немедленно знать, если увидите какой-нибудь подозрительный огонек… И попросите о том же Поленова, когда он сменит вас. Не забудете?
– Будьте покойны.
– То-то, на вас я надеюсь… Эка славно-то как стало… И ночь светленькая… все видно! – воскликнул Степан Ильич, осматривая в бинокль еще раз горизонт. – А парусов, пожалуй, и не придется ставить… Ветерок еле вымпел раздувает… Ну, что, как вам понравился этот подлюга-туман? Верно, такого никогда еще не видали?
– Не видал… И, признаюсь, мне было жутко, Степан Ильич.
– А, вы думаете, мне не было жутко? – мягко промолвил штурман. – Еще как жутко! Места себе не находил, и в голову все скверные мысли лезли… А Василию Федоровичу, я полагаю, и еще жутче было… Ведь ответственность-то вся на нем, что мы дали полным ходом в тумане… И главное – нравственная ответственность, а не то, что перед судом… И он молодчага – решился… Другой бы не торопился так вызволять товарища, а он… Зато и пережил он много в этот денек… Недаром с мостика не сходил… На душе-то кошки скребли… Только не показывал он этого… вот и все… И нельзя себя обнаруживать хорошему моряку, чтобы не наводить паники на других… Так-то, голубчик… Ну, прощайте… Я спать пошел!
Старший штурман спустился в палубу, и Ашанин остался один сторожить безопасность «Коршуна» и бывших на нем моряков.
После этого жуткого дня все сладко спали, кроме вахтенных.
В третьем часу следующего дня «Коршун» входил на неприветный Дуйский рейд, мрачный и пустынный, окаймленный обрывистыми лесистыми берегами, с несколькими видневшимися на склоне казарменными постройками, в которых жили единственные и невольные обитатели этого печального места – ссыльно-каторжные, присланные на Сахалин для ломки каменного угля, и полурота линейных солдат для надзора за ними.
Далеко от берега белелись в разных местах буруны, ходившие через гряды камней, которыми усеяна эта бухта, и на одной из таких гряд, с опущенными стеньгами и брам-стеньгами, значительно разгруженный, стоял бедный клипер «Забияка». Около него длинной вереницей копошились гребные суда, пробуя тщетно стянуть с каменьев плотно засевший клипер.
Как только «Коршун» подошел, насколько было возможно, близко к клиперу и, не бросая якоря, остановился, поддерживая пары, с «Забияки» отвалил вельбот, и через несколько минут командир «Забияки», плотный, коренастый брюнет с истомленным, осунувшимся лицом, входил на палубу «Коршуна», встреченный, как полагается по уставу, со всеми почестями, присвоенными командиру. Он радостно пожимал руку Василия Федоровича и в первую минуту, казалось, не находил слов.
– Откуда вас бог сюда прислал, Василий Федорович? – наконец, спросил он.
Они спустились в каюту, и там произошла трогательная сцена. Когда командир «Забияки» узнал, что «Коршун» в тумане полным ходом шел к нему на помощь, он с какой-то благодарной порывистостью бросился целовать товарища и проговорил со слезами на глазах:
– Без вас мне грозила гибель… Поднимись ветер… и «Забияку» разбило бы в щепы на этих каменьях…
Через четверть часа «Коршун» уж подал буксиры на «Забияку» и стал его тащить… Машина работала самым полным ходом.
Долго все усилия были тщетны. Наконец, к вечеру «Забияка» тронулся, и через пять минут громкое «ура» раздалось в тишине бухты с обоих судов. Клипер был на вольной воде и, отведенный подальше от берега, бросил якорь. Отдал якорь и «Коршун».
И почти в этот самый момент на рейд входил корвет под адмиральским флагом на крюйс-брам-стеньге, а на грот-брам-стеньге были подняты позывные «Коршуна» и сигнал: «Адмирал изъявляет свое особенное удовольствие».
Салют адмиральскому флагу раздался с обоих судов, и как только дым рассеялся, оба капитана, собиравшиеся ехать к адмиралу с рапортами, увидали, что гичка с адмиралом уже несется к «Забияке».
Утром следующего дня «Коршун» вел на буксире «Забияку» в Гонконг в док в сопровождении адмиральского корвета.







